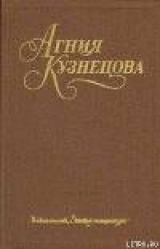
Текст книги "А душу твою люблю..."
Автор книги: Агния Кузнецова (Маркова)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Николай Афанасьевич унаследовал от прадеда его деловитость и энергию. Он получил блестящее образование. В совершенстве владел немецким, английским и французским языками. И в отличие от других Гончаровых хорошо знал русский. Старшему сыну он чаще всего писал по-русски.
Наталья Николаевна вспоминает свою мать Наталью Ивановну. Говорили, что в молодости та была очень красива. Быть может, не менее красива, чем ее младшая дочь. Отец женился на ней в 1807 году, когда она, будучи фрейлиной, вынуждена была отойти от двора, потому что Охотников, фаворит императрицы, влюбился в нее. Вскоре после ее замужества родился сын Дмитрий, затем Екатерина, Иван, Александр…
В войну 1812 года, когда французы приближались к Полотняному заводу, Николай Афанасьевич Гончаров отвез семью в Кариан, поместье Загряжских, Тамбовской губернии. Там и родилась Наталья Николаевна. А в это время на Полотняном заводе уже размещался штаб русской армии во главе с Кутузовым.
После войны семья возвратилась на Полотняный завод, но ненадолго; отец упал с коня во время скачек, зашиб голову и после этого психически заболел. Так, во всяком случае, все это объяснялось. Семье пришлось переехать в Москву. Только пятилетнюю Наташу дед Афанасий Николаевич, как любимую свою внучку, оставил при себе с разрешения матери ее, Натальи Ивановны.
Афанасий Николаевич в это время немного остепенился. Привезенная им француженка мадам Бабе, которую – Наталья Николаевна помнила – все за глаза называли «парижской прачкой», жила на положении жены. А законная жена – бабушка Надежда Платоновна – поселилась отдельно.
Афанасий Николаевич души не чаял в своей внучке.
Ярко-ярко всплыло в памяти: лето, солнечный, теплый день; Наташа с дедушкой гуляет в парке. На ней нарядное розовое платье, кружевные оборки которого треплет легкий ветерок, закидывает на плечи розовые ленты от шляпки, шевелит белые, в кружевах, панталоны, спускавшиеся к белым ботинкам. Наташа держит в руках большую куклу, выписанную дедушкой из Парижа. Она тоже вся в розовом.
Дедушке подводят коня. Он не по возрасту легко вскакивает в седло, и нянюшка подает ему внучку.
Они едут по аллеям парка, едут медленно, но Наташе все-таки страшно с такой высоты смотреть на посыпанные красным песком дорожки, многоцветные клумбы. Страшно ехать вровень с ветвями цветущих лип, вровень с крышами беседок, отделанных нарядным деревянным кружевом.
Многие родные не верят, что Наталья Николаевна так рано начала помнить себя. Но память на прошлое у нее действительно необычная. Она, например, очень ярко представляет себе, когда ее – пятилетнюю – дедушка отпустил погостить к родителям и поручил ей увезти в подарок отцу фамильный перстень и письмо.
Она и теперь вспоминает утомительный путь из Полотняного завода в Москву, возок, в котором ехала она с нянюшкой и еще двумя женщинами. Кто они были?..
Позднее она узнала, что тот перстень отец передал старшему сыну Дмитрию, а с нею в обратный путь послал дедушке письмо, в котором благодарил за подаренное кольцо, но добавил, что считает себя из-за болезни недостойным носить его.
Наташе исполнилось шесть лет, и дедушка нанял учителей – обучать ее музыке, русскому языку, рисованию.
Дедушка нежно любил свою внучку, и она платила ему тем же. Он до самой смерти оставался ее добрым другом. Когда сватовство Пушкина было холодно встречено родными, Наталья Николаевна писала Афанасию Николаевичу:
Сего 5 майя 1830 года. Любезный Дедушка! Узнав через Золотарева сомнения ваши, спешу опровергнуть оные и уверить вас, что все то, что сделала Маминька, было согласно с моими чувствами и желаниями. Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают, и умоляю вас по любви вашей ко мне не верить оным, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета. В надежде, любезный Дедушка, что все ваши сомнения исчезнут при получении сего письма и что вы согласитесь составить мое щастие, целую ручки ваши и остаюсь навсегда покорная внучка ваша
Н а т а л ь я Г о н ч а р о в а.
И второе письмо.
Сего 2 майя 1830 года. Любезный Дедушка! Позвольте принесть вам мою. усерднейшую благодарность за вновь оказанное вами мне благодеяние. Никогда не сомневалась, любезный Дедушка, в вашем добром ко мне расположении и сей новый знак вашей ко мне милости возбуждает во мне живейшую признательность. Для дополнения щастия моего остается мне только, любезный Дедушка, просить вас о вашем родительском благословении…
Н а т а л ь я Г о н ч а р о в а.
Письма ли подействовали, изменились ли какие-то обстоятельства, но Афанасий Николаевич благословил внучку и пригласил ее вместе с женихом в гости.
Вспомнился Наталье Николаевне и тот день, когда по желанию матери она возвратилась от дедушки в родную семью.
Была зима. Ее вынесли из возка, одетую в нарядную соболью шубку. Сбежались братья и сестры. Наташа испуганно смотрела на них и чуть было не расплакалась, когда мать, сердито сдвинув брови, сказала, сбрасывая с нее шубку, что дедушка зря приучил ее к такой роскоши.
Последний раз дедушку Афанасия Николаевича видела Наталья Николаевна, когда он приезжал на крестины ее старшей дочери Марии Пушкиной. В том же году он умер.
«Милый, милый дедушка!» – думает Наталья Николаевна, вспоминая его горячую привязанность к себе. Она прощает ему буйство молодости, разгульную жизнь зрелых лет. Она с нежностью представляет его сухую, сгорбленную фигуру, облысевшую, в венчике седых волос голову, сморщенное лицо, под старость ставшее совсем усохшим, и живые, нестарческие глаза.
Жизнь в Москве в доме Гончаровых была совсем другой, чем на Полотняном заводе. Никто уже не баловал Наташу, не выписывал ей из-за границы игрушек, не прислушивался к ее желаниям.
Дети жили в постоянном ожидании психических приступов отца. В буйном состоянии он был страшен. Мать хотела отправить его в больницу, но, когда с этой целью приезжали врачи, он, словно предчувствуя это, вел себя почти как нормальный человек.
Отец обычно обедал с семьей. Когда в обширной столовой был накрыт стол и все рассаживались по своим местам, за Николаем Афанасьевичем посылали горничную.
Наталья Николаевна помнила, как однажды отец увидел на столе забытый графин с водкой. К ужасу матери и прислуги, которые знали, что спиртного ему нельзя, он торопливо сделал несколько глотков прямо из графина, и тотчас же опьянение перешло в буйный приступ: схватив нож, он бросился на жену. Замирая от страха, сидели дети. Они не имели права выходить из-за стола без разрешения матери, которую боялись не меньше отца. И только когда та подала знак салфеткой, дети кинулись спасаться в мезонин, где была тяжелая дверь со щеколдой.
Мать всегда требовала от детей полного повиновения. С возрастом ухудшался и без того тяжелый характер Натальи Ивановны. Она становилась религиозной фанатичкой и деспотом. В доме, помимо гувернеров и гувернанток, жили странницы, монахини, набожные приживалки.
Наталье Николаевне на всю жизнь запомнилась странница Татьяна Ивановна – в черном одеянии, высокая, с мохнатыми мужскими бровями и такими маленькими глазками, что их не было видно, только злой огонек мелькал в ее припухших веках. Она постоянно следила за детьми, подслушивала их разговоры и доносила Наталье Ивановне.
Наталья Николаевна теперь уж не могла вспомнить, о каком ее проступке донесла матери Татьяна Ивановна. У детей была гувернантка Софья Павловна – ласковая, немолодая, настолько полная женщина, что казалась мягкой, и детям доставляло удовольствие дотронуться до нее, будто бы невзначай, пальцем. Дети любили Софью Павловну. И вот она-то с сочувствием сказала девочке, что ее немедленно требует к себе Наталья Ивановна. Наташа перепугалась до слез, долго крестилась у дверей маменькиного будуара. За какую-то незначительную провинность Наталья Ивановна отхлестала девочку по щекам. Было не больно, но до боли обидно…
А в гостиной – тихий разговор родных.
– Никогда, – полушепотом говорила Мария, она сидела в кресле и, опираясь локтями о круглый стол, сжимала ладонями виски, – никогда от маменьки мы не слышали несправедливого или грубого слова. Вы, Петр Петрович, не напрасно всегда считали ее мудрой не по возрасту. Вы помните фразу из ее письма? Я часто ее напоминаю знакомым: «Гнев это страсть, а всякая страсть исключает рассудок и логику». Право, эти слова можно ставить эпиграфом к какому-нибудь роману. Я помню и другие фразы из ее писем: «Я никогда не могла понять, как могут надоедать шум и шалости детей, как бы ты ни была печальна, невольно забываешь об этом, видя их счастливыми и довольными». Это была удивительная мать! Терпеливая, кроткая…
– «Была»! Ты уже, Маша, говоришь «была»… – с упреком дрожащими губами произнес Александр и поднялся.
Мария уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. Она очень походила на отца: тот же прекрасно очерченный, но великоватый для женщины рот, тот же нос, но более изящный, то же умное, проницательное выражение глаз, правда, более темных, чем у Пушкина. И волосы у нее совсем темные, разделенные на прямой ряд. Узел лежит низко, почти на шее, и длинные букли падают на грудь. Но она унаследовала во внешности многое и от матери, особенно матовую белизну кожи. Все это делало ее удивительно привлекательной: женственной и естественной.
С 1860 года Мария замужем за генерал-майором Гартунгом. Они жили в Туле, где потом и произойдет ее знакомство с Львом Николаевичем Толстым, который для образа Анны Карениной кое-что подглядит в Марии Александровне Гартунг своим всевидящим оком.
Тем временем Александр, осторожно ступая на носки, прошел в комнату матери. Он строен, высок, с отличной военной выправкой, и даже та печаль, в которой пребывал он теперь, не могла скрыть обычной живости его лица, блеска глаз с чуть неточным, как у матери, взглядом.
– Маменька, нужно что-нибудь? – ласково спросил он, останавливаясь в дверях.
– Ничего, милый, – тихо ответила она, – все хорошо. Хорошо, что все вы здесь. И Машенька приехала, только вот Таша…
Александр возвратился в гостиную. Они, дети, знали по рассказам, а старшие помнили о тех годах, когда мать, после смерти отца, осталась с четырьмя малютками на руках. Отец, умирая, сказал: «Поезжай в деревню. Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но только за порядочного человека».
И Наталья Николаевна поехала с детьми на Полотняный завод. Она не выходила замуж не два года, а семь лет! И это с ее удивительной красотой, перед которой с изумлением и радостью застывали люди, как перед совершенным произведением искусства. Два года она носила траурные одежды и всю жизнь траур в сердце. Дети Пушкина знали, что, умирая, он оправдывал ее: «Она, бедная, безвинно терпит!»
Александр помнил, как в их доме, когда они снова переехали в Петербург, появлялся то один, то другой, то третий жених. И все получали отказ. Мать говорила, что им нужна была она и не нужны дети. А она жила детьми. В этом была ее жизнь и радость существования. Она не хотела отдавать мальчиков на воспитание в казенные учреждения, считая, что только «родной глаз матери может следить за развитием детского ума». Но вот появился генерал Ланской, который полюбил Наталью Николаевну и с большой нежностью отнесся к детям ее. Они поженились…
Наталью Николаевну проведывали ежеминутно. Теперь к дверям ее комнаты, стараясь шагать неслышно, направился Петр Петрович. Он десятки раз в день подходит к постели жены и каждый раз не может скрыть от нее захлестывающее его волнение, предательскую дрожь рук. Его обычно спокойное, внимательное лицо покрывается неестественным румянцем, а в глазах застывает страх.
Она лежала все так же с открытыми глазами и при появлении мужа сделала едва уловимое движение рукой. Он подошел к кровати, опустился на колени и прижался щекой к ее щеке.
Глаза ее наполнились слезами, приподнятая было кисть руки бессильно упала, словно хотела она прикоснуться к его голове и не смогла.
И он вспомнил ее письма к нему, написанные в 1849 году.
Благодарю тебя за заботы и любовь. Целой жизни, полной преданности и любви, не хватило бы, чтобы их оплатить. В самом деле, когда я иногда подумаю о том тяжелом бремени, что я принесла тебе в приданое, и что я никогда не слышала от тебя не только жалобы, но что ты хочешь в этом найти еще и счастье, – моя благодарность за такое самоотвержение еще больше возрастает, я могу только тобою восхищаться и тебя благословлять.
Я слишком много страдала и вполне искупила ошибки, которые могла совершить в молодости: счастье, из сострадания ко мне, снова вернулось вместе с тобой.
Ко мне у тебя чувство, которое соответствует нашим летам; сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью, и именно поэтому это чувство более прочно, и мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет.
…Несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве… Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность, и меня в ней упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца.
«…Я, наверное, была бы хорошим педагогом, – неожиданно думает Наталья Николаевна, – дети с молодых лет были самой большой моей радостью». И она вспоминает, как часами писала полуписьма, полудневники о своих детях, пытаясь разобраться в их характерах. Ее старшая дочь, Александра Ланская, была очень трудным ребенком. Детей Пушкина, когда это было нужно, мать наказывала, но наказать Азю она не решалась – не показалось бы Ланскому, что к его ребенку она более строга.
Ночами Азя часто просыпалась, отталкивала няню и кричала:
– Мамочка, зажги свет! Посиди со мной! Расскажи мне сказку! Мне не надо няню! Я хочу тебя!
И Наталья Николаевна сидела с дочкой, тихонько уговаривая ее закрыть глазки и спать.
Наталья Николаевна вспоминает, как однажды она с детьми собралась на прогулку и няня одевала девочку. Но той показалось, что старушка слишком медленно застегивает ей пальто, и она крикнула ей:
– Ну что ты так копаешься, старая дура!
Няня расплакалась. И тогда педагогический такт Натальи Николаевны поборол все условности.
– Мы пойдем гулять. А тебя я наказываю. Попроси прощения у няни и сиди дома, – строго сказала Наталья Николаевна.
Прощения у няни Азя не попросила. Она была оскорблена тем, что ее вдруг наказали, и решила отомстить матери: выброситься в окно.
Она уже висела за окном, пальцами цепляясь за подоконник, когда ее увидела горничная.
– Не троньте меня! Я брошусь! Как смели меня наказать! Я им покажу! – кричала она, когда ее затаскивали в комнату.
Наталья Николаевна тяжело переживала этот случай, много думала, что предпринять дальше. И все же решилась поступить с дочерью строго.
Назавтра, в воскресенье, вся семья собиралась в церковь. Дети суетились, вертелись перед зеркалом. Взрослые наряжались.
– А ты, Азя, в наказание за вчерашнее – останешься дома, – сказала она дочери.
Та хитро улыбнулась:
– Но мне надо раскаяться в грехах!
Все рассмеялись. И Александра пошла в церковь замаливать вчерашний проступок.
Мальчиков все же пришлось отдать в Пажеский корпус. В 1849 году Саша Пушкин уже учился, а Гришу готовили поступать туда же. Маша и Таша учились дома.
Наталья Николаевна писала тогда мужу:
Если бы ты знал, что за шум и гам меня окружают. Это бесконечные взрывы смеха, от которых дрожат стены дома. Саша проделывает опыты над Пашей, который попадается в ловушку, к великому удовольствию всего общества.
А «общество» было большое. Кроме семерых детей, в доме Ланских постоянно жил Левушка Павлищев – сын сестры Пушкина Ольги Сергеевны, которого особенно любила Наталья Николаевна. О нем она писала Ланскому:
Горячая голова, добрейшее сердце. Вылитый Пушкин.
Часто жил у Ланских и племянник Петра Петровича – Павел. А потом и Нащокины попросили Наталью Николаевну брать к себе на праздники десятилетнего сына, который учился в Петербурге. Наталья Николаевна всем сердцем сочувствовала одинокому мальчику и с удовольствием брала его к себе.
Я рассчитываю взять его в воскресенье, – писала она Ланскому. – Положительно, мое призвание – быть директрисой детского приюта: бог посылает мне детей со всех сторон, и это мне нисколько не мешает, их веселость меня отвлекает и забавляет.
У меня было намерение после обеда отправиться вместе со всеми на воды, чтобы послушать прекрасную музыку Гунгля и цыганок, и я послала узнать о цене на билеты. Увы, это стоило по 1 рублю серебром с человека, мой кошелек не в таком цветущем состоянии, чтобы я могла позволить себе подобное безрассудство. Следственно, я отказалась от этого, несмотря на досаду всего семейства, и мы решили благоразумно, к великой радости Ази, которая не должна была идти на концерт, отправиться на Крестовый полюбоваться плясунами на канате. Никто не наслаждался этим спектаклем с таким восторгом, как Азя и Лев Павлищев; этот последний хлопал в ладоши и разражался смехом на все забавные проделки полишинеля. Веселость его была так заразительна, что мы больше веселились, глядя на него, чем на спектакль. Это настоящая ртуть, этот мальчик, он ни минуты не может спокойно сидеть на месте, но при всей своей живости – необыкновенно послушен, и сто раз придет попросить прощения, если ему было сделано замечание. В общем, я очень довольна своим маленьким пансионом…
…Перед отъездом я попрощалась со Львом. Бедный мальчик заливался слезами. Я обещала ему присылать за ним по праздникам, и что он может быть спокоен – я его не забуду. Мы расстались очень нежно.
…Не брани меня, что я употребила твой подарок на покупку абонемента в ложу, я подумала об удовольствии для всех. Неужели ты думаешь, что я такая сумасшедшая, чтобы взять подобную сумму и бегать с ней по магазинам. Я достаточно хорошо знаю цену деньгам, принимая во внимание наши расходы, чтобы тратить столько на покупку тряпок…
Когда Маше исполнилось 17 лет, надо было готовить ее к зимним «выездам в свет». Наталья Николаевна стала брать ее с собой к Строгановым и к Местрам[1]1
Родственники Н. Н. Гончаровой.
[Закрыть]. Некрасивая в детстве, Маша с возрастом становилась все лучше и лучше. В свет выезжали год за годом, а женихов не было. И как же страшно становилось матери, когда она представляла судьбу Маши такою же, как у сестры Александры Николаевны!
Наталья Николаевна много размышляла и беспокоилась о воспитании детей своих и тогда, когда были они совсем крошками, и тогда, когда надо было девушек вывозить в свет, а мальчики заканчивали Пажеский корпус. Над ней даже посмеивались в связи с этим родные и знакомые.
– Ты у нас блестящий педагог, Таша, – не раз с улыбкой говорил ей муж.
Наталья Николаевна писала ему в июле 1851 года о дочерях:
…Я всецело полагаюсь на волю божию, но не считаю преступлением иногда помечтать об их счастье. Можно быть счастливыми и не будучи замужем, конечно, но что бы ни говорили – это значило бы пройти мимо своего призвания. Я не решусь им это сказать, потому что еще на днях мы об этом много разговаривали, и я, иногда даже против своего убеждения, для их блага говорила им многое из того, о чем ты мне пишешь в своем письме, подготавливала их к мысли, что замужество прежде всего не так легко делается, и потом – нельзя смотреть на него как на забаву и связывать его с мыслью о свободе. Говорила им, что это серьезная обязанность и что надо делать свой выбор в высшей степени рассудительно…
Союз двух сердец – величайшее счастье на земле, а вы[2]2
Имеется в виду П. П. Ланской и Г. Фризенгоф.
[Закрыть]хотите, чтобы, молодые девушки не мечтали об этом, значит, вы никогда не были молоды, никогда не любили. Надо быть снисходительными к молодежи, беда всех родителей в том, что они забывают, что они сами чувствовали, и не прощают детям, если последние думают иначе, чем они. Не следует доводить до крайности эту манию о замужестве, до того, чтобы забывать всякое достоинство и приличия, но предоставить им невинную надежду на приличную партию – это никому не принесет вреда.
О себе заботиться было труднее. Вот она стоит перед зеркалом в синем бархатном платье с широкими синими же французскими кружевами, волнами спускающимися к запястьям, и оборками, окаймляющими широкий подол, из-под которого видны кончики синих ботинок. Высокую прическу она украсила было золотым обручем, но, подумав, сняла его.
– В этом платье в прошлый раз я была при дворе, – задумчиво говорит Наталья Николаевна сестре, – правда, в белых ботинках… Я думаю через какое-то время снова появиться в нем на балу, только уберу внизу оборку, кружево, сделаю другого цвета и пояс – в тон кружева. Может быть, никто и не догадается, что платье не новое.
– Ну, мужчины явно не догадаются. А дамы подметят и позлословят, – говорит Александра Николаевна. – Но зато тебе не надо будет тратиться на новое платье.
– А сегодня на бал к графине я поеду в нем. Только сниму кружево.
– И набрось мою золотистую дымку, – с готовностью предлагает Александра Николаевна, идет в свой будуар, быстро возвращается, накидывает на плечи сестры легкий золотистый шарф.
– Вот и хорошо, – равнодушно говорит Наталья Николаевна и отходит от зеркала. – Как устала я от этих балов, визитов, приемов…
– Что же делать, Таша, ты обязана бывать при дворе, а Петр Петрович занимает такой пост, что общение с его кругом неизбежно.
– Неизбежно, – грустно подтверждает Наталья Николаевна, осторожно расправляя платье, садится в кресло. – Покурю – и за дело. – На столе уже лежат ножницы, нитки с воткнутой в них иголкой. – А в четверг я не поеду, Сашенька, во дворец. Не успею с туалетом, да и денег нет.
– Но как же императрица?
– А я не получала приказа… У меня есть оправдание.
Сестра уходит. Наталья Николаевна снимает платье и, сидя в нижней юбке, долго отпарывает кружево. Потом со вздохом опять надевает платье, набрасывает дымку и подходит к зеркалу.
Она вспоминает, что в годы молодости, когда она только что появилась в свете – у нее было тоже синее бархатное платье… Но уже не платье интересует ее. Она внимательно смотрит на свое лицо. Классические черты его сохранились, но обаяния молодости уже нет. Все эти изменения приходили постепенно. Она привыкла к своему лицу, и теперь ей уже безразлично, что не она первая красавица великосветского Петербурга.
В 1855 году во время Крымской кампании Петр Петрович поехал в Вятку – формировать ополчение. Его постоянные отъезды ставили Наталью Николаевну в трудное положение: надо было быть с мужем и невозможно бросить без присмотра семью.
– Пьер, что же делать мне? – в отчаянии спрашивала она Петра Петровича.
– Не знаю, Таша, сам теряюсь, – как всегда, покорно отвечал он. – Как решишь, так и будет.
На этот раз она рискнула оставить младших дочек Ланских на попечение старших. И уехала с мужем. Некоторое время они жили в городе Слободском. Наталья Николаевна вспоминает этот совсем маленький, деревянный городок, приветливых жителей его и появившееся у нее чувство раскованности, несмотря на беспокойство о семье.
Слободской протоиерей И. В. Куртеев отмечал 7 ноября 1855 года:
Сегодня генерал-адъютант Ланской смотрел Слободскую дружину и остался весьма доволен… Теперешняя супруга Ланского была прежде женою поэта Пушкина. Дама довольно высокая, стройная, но пожилая, лицо бледное, но с приятною миною. По отзыву архиерея Елпидифора, дама умная, скромная и деликатная, в разговоре весьма находчива.
Общество и в Вятке тепло встретило Наталью Николаевну, и тут она прожила с удовольствием, у тех, с кем общалась, оставила о себе самое хорошее воспоминание как о женщине сердечной и простой и в то же время с достаточным аристократическим тактом, который так ценил в ней Пушкин.
В Вятке Ланские сдружились с семьей Пащенко, управляющего Палатой государственных имуществ.
Однажды вечером Наталья Николаевна сидела в небольшой гостиной Пащенко, беседовала с его женой, женщиной приветливой, простой и разумной. Была она немолода и некрасива – круглолица и полна чрезмерно. Но зато можно было залюбоваться ее чудесными руками с изящными пальцами, украшенными всего лишь одним недорогим, но, видимо, памятным перстеньком, ее стопами – узкими и приятными, не нарушающими форму даже исхоженной домашней обуви.
Они поговорили по-женски и о модах, и о детях, повздыхали о прошлом и только было перешли на темы, затрагивающие интересы отечества, как горничная доложила:
– Господин Салтыков.
– Просите, – отозвалась Пащенко и торопливо пояснила Наталье Николаевне: – Писатель, в ссылке за неугодное правительству произведение.
«Как Пушкин в Михайловском», – подумала Наталья Николаевна, и еще не успел войти Салтыков, как она прониклась к нему и уважением, и жалостью, и желанием помочь.
…Она действительно помогла. Возвратившись в Петербург в январе 1856 года, она деятельно взялась за дело Салтыкова, писавшего под псевдонимом Щедрин. Вскоре он был освобожден, возвратился в Петербург и в июне того же года был назначен чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел. В это же время Наталья Николаевна занималась судьбой Исакова, молодого человека из Вятки, якобы замешанного в каком-то заговоре. И он тоже был освобожден.
Все было бы хорошо в жизни Натальи Николаевны с Петром Петровичем Ланским, если бы не сестра Александра – она осложняла ее отношения со вторым мужем своим тяжелым характером и неприязнью к нему.
Однажды она с Александрой Николаевной и Машей собралась с визитом к Ивану Константиновичу Айвазовскому: Наталья Николаевна хотела поблагодарить его за присланный ей чудесный новогодний подарок – картину «Лунная ночь у взморья», на обороте которой было написано: «Наталье Николаевне Ланской от Айвазовского. 1-го января 1847 г. С.-Петербург».
Наталья Николаевна и Маша были уже одеты. Обе в белых платьях. В прихожую вышла Александра Николаевна, тоже нарядная, с нотами в руках, которые она обещала в прошлую встречу жене Айвазовского. Они оделись, направились к выходу, и в это время неожиданно появился Петр Петрович, порозовевший от мороза, видно, не в санках ехал, а шел пешком. Улыбаясь, спросил, куда направились, и, узнав, что к Айвазовским, с радостью воскликнул:
– И я с вами!
Александра Николаевна швырнула ноты на маленький стол:
– Прошу передать! – Быстро сняла шубу и направилась в свою комнату.
Петр Петрович помрачнел, стал молча раздеваться. Мир уже было невозможно восстановить. К Айвазовскому поехали Наталья Николаевна с Машей – обе в самом плохом настроении.
Ты знаешь, как я желаю доброго согласия между вами всеми, ласковое слово от тебя к ним, от них тебе – это целый мир счастья для меня, – писала Наталья Николаевна мужу 23 июня 1849 года. Но она все прощала сестре, жалея ее за неудавшуюся жизнь, за погубленную многолетнюю любовь к Аркадию Осиповичу Россету. Любовь эта началась сразу же, когда Александра приехала в Петербург, и закончилась через несколько лет после смерти Пушкина.
Аркадий Осипович был красив, скромен, умен. У него было все, кроме денег, которых не было и у Александры. И не раз после его ухода Наталья Николаевна заставала сестру в слезах. Она обнимала ее, утешала, как могла, а та упрямо твердила:
– Он не любит меня… Неужели нет выхода? Ну, уехать куда-нибудь подальше от света. Я готова давать уроки музыки. Он тоже найдет себе какое-то дело.
– Сашенька, но ведь появятся дети. Их надо учить, воспитывать. Нужны средства. Прав Аркадий Осипович, он понимает всю ответственность этого шага. Надо подождать.
А сама с отчаянием говорила Пушкину:
– Деньги, всюду эти проклятые деньги! Что же делать Сашеньке? Как быть? Но ведь живут же люди не нашего общества в вечном безденежье и бывают счастливы!
Потом разразилась трагедия в доме Пушкиных, и Александра Николаевна уехала с сестрой на Полотняный завод. Вначале Россет писал часто. Потом она успокоилась. Перестала отвечать на письма. Не стала даже вспоминать о нем. А по возвращении в Петербург старалась не встречаться с ним. Но он все же как-то пришел к ним ненастным осенним вечером. И все началось сначала. Александра ожила. Чудо как похорошела! Тогда она уже была фрейлиной императрицы, да и у Россета появилась надежда на улучшение материального положения.
Встречи, встречи, надежды… Но вот осенью 1850 года умерла Наталья Ивановна Фризенгоф, близкая знакомая сестер, и овдовевший барон, ее муж, стал часто бывать у Ланских. Наталья Николаевна с удивлением замечала, что он ухаживает за Александрой Николаевной. Это было непонятно и в какой-то мере даже неприятно. Так быстро забыть жену!
Как-то вечером, когда Фризенгоф ушел, заметив особый блеск глаз Александры Николаевны, Наталья Николаевна спросила:
– Сашенька, ты мне что-нибудь скажешь?
Сестра вспыхнула, помолчала немного и, сияя улыбкой, которая так редко озаряла ее лицо, ответила:
– Ты, Таша, все видишь раньше всех, всегда все знаешь. И я верю: ты будешь счастлива моим счастьем.
Так и случилось. Наталья Николаевна была счастлива счастьем своего верного друга-сестры, когда та вышла замуж за барона Фризенгофа. И, как всегда верно, предчувствовала она, что любовь и материнство изменят характер Александры Николаевны.
Ланской по-прежнему надолго уезжал в другие города. Наталья Николаевна все так же редко ездила с ним. Она писала мужу:
Неужели ты думаешь, что я не восхищаюсь тем, что у тебя так мало эгоизма. Я знаю, что была бы тебе большой помощью, но ты приносишь жертву моей семье. Одна часть моего долга удерживает меня здесь, другая призывает к тебе; нужно как-то отозваться на эти оба зова сердца…
Она не ехала к мужу лишь потому, что у мальчиков наступили каникулы и надо было побыть с ними, и потому, что в сентябре Гриша должен поступать в Пажеский корпус.
Ланской терпеливо ждал ее, предупреждал, что не может предоставить ей комфорта. И она отвечала ему:
Не беспокойся об элегантности твоего жилища. Ты знаешь, как я нетребовательна (хотя и люблю комфорт, если могу его иметь). Я вполне довольствуюсь небольшим уголком и охотно обхожусь простой, удобной мебелью. Для меня будет большим счастьем быть с тобой и разделить тяготы твоего изгнания. Ты не сомневаешься, я знаю, в том, что если бы не мои обязанности по отношению к семье, я бы с тобой поехала. С моей склонностью к спокойной и уединенной жизни, мне везде хорошо. Скука для меня не существует.
Ей вспоминается: они вдвоем с Петром Петровичем; она сидит, он стоит перед ней, немного взволнованный.
– У меня впечатление, Таша, что ты просто не умеешь вести хозяйства. У тебя всегда не хватает денег.
– Не знаю. Может быть, Пьер, – рассеянно соглашается она, но знает, что это не так. Она очень экономна и думает о другом: почему никогда Петр Петрович не упрекнул ее в том, что ему приходится содержать детей Пушкина? Почему ни единого слова не сказал о тех 50 тысячах, которые она положила в банк за издание собрания сочинений Пушкина? Она ценит его такт, его понимание, что эти деньги законно предназначены детям поэта.





