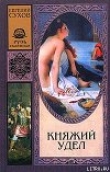Текст книги "Проза поэта"
Автор книги: Афанасий Фет
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Афанасий Афанасьевич Фет
Проза поэта
«Усилить бой бестрепетных сердец…»
Проза поэта всегда несет на себе отпечаток особого лирического восприятия мира. Не исключение и проза Афанасия Фета. Все его художественные произведения автобиографичны: сюжеты повестей, рассказов, очерков – это эпизоды и события из жизни самого поэта, его родственников или знакомых. Повествование от первого лица – не литературный прием, а указание на действительное участие автора. Так, события, положенные в основу повести «Семейство Гольц», произошли во время службы поэта в Херсонской губернии. История же, о которой идет речь в повести «Дядюшка и двоюродный братец», случилась в семье его родственников. Даже имя героя Аполлон созвучно с именем его прототипа Капитона. А в образе Ковалева много от самого Фета. По форме повесть напоминает «Героя нашего времени» Лермонтова. Надо отдать должное смелости Фета, рискнувшего повторить прием, найденный и блестяще реализованный другим писателем.
Автопортретом в прозе можно назвать рассказ «Вне моды». Незамысловатый будничный сюжет – описание реального путешествия Фета и его жены Марии Петровны из курского имения Воробьевка в родовое имение Шеншиных Клейменово. С первых же страниц рассказа мы узнаем манеру и стиль повести Гоголя, любимого фетовского писателя, «Старосветские помещики». Автор откровенно указывает на это, называя своих героев Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной. Путешествие бездетных пожилых супругов, их взаимоотношения изображены с теплым чувством юмора, иногда – с легкой иронией, что невольно вызывает симпатию к ним и к автору рассказа.
Отличающие поэзию Фета яркая неожиданная образность, тонкий лиризм окрашивают и его прозаические сочинения: «Майская ночь опьяняет человека, вынуждает его зарыдать на ее благоуханной груди…» Вспомним описание внешности Луизы из повести «Семейство Гольц». Тридцатипятилетняя женщина выглядит старушкой, которая всем своим видом как будто спрашивает: «…зачем я здесь и зачем я вообще где-нибудь?» И мы догадываемся, что страшная развязка ее жизни недалека. На резко очерченном мрачном бытовом фоне «Семейства Гольц» жизнеутверждающее чувство, как всегда у Фета, несут картины природы, особенно пришедшей весны. «Важные аисты и осторожные цапли безмолвно стерегут пробуждающихся лягушек. Чайки, кружась и кувыркаясь над бесчисленными гагарами и утками, стараются высоким фальцетом перекричать их втору, за которой явственно слышны могучие басы оживших черепах. Солнце уже печет Изредка набежит густое облако и обмоет землю чистым дождиком; затем тот же блеск и тот же весенний гам».
В художественную прозу Фет включал философские концепции, которые обосновываются или подтверждаются жизненными примерами: «Если искусство вообще недалеко от любви (эроса), то музыка, как самое между искусствами непосредственное, к ней всех ближе». Подобные философские тезисы у него так органично вплетены в ткань произведения, что цельность повествования не только не разрушается, а, наоборот, приобретает новые смысловые оттенки. Если в «Кактусе» это короткие ремарки автора («Но ведь красота-то вечна. Чувство ее – наше прирожденное качество»), то в рассказе «Вне моды» философские размышления Афанасия Ивановича, наблюдающего поведение кучера и пристяжной лошади, занимают целую страницу. Казалось бы, ничем не примечательная бытовая ситуация рождает в его сознании целый поток мыслей о роли в природе и жизни людей разума и воли. Эти раздумья героя напоминают философские идеи Шопенгауэра, труды которого в начале и середине 80-х годов с увлечением переводил Фет.
Природа и Человек – вечная философская тема, ставшая лейтмотивом самого первого рассказа Фета «Каленик». Таинство познания и мудрости человека, не утратившего «кровной» связи с природой, с мирозданием, не поддается логическому объяснению. «Одно чутье, один гений – и больше ничего», – так заключает Фет рассказ о своем необычном денщике.
А как поэтично переданы простенькие и такие дорогие его сердцу детали усадебного быта. Со страниц «Первого зайца», единственного детского рассказа, на нас веет неповторимым ароматом навсегда ушедшей эпохи русских усадеб. Он посвящен старшему сыну Л. Толстого Сергею, которому было тогда семь лет. Произведение так понравилось Льву Николаевичу, что с небольшим и изменениями он включил его в «Первую русскую книгу для чтения» («Новую азбуку») под заглавием «Как я в первый раз убил зайца». К сожалению, этот рассказ, как и «Не те», никогда не переиздавался.
Несколько иным предстает Фет в своих деревенских очерках. Именно здесь наиболее интересно и оригинально соединение разной по жанрам и стилю прозы. В 1860 году Фет купил хутор и стал фермером. Ему пришлось решать немало сложных задач, главное же – нанимать рабочих из среды бывших крепостных. В конце 1861 года, подводя некоторые итоги и желая предостеречь от своих ошибок тех, кто пойдет его дорогой, Фет берется за перо.
Необычайная актуальность темы и проблем, о которых Фет писал остро и откровенно, сразу же привлекли внимание к очеркам и читателей, и критиков. Друг Фета и Тургенева Борисов отмечал: «Ничего не выдумано, все истинная правда. Но все это передано неподражаемо, фетовски». Сам Тургенев писал Фету из Парижа: «Дайте также продолжение Ваших милейших деревенских записок: в них правда – а нам правда больше всего нужна – везде и во всем». И все же много лет спустя в мемуарах поэт вспоминал, что «фотографическими снимками с действительности» он возбудил злобные «нападки тогдашних журналов, старавшихся обличать все, начиная с неисправных дождевых труб на столичных тротуарах, но считавших и считающих всякую сельскую неурядицу прекрасною и неприкосновенною».
Деревенские очерки Фета – это редкое в нашей литературе гармоничное сочетание документальной автобиографической прозы, публицистики и художественных зарисовок, объединенных иногда в одном произведении и раскрывающих какую-то конкретную проблему (право, законность, воспитание, нравственность, землепользование и др.). По глубине проникновения в психологию героев, по эмоциональности, с которой написаны сцены из крестьянской жизни, Фета можно считать предшественником Бунина.
Если деревенские очерки Фета показывают прежде всего его экономическую и социальную позицию, то записки о заграничных путешествиях дают представление об эстетических взглядах. «Я назвал свои летучие заметки впечатлениями… Старясь по возможности точно передать минутные впечатления, я думаю, что общее должно быть верно», – так определял характер своих записей Фет. Именно здесь он в первые четко сформулировал свое отношение к роли искусства в жизни общества: «…искусство есть высшая нелицемерная правда, беспристрастнейший суд, перед лицом которого нет предметов грязных или низких».
Разнообразная по жанрам и тематике проза Фета оказалась забытой более чем на столетие, а между тем она составляет значительную часть его творческого наследия и для современного читателя, безусловно, представляет ценность и интерес.
На склоне лет Фет написал стихотворение «Одним толчком согнать ладью живую…», в котором определил назначение поэта. «Дать жизни вздох», «усилить бой бес трепетных сердец» в полной мере можно отнести и к задаче писателя. Подтверждение этого – проза Афанасия Фета.
Галина Асланова
Дядюшка и двоюродный братец
Начало и конец
Мазурка приходила к концу. Люстры горели уже не так ярко. Многие прически порастрепались, букеты увяли, даже терпеливые камелии видимо потускнели. Адъютант, танцевавший в первой паре, объявил, что это последняя фигура.
– Посмотрите, как весел Ковалев, – сказала моя дама, обращаясь ко мне, – как ловко он несется с С…вой. Сейчас видно, что он счастлив. И точно, она прехорошенькая!
Я кивнул головой в знак согласия.
– Отчего вы так милостиво киваете головой? Неужели вы не удостоиваете сказать слова в честь красоты С…вой?
– Когда солнце на небе, звезды…
– Пожалуйста, без общих мест. Право, она прелестна, да и Ковалев такой милый…
– Весьма приятно будет мне передать ему ваше лестное о нем мнение.
– Это не одно мое мнение, но всех, кто его знает.
Между тем мазурка кончилась. Стулья загремели, и я раскланялся с моей дамой.
– На два слова, – сказал Ковалев, взяв меня под руку и отводя в соседнюю комнату. – Мы скоро уезжаем?
– Сейчас же.
– Как это можно? С последнего собрания, да еще и перед походом.
– Мазурка кончена. Что ж тут делать?
– Верно, будет полька, а может быть, и галопад.
– Бог с ними!
– Ну так слушай: у меня есть до тебя просьба.
– Сделай милость…
– Ты знаешь, мы выходим послезавтра в поход, а вам кажется, назначено месяца через два.
– Да.
– Когда вы выйдете, кто поступит на ваши квартиры?
– Никто.
– Ты где оставишь лишние вещи?
– В моем казенном домике.
– Кто за ними присмотрит?
– Поселенный инвалид.
– Позволь и мне прислать к тебе свой хлам, воз целый наберется. Чего там нет! Седел, мундштуков, корд, мебели, книг, старых бумаг – одним словом, всякой дряни… А нам велено очистить квартиры под резервы.
– Пожалуйста, не ораторствуй, а присылай.
– Спасибо. Прощай.
Я уехал в гостиницу, переоделся и в восемь часов утра был уже в штабе полка.
Когда полк наш, в свою очередь, выступил в поход, уланы, в которых служил Ковалев, были уже в Венгрии. В Новомиргороде нас остановили до особого приказания. Этого приказания мы ждали с нетерпением. Раз, когда мы собрались на плац перед гауптвахтою на офицерскую езду, к кружку офицеров подошел поручик П.
– Знаете ли, господа, печальную новость. Сестра пишет мне, что Ковалев убит. Первое неприятельское ядро, направленное против их полка, попало ему в грудь.
Я не хотел верить этому известию – так живо представлялся мне веселый, счастливый Ковалев на последнем бале. Но сомнения исчезли, когда, недели через три, я прочел в газетах о смерти штабс-ротмистра Ковалева.
И война кончилась. Мы возвратились на старые квартиры. Куда мне было деваться с имуществом Ковалева? Я знал, что он был совершенно одинок. Да и вещи-то были по большей части офицерские принадлежности, не только другого полка, но и другого оружия, следовательно, купить их было у нас некому. Желая отыскать какие-нибудь положительные сведения о родине Ковалева, я стал рыться в его бумагах. В одном из сундуков с книгами мне попалась писаная тетрадь без начала и без конца. От нечего делать я прочел ее и нашел если не повесть, то, по крайней мере, несколько очерков. Дело идет о дяде и двоюродном брате. Под этим именем, выставленном мною на удачу в заголовке, представляю тетрадь на суд благосклонного читателя.
De mortuis nihil nisi bene! [1]1
О мертвых – ничего, кроме хорошего (лат.).
[Закрыть]
I
Журнал
– Ну-с! далее! – говорил Василий Васильевич.
– Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут – портовые города, – повторил я однообразным и несколько печальным напевом, а между тем зрачки мои были обращены к окну и все внимание устремлено в палисадник. Там, на одном из суков старой липы, висела западня, а посреди сугробов, на протоптанной тропе, лежали четыре кирпича, соприкасающиеся так, что образовывали продолговатое четвероугольное углубление, над которым, в виде крыши, опираясь на подчинку, стоял наискось пятый кирпич. Следовательно, и этот несложный механизм был тоже западней.
– Ну-с! далее!
– Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут – портовые города, – проговорил я таким тоном, как-будто сторицею платил до последней копейки старый долг, а «портовые города» произнес на этот раз так, что всякий посторонний подумал бы: «Да чего же он еще хочет от дитяти? Уж если он и теперь недоволен, так бог его знает, как ему угодить».
Но Василья Васильевича нелегко было удовлетворить в подобном случае.
– Вы урока не знаете, – сказал он, – извольте идти в угол.
– Помилуйте, Василий Васильевич, да я знаю. Сейчас все скажу: Чичестер.
– А! вот, давно бы так! – заметил Василий Васильевич одобрительным голосом.
Но мог ли я не смотреть в палисадник? Три синицы вылетели из покрытого тяжелым инеем сиреневого куста и жадно бросились на пустую шелуху конопляного семени, выброшенную ветром из западни. Не нашед ожидаемой пищи, они порхнули в разные стороны. Одна начала прыгать по кирпичам, лукаво заглядывая внутрь отверстия; две другие сели на западню. Одна из них, вопреки вертлявой своей природе, сидела неподвижно наверху качающейся клетки и заливалась таким звонким свистом, что последние ноты его долетали до моего слуха сквозь двойные стекла. Ветер, запрокидывая перышки на ее голове, придавал ей какой-то странный, надменный вид. Третья оказалась или самой глупой, или самой жадной. Она бойко прыгала по дверцам западни и так наклонялась к корму, что я с каждой минутой ждал – вот-вот она прыгнет на жердочку, и тогда…
– Ну-с! далее! – сказал Василий Васильевич.
В эту минуту западня захлопнулась, и пойманная синица заметалась по клетке. Стул опрокинут, чернила пролиты, и в несколько прыжков я уже на дворе. Ноги по колено в снегу, но зато рука в клетке и чувствует во власти своей эту вертлявую, нарядную синичку.
Я знал, где у Сережи (бедного мальчика, взятого в дом для возбуждения во мне рвения к наукам) стояли пустые клетки. Синица посажена, и я, раскрасневшись от холода и радости, вбежал в классную, крича во все горло: «Чичестер, Дорчестер»; но уж было поздно: Сережа, с смиренным видом исправителя чужих прегрешений, втягивал бумажной дудочкой пролитые чернила и вливал их таким образом снова в чернильницу. Василий Васильевич ходил разгневанный по комнате. А между тем самый-то главный птицелов был Сережа, и западня была его. Но, приводя в порядок классный стол, он вздыхал так укоризненно для меня, что Василий Васильевич не мог не видеть всего нравственного превосходства Сережи надо мной.
При взгляде на них я уже знал свою судьбу.
– Становитесь на колени! – сказал Василий Васильевич.
Я повиновался. Если мне и больно было стоять на коленях, то в этом случае я утешался примером спартанских юношей, с таким геройством переносивших удары розог (едва ли не единственный факт древней истории, врезавшийся мне в память).
Стоя на коленях, я страдал душевно. Мне казалось, что уже поднялась суматоха; что горничные бегут из портной швальни в девичью, с холодными утюгами и горячими лицами; что дворовые загоняют распущенных по барскому двору кур и гусей; что за версту с горы спускается зимний возок и за ним кибитка с кухней и что по всему дому вполголоса раздается: «Барин едет». Все это живо рисовалось в моем воображении, и мне становилось страшно…
Я очень хорошо помнил, как батюшка, уезжая, говорил: «Да ты, Василий Васильич, заведи журнал и записывай мне каждый день, как он учился, как вел себя. Я знаю, он не захочет топтать в грязь мои труды, мой пот. Я езжу по имениям, хлопочу, на трудовую копейку нанимаю учителей – он это понимает. А ты, Василий Васильич, заведи журнал».
Я знал, что в настоящую минуту этот журнал исписан почти кругом, и видел, как Василий Васильевич (он спал в классной) вытащил его из-под своей подушки и стал в нем писать. Без сомнения, и сегодня будет написано, как это случалось по большой части: «Урока не знал, писал худо, в классе вел себя неприлично». Кроме того, матушка, войдя в класс, могла увидеть меня в таком унизительном положении. Начались бы увещания, отчаяние касательно будущей моей учености, а главное, матушка не преминула бы выставить на вид образцовое поведение и примерные успехи в науках и искусствах моего кузена, Аполлона Шмакова.
– Вот ребенок, с которого ты должен брать пример. Он двумя годами только старше тебя, а посмотри, какие милые французские письма ко мне он пишет и какие прописи прислал в подарок. Василий Васильич, отчего вы не можете дать ребенку этот почерк?
На это Василий Васильевич обыкновенно возражал: «Да помилуйте, сударыня, эти буквы все наведены по карандашу», с чем матушка никогда, по крайней мере явно, не соглашалась. Стоя на коленях, под влиянием стыда и страха, я старался как можно скорее вбить себе в голову несносный урок, и когда Василий Васильевич через полчаса возвратился в классную, из которой уходил в соседнюю комнату потянуть перед топящейся печкой Жукова, я, не дав ему времени уложить под подушку запрещенные орудия удовольствия, закричал:
– Василий Васильич, я знаю…
– Не знаете.
– Извольте прослушать: Дублин, Портсмут…
Урок сказан, и я получил прощение.
А грозный журнал – боже! как быть? Говорят, детство самое блаженное время. Для меня оно было исполнено грозных, томительных призраков, окружавших такую же тяжелую действительность. Единственная моя отрада в грустных воспоминаниях детства – сознание, приобретенное впоследствии, что меня воспитывали не просто, а по системе! Когда матушка, ввивало, прикажет летом выносить на солнце отцовское платье и растворить в кабинете шкап, то я, рассматривал мамонтов зуб, раковины и янтари на нижней полке, находил на второй, между старыми нумерами «Вестника Европы», все сочинения Ж.-Ж. Руссо и, кроме того, «Эмиля» на французском, немецком и русском языках. Вот почему за столом, когда матушка начнет, бывало, столь убийственное для меня сравнение с кузеном Аполлоном, батюшка постоянно прерывал ее:
– Оставьте, пожалуйста! Может быть, я в другом ничего не знаю, но в воспитании я фанатик. Это моя идея! Аполлона сестра губит; он у нее и теперь смешон. Что это такое? Ребенок – старик. Нет, нет, это не моя метода! (В это время я обыкновенно наливал себе стакан холодной воды, хотя пить мне вовсе не хотелось.) Ты, Василий Васильевич, более на прогулках старайся преподавать – это приятно остается в памяти, – где-нибудь в роще, на чистом воздухе…
Батюшка не знал, что все четыре легавые собаки всегда сопутствовали нам на ученых прогулках и до того разбаловались, что ничего не искали, кроме ежей и зайцев. Ужасный лай их сильно занимал меня; да и учитель, бывало, велит набрать Сереже ежей и несет к реке, любопытствуя видеть, как ловко они плавают, загнув кверху свое острое, свиное рыльце. Но каково бы ни было мнение посторонних, я всегда буду утверждать, что родители сильно заботились о моем воспитании и не допускали ни малейшего уклонения от принятой однажды наилучшей системы. Вследствие этой системы до шести лет мне не давали мяса, а до совершенной перемены зубов – ничего, в чем заключалась хоть малейшая частица сахару. Батюшка, заметив несколько раз, как я, за обедом, прислонялся к спинке стула, даже приказал Ивану столяру отпилить эту спинку и навести лак на отпиленных местах. Если я не съедал тарелки ненавистного мне супа из перловых круп и не съедал приводящих меня и поныне в содрогание пирожков с морковью, меня после обеда запирали на ключ в отдаленную комнату. Батюшка любил эти пирожки, и они подавались два раза в неделю. Несмотря на бившую меня лихорадку, я принужден был есть их – разумеется, для моей же пользы.
На учителей ничего не жалели. У меня перебывало их много. Кроме иностранцев, все они были из семинарии и получали в год даже до 300 р. ассигн. Костюм у всех, при появлении, состоял из иверолисового сюртука светло-табачного цвета. Исключения не помню. Время пребывания их в доме можно было определить количеством платья каждого. Через полгода обыкновенно появлялся сюртук тонкого сукна оливковый, через год такой же – черный, через полтора – оливкового цвета шинель и, наконец, через два – черная фрачная пара. Высота галстука соответствовала личным достоинствам и степени учености каждого. Большая часть наставников редко доходила далее оливкового сюртука; один Василий Васильевич дожил до фрака: поэтому позволю себе сказать о нем несколько слов. Это был человек с необыкновенными способностями вырезывать из клена лоожки точь-в-точь такой же формы, как серебряные. Из обломков черепахи во время класса он делал, для горничных, перочинным ножом такие подвески, что вся девичья не могла надивиться. По поводу Аннушки, я даже открыл, что Василий Васильич был поэт. Описывать Аннушку не стану. Когда, впоследствии, я читал у Пушкина:
Коса змеей на гребне роговом;
Из-за ушей змиями кудри русы;
Косыночка крест-накрест, иль узлом,
На тонкой шейке восковые бусы,
мне всегда представлялась Аннушка. Все было точно так, даже бусы не забыты. Прибавьте к этому ее мастерство переделывать старые шелковые платья, которые матушка ей дарила, да по праздникам шелковый пояс, с распущенным концом, и ленты из-под блестящей тульской пряжки, подаренной чуть ли не Васильем Васильевичем. Однажды, ранее обыкновенного пришедши в классную, я нашел на письменном столике учителя, ушедшего на прогулку, лист бумаги, написанный красивыми, но весьма неровными строчками. Читаю:
Цветок милый и душистый,
Цвети для юности моей…
В это время послышались шаги, и вот причина, по которой я не знаю продолжения этих прекрасных стихов. Гордый человек был Василий Васильевич! Хотя он прибыл в дом в иверолисовом сюртуке, но галстук постоянно подвязывал под самые уши, над которыми весьма авантажно красовались два густо напомаженные завитка. Несмотря, однако ж, на гордость свою, спины Василий Васильевич не любил ни к кому оборачивать: там, на сюртуке, был изьянец, в виде продолговатого желтого пятна, появившегося, вероятно, от нечаянно раздавленной ягоды. Это пятно Сережа прозвал островом Мадагаскаром. Не знаю, проведал ли об этом Василий Васильевич, но когда, бывало, матушка придет с чулком в класс и спросит: «Отчего вы, Василий Васильич, никогда не повторите с ребенком Африки?» Василий Васильевич, заметно краснея, отвечал постоянно: «Помилуйте, сударыня! да это чистая степь: стоит ли на нее время тратить; да и народ-то такой невежественный». При всем уважении к Василью Васильевичу, я не мог утерпеть, чтоб не сказать «Maman! Да я знаю остров Мадагаскар». В подобные минуты лицо Сережи принимало самое кроткое выражение. Раза два, во время пребывания в нашем доме, Василий Васильевич, задав нам уроки, уезжал по своим делам недели на две. Тогда матушка вступала в дело преподавания. Я любил слушать, когда она с увлечением рассказывала о воспитании и подвигах Кира, о уважении Александра к своему учителю, о мученической смерти добродетельного Сократа. Из уроков Василья Васильевича помнил я только, что какие-то народы с глумом и яростью устремлялись куда-то. В часы, назначенные для алгебры, матушка задавала нам задачи из арифметики, и тут я не раз ставил ошибкой единицы под десятками, отчего сумма, несмотря на точное соблюдение всех правил операции, выходила какая-то странная. Так однажды из 22 + 22 у меня совершенно верно вышло 242. Такие решения задач кончались неутешными слезами матушки, что я объяснял наклонностью ее к истерике. Несмотря на подобные сцены, матушка прослушивала уроки из всех предметов, придерживаясь отчасти рациональной системы батюшки, по которой ребенок прежде всего должен понимать то, что учит. Заметив однажды, по певучести, с какою я, говоря урок из латинской грамматики, произносил: mare-ris – море, cete-torum – кит, матушка приказала мне заучить: mare-море, ris – море, cete – кит, torum – кит. Василий Васильевич остался недоволен подобным знанием, хотя и не объяснил мне, что ris и torum окончания родительных падежей. Из всего сказанного ясно, почему батюшка называл воспитание кузена Аполлона дешевеньким и дюжинным, прибавляя: «Нет, нет, это все цветочки, да листочки, и для моих детей этого мало».
Так проходили дни за днями. Однажды, месяца два спустя, после первого решительного приказания со стороны батюшки вести журнал, из дальней деревни пришел обоз с пшеницей, и с этой оказией матушка получила уведомление о скором прибытии батюшки. Не умею описать моего страха при этом известии. Пускай бы Василий Васильевич сказал разом, что я был неисправен, а то батюшка увидит на каждой странице, на каждой строчке: «худо», «нехорошо», «нерадиво», «лениво»… Нет, это выше сил моих! Весь день до вечера я был как в лихорадке. Наконец я решился. Когда Василий Васильевич вышел в столовую, я судорожно выхватил грозный журнал из-под подушки и, спрятав под полою, выбежал в палисадник, убедившись наперед, что никто меня не увидит. Выдернув одну из забытых подпорок, к которой летом привязываются георгины, я засунул ею журнал в одно из глухих окон в фундаменте, так, однако ж, чтоб мог, в крайности, достать его. На другой день к вечеру батюшка приехал. Выслушав приказчика, старосту, ключника и повара, он за чаем обратился к Василью Васильевичу с вопросом: «А каково он учился?» – «Неудовлетворительно». – «Покажите журнал!» Василий Васильевич пошел искать тетрадку. Журнал куда-то заложился. Положение Василья Васильевича было не из лучших, хотя батюшка только и сказал ему: «Да как же это ты не вел журнала-то? Ведь я говорил тебе. Да нет, нет, да-таки нет, нет, Василий Васильич, так нельзя!» Жаль мне было и Василья Васильевича, а тем не менее журнал со всей нисходящей линией покоится по сей день в известном окне фундамента.