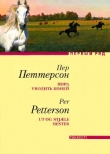Текст книги "Меморандум Квиллера"
Автор книги: Адам Холл
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
9. Убийство
– Да, много воды утекло… – произнес Солли по-английски.
Он имел в виду не наше последнее свидание в Мюнхене три года назад, а Освенцим.
В тот день, когда я впервые встретился с ним, мы устроили побег семнадцати заключенных; четверо из них напоролись на провода высокого напряжения. Остальные живы и по сей день, насколько мне известно. Солли – один из них. Он присоединился к нам, когда я уже наладил связь с тремя узниками лагеря – подпольщиками. До этого я работал в одиночку, и на моем счету было что-то около девяноста семи душ, которым я помог бежать. После создания подпольной организации нам удалось устроить побег из лагеря больше чем двумстам заключенным.
В то время я изображал тупого лагерного охранника, чистейшего арийца, бывшего моряка, дядя которого находился среди иерархии гиммлеровских карателей. Я проклинал Черчилля с таким искусством, что меня даже заставили повторить это с эстрады в качестве вставного номера в постановке, показанной накануне того дня, когда должна была произойти церемония открытия газовых камер, которые, как нас известили, имели пропускную способность примерно две тысячи человек в сутки. В эту ночь мы помогли бежать еще семерым… Комендант лагеря напился по случаю торжества, так же как и большинство его подручных. Только не мы. Семеро из двух тысяч – это казалось так мало…
После того, как с войной было покончено, Солли и я специально вернулись в Освенцим, чтобы показать союзным войскам, где мы выложили цементом дыру в стене карцерного блока, чтобы спрятать там списки, составлявшиеся нами в течение нескольких месяцев. Наши сведения помогли разоблачить и повесить девять офицеров СС и четырнадцать охранников; мы продолжали собирать данные, казавшиеся нам такими важными, но вскоре поняли, что это пустое занятие. Эти царапины на лице Сатаны просто-напросто помогали нам поддерживать в себе бодрость духа.
Солли мало изменился за двадцать лет. Внешне он переменился, но по существу остался тем же самым Солли. Его можно было назвать самым добрым человеком на свете, таким он и был в действительности, если только не доводить его до ярости. Ярость его была холодна, как невзорвавшаяся бомба.
Я и теперь ощущал дремлющую в нем злость и понял, что он никогда не успокоится.
– Я только вчера вечером узнал, что ты в Берлине, – сказал я.
– И тут же приехал повидать меня? Как это мило с твоей стороны!
Можно пройти с человеком через все круги ада и все же не знать, о чем заговорить с ним при встрече, разве что: “А помнишь старину такого-то?”. Но было мало людей, которых мы хотели бы вспомнить.
– Что ты делаешь в Берлине? – спросил он. Мы сидели в его кабинетике одни, но видели головы двух его ассистентов, работавших в лаборатории. Нас отделяла стеклянная перегородка.
– Все те же бациллы, Солли?
– О да! – Он улыбнулся.
Когда нам довелось встретиться в Мюнхене, он уже был членом Международного объединения бактериологов, которые собрались там для обсуждения каких-то проблем, связанных с бактериологической войной. Хотя эта область была далека от меня, я знал, что он был в ней признанным авторитетом.
– Кельнский университет субсидирует мою лабораторию, – сказал Солли.
– Поздравляю.
Повсюду стояли контрольные склянки с плесенью и различными культурами. Солли рассказывал о своей работе, часто перебивая себя и глядя на меня с дьявольским восторгом. Время от времени он склонял голову набок, посматривал сквозь стеклянную перегородку и затем оборачивался ко мне с таким видом, словно хотел поведать какую-то важную тайну. Но глаза его тут же потухали, и я видел, что он сдерживает свое желание открыться мне. В эти моменты он казался мне таким, каким я запомнил его, когда прибывших в лагерь мужчин и женщин, спускавшихся по сходням из фургонов, отделяли друг от друга.
Когда от него оттащили его молодую жену, взор у него был такой же вялый, словно он вот-вот умрет.
Рассказав мне о своей работе, он умолк; больше говорить нам было не о чем, и мы знали это.
– Где ты остановился? – спросил он. – Мы обязательно должны встретиться еще раз.
Я ответил.
– “Принц Иоганн”! – воскликнул он. – Но ведь это очень дорого!
– Я никогда не останавливаюсь в дешевых отелях в Германии. – Не знаю, почему я это сказал, просто мгновенно пришедшая в голову мысль… Женщин в Равенсбрюке всегда остригали перед тем, как отправить в газовую камеру, а волосы пропаривали и упаковывали в тюки для отправки на фабрики, производящие матрацы. В дорогих отелях нынешней Германии матрацы были из поролона.
– Значит, еще встретимся? – повторил он, увидев, что я собираюсь уходить.
Я сказал – да, обязательно, но мы не назначили точной даты.
Выйдя на улицу, я подумал, что лучше бы мне вовсе не встречаться с Ротштейном. Интересно, сожалел ли он о том, что я разыскал его? Я оставил его расстроенным: его жгло что-то очень существенное, о чем он хотел поведать мне, но не мог. Мной владело чувство, что я не хочу этого знать.
Он позвонил мне в конце дня. Никогда не забуду я своего легкомыслия.
Он сказал по-английски: “Это я”.
Почему-то я подумал о Поле в этот момент. Затем он сказал:
– Много воды утекло, не так ли?
Солли не называл себя, но хотел дать мне понять, что это он.
– Я приду повидать тебя. Жди меня, – сказал он и повесил трубку.
Итак, он не мог удержать это в себе. Беспокойство было сильнее его. А может быть, он не желал разговаривать в лаборатории: стеклянная перегородка была слишком звукопроницаема? Нет, он решил поговорить со мной уже после того, как я ушел, иначе бы сговорился пообедать или поужинать где-нибудь вместе. Он не доверял телефону: никаких имен. Не доверял тонкой стеклянной перегородке.
Значит, дело не только в его бациллах, или причиной была бактериологическая война? Я все еще думал о Поле и о ложе в “Новом театре комедии”. Это тревожило меня. Тут есть какая-то связь. Но какая?! Поль не позвонил бы мне сюда; я был “горячим”, со мной нельзя связываться, нельзя мне звонить. Его голос был не похож на голос Солли, и он разговаривал со мной только по-немецки. Нет, это не то. Но должна же быть какая-то связь! Я восстановил в памяти весь разговор между мной и Полем, прежде чем нашел эту связь. Поль сказал:
“Нам стало известно, что вы зарезервировали эту ложу”. “Значит, вы обратились в театральную кассу”. “Да”.
“Не проходит. Я воспользовался чужой фамилией”. “Мы это знали”.
“Подключились к моему телефону…” Я ушиб руку, потянувшись за телефонной трубкой, и подхватил ее, когда она начала падать на пол. Я помнил номер телефона лаборатории. Девушка на коммутаторе попросила меня обождать.
Я ждал. Веко у меня начало нервно подергиваться. Какое легкомыслие!.. В трубке что-то щелкнуло, когда мне позвонил Солли. Я не ждал звонка ни от кого – ни от Поля, ни от Хенгеля, Эберта, Инги или Брэнда, ни от кого. Ни при какой ситуации Поль, Хенгель или Брэнд не позвонили бы мне сюда. У Эберта не было моего номера, так же как у Инги. Солли не должен звонить мне, так как мы даже не уговаривались о встрече. Кто же? Задумавшись об этом, я подсознательно вспомнил пощелкивание в трубке, и, сам не знаю почему, это вызвало цепную реакцию воспоминаний, мысль о Поле и ложе в театре.
Мой телефон снова прослушивался. На этот раз не резидентурой. На этот раз противной стороной. Тем же неприятелем, что следовал за мной на машине. Двойной блик в окне… Третье свидетельство того, что они перешли в наступление.
– Вам отвечают.
– Благодарю вас.
Веко продолжало дергаться.
Неважно, пусть подслушивают теперь, в эту минуту, ибо я хотел сказать Солли только два слова: не приходи!
Возможно, что я ошибался, но я не мог рисковать. Солли не верил ни телефону, ни перегородке в собственной лаборатории; следовательно, он все время находился за своего рода красной чертой и должен был следить за каждым своим шагом; возможно, они даже знали его голос. Возможно, что он вел с ними двойную игру ради того, чтобы узнать факты, которые могли бы привести его к взрыву ярости, которую он должен был излить до своей смерти в память о молодой жене.
– Лаборатория доктора Ротштейна.
– Я бы хотел поговорить с доктором, – сказал я.
– Он только что ушел. Что ему передать?
– Ничего.
Я повесил трубку.
Солли Ротштейн сгорал от желания что-то рассказать мне, что-то очень важное, о чем никто другой не должен был знать. Если он был им известен, если им был известен его голос, то, подслушивая разговор, они попытаются остановить его. И я ничего не мог поделать.
Район Целлендорфа находился в десяти километрах от восточной части Темпльхофа; Солли не мог пройти пешком все это расстояние. Не возьмет он и такси от двери до двери; он уже проявлял осторожность и, конечно, попытается замести следы. Я не мог перехватить его по дороге. Я мог только ждать его здесь.
Время: 5.09. Десять километров на такси в начинающиеся часы “пик” – двадцать минут. Прибавим пять минут, так как сперва он пойдет пешком; даже если он решит сесть в такси, то возьмет его подальше от лаборатории и доедет, конечно, не до самых дверей отеля, а вылезет где-нибудь за углом. Еще пять минут. Не исключено, что он поедет троллейбусом или надземной железной дорогой, но вряд ли – он человек нетерпеливый. Он может появиться здесь от 5.29 до 5.39.
Я не позвонил в лабораторию еще раз, чтобы спросить, пользуется ли герр доктор такси или имеет собственную машину, так как они снова подслушали бы мой разговор, и, если до сих пор у них не было определенного плана в отношении Солли, я не хотел явиться причиной того, что такой план у них возникнет. Если я ошибаюсь, то ничего не произойдет. Если я прав, то они сделают все возможное, чтобы перехватить его на пути сюда. 5.14. Делать нечего. Только ждать. Я вышел из номера и прошел по коридору в поисках незапертой двери. Комната была пуста. На окнах – тюлевые занавески, достаточно непроницаемые при свете угасающего зимнего дня. Осторожно отодвинув занавеску, на дюйм от стены, я принялся рассматривать квартиру, находящуюся на той стороне улицы. Окно на четвертом этаже, седьмое слева, было растворено. Темный прямоугольник. Я опустил занавеску и вернулся к себе.
В 5.23 спустился вниз и начал прогуливаться по вестибюлю таким образом, чтобы девушка на коммутаторе видела меня и знала, что меня нет в номере, на тот случай, если Солли решит позвонить, что может случиться, если он заметит за собой слежку.
В 5.27 я вышел из отеля, перешел через улицу и укрылся в подъезде жилого дома, с тем, чтобы держать под обзором оба конца улицы. Ведь Солли мог появиться с любой стороны.
Колеса автомобилей шуршали по мокрому асфальту. Двое мужчин сошли по ступеням лестницы “Принца Иоганна” и, идя рядышком, повернули на запад. Время – 5.34. Оставалось только ждать и ждать. Зябко. Внутри у меня все дрожало от холода… Легкомыслие, проклятая небрежность… Старею…
Машина подкатила к обочине тротуара, и я должен был переменить свою позицию, чтобы не потерять из поля зрения восточную часть улицы. Прохожие: женщина с собакой слева, направляется на восток; две девушки, слышу их голоса, одна смеется; двое мужчин (не тех ли самых?) слева, идут на восток (возвращаются?); машина отъехала, запахло гарью из выхлопной трубы. Переменил позицию. Прошли три девушки в черных пальто; пожилой мужчина побрел на запад; быстро шагает невысокий человек в темной шляпе. Гляжу налево, направо. Вот, кажется, и он.
Я вышел из подъезда и пошел сперва медленно, стараясь не потерять его из виду, и когда расстояние между нами сократилось до пятидесяти или шестидесяти метров и я увидел, что это он, то ускорил шаги и прошмыгнул между машинами на другую сторону улицы. Мы находились метрах в тридцати друг от друга, все время сближаясь; единственное, что находилось у меня в карманах, были ключи от машины, но и они могли пригодиться. Двадцать метров. Уже можно его окликнуть. Стоп. Оглянулся. Четвертый этаж, седьмое окно слева. И я побежал, крича ему, чтобы он свернул в сторону. Он увидел меня, удивленный. Я швырнул ключи ему в лицо, и они просвистели в воздухе, но не задели его. Он вдруг зашатался и рухнул вперед в тот самый момент, когда сухой треск выстрела эхом отозвался от каменных стен.
Я подхватил его, когда он падал.
– Солли, я виноват…
Он не слышал меня.
10. Укол
Десять минут спустя я позвонил в полицию “Зет”.
– Пришлите людей в дом сто девяносто три по Потсдаммерштрассе, верхний этаж, лаборатория. Вооруженных людей.
Я узнал голос капитана:
– Мы только что послали туда опергруппу. Нам сообщили о налете. Взяты кое-какие бумаги.
– Попытайтесь найти их. Запишите еще один адрес. Здание Мариенгартен, середина Шонерлиндерштрассе, Темпльхоф, помещение привратника. – Он повторил адрес. – Налет совершен на лабораторию доктора Соломона Ротштейна. Он только что застрелен на улице перед этим зданием, и я внес его сюда. Выстрел произведен из здания Шонерпаласта, четвертый этаж, седьмое окно с восточной стороны. Винтовка с телескопическим прицелом. “Скорая помощь” к доктору Ротштейну вызвана. Жду вас здесь.
Я велел привратнику оставаться возле убитого, а сам протиснулся сквозь толпу к подъезду и побежал к Шонер-паласту. Поднимаясь в лифте, я сказал лифтеру:
– Уголовная полиция будет здесь через несколько минут; никто не должен заходить в комнату до ее появления.
Он спросил меня, что случилось, и я ответил, что произошло убийство.
Седьмое окно слева было в квартире 303. Дверь легко растворилась, и я даже не проверил, стоит ли кто-нибудь за ней. Убийца, конечно, скрылся отсюда еще до того, как я перенес тело Солли в дом. Ничего особенного в комнате не было, разве только что по сравнению с коридором здесь было холоднее. Лифтер хотел закрыть окно, но я остановил его: “Пожалуйста, ничего не трогайте”. На полу возле окна валялась провощенная бумага, на которой было напечатано слово “mittagessen”… Пепельница, полная окурков…
Я выглянул вниз на улицу. К дому напротив подъезжала карета “Скорой помощи”. Двое санитаров протиснулись сквозь толпу, один из них нес сложенные носилки. Я велел лифтеру запереть дверь и ожидать прибытия полиции.
Я должен был действовать, действовать, чтобы не думать о Солли. Это придет позже… Раскаяние, хуже – чувство вины будет грызть меня, словно ржавчина, и я уже не оправлюсь от этого. Я никогда не подсчитывал, сколько человек убил за последние тридцать лет, и даже мысль об этом никогда не являлась ко мне. Шла война, они были нацисты, враги. Солли был моим другом, и я убил его своей небрежностью, своим легкомыслием…
До того, как меня начнут мучить постоянные угрызения совести, надо было перебороть мгновенную вспышку ненависти, и деятельность была единственным болеутоляющим средством.
Черный “мерседес” остановился позади машины “Скорой помощи”, когда я спустился вниз. Перейдя через улицу, я прошел во двор отеля, вывел свой “фольксваген” из гаража и четверть часа спустя уже был на Потсдаммерштрассе, воспользовавшись новой окружной дорогой.
Капитан все еще находился в лаборатории. После моего звонка он прибыл сюда следом за своими людьми. Это был тот самый капитан полиции “Зет” Штеттнер, вместе с которым мы проводили операцию “Раушниг – Шрадер – Фогль”.
– Что случилось с доктором Ротштейном? – спросил он.
– Только то, что я сообщил вам.
– Мы вызвали на место убийства уголовную полицию. Они допрашивали вас?
– Нет. Успеют сделать это позже. Я хотел осмотреть лабораторию.
Оба ассистента Солли были растеряны. Налет был совершен поспешно, несколько разбитых склянок с культурами валялось на полу. Сержант складывал в портфель журналы, в которые заносились данные исследований, чтобы забрать их с собой.
Все было ясно. Люди “Феникса” знали Соломона Ротштейна. Они подозревали его в двойной игре, но до времени ничего не предпринимали. Может быть, они узнали, что он сотрудничал со мной в последние месяцы перед капитуляцией? Конечно, они прослушивали не только мой телефон, но и его тоже. И, узнав, что он хочет повидать меня, утвердились в своих подозрениях и решили действовать. Поблизости от лаборатории у них не было никого, кто мог бы перехватить Солли, когда он выйдет на улицу, поэтому они были вынуждены отдать распоряжение своему человеку в квартире 303. И еще до того, как Солли достиг Шоннерлинденштрассе, они отдали приказ обыскать лабораторию в надежде найти следы того важного, о чем он хотел рассказать мне.
– Вы что-нибудь нашли? – спросил я капитана. Он пристально посмотрел на меня.
– Это был ваш друг?
Значит, он понял это по моему виду.
– Да, – сказал я. – Вы что-нибудь нашли?
– Только эти журналы и несколько других бумаг.
– Ничего особенного? – Я знал, что он уклоняется от ответа, так как на его службе не рекомендовалось откровенничать с посторонними, даже если они направлены разведкой для сотрудничества с ним.
Он продолжал наблюдать за мной. Я ответил ему пристальным взглядом. Наконец он сказал: “Вот это”.
Я увидел продолговатый металлический ящик размером примерно пятнадцать на тридцать сантиметров, выкрашенный темной краской и запечатанный. Лист бумаги был прикреплен прозрачной липкой лентой на верхней крышке.
“В случае моей смерти прошу отправить этот контейнер авиапочтой моему ближайшему родственнику Исааку Ротштейну по адресу: Аргентина, Сан-Катарина, Лас Рамблас, Калле де Флорес, 15. Вскрыть только ему лично. С. Р.”
– Вы отправите ящик? – спросил я.
– Это будет решаться не мной, но сомневаюсь. Возможно, мы вызовем Исаака Ротштейна сюда, чтобы он вскрыл его в нашем присутствии. – Он вернул ящик сержанту. – Мы уходим, герр Квиллер. Не хотите ли еще раз осмотреть помещение?
– Нет. Позже я прочту показания, которые вам дали ассистенты доктора Ротштейна.
Они уехали. Я следовал за ними в “фольксвагене”. На улице было людно. Наступил вечер. Я не был уверен, что меня не преследуют, но сейчас это и неважно. Они и без того уже перешли в наступление.
Меня просили явиться в уголовную полицию и сообщить все известное о выстреле. Это заняло у меня десять минут. Они записали мои показания и продержали еще целый час, пытаясь выяснить, кто я такой. Я и намеком не дал им ничего понять. В конце концов мне надоело все это, и я сказал:
– Если вы не найдете достаточно улик в квартире триста три, попытайтесь поискать их в лаборатории на Потсдаммерштрассе. Можете также осмотреть мою комнату в отеле “Принц Иоганн”, если желаете.
Казалось, это заинтересовало их.
– Вы возвращаетесь к себе?
– Да.
– Можно кого-нибудь послать с вами?
– Пожалуйста.
Раздался телефонный звонок, и один из сотрудников взял трубку, послушал и передал ее мне. Звонил капитан Штеттнер из полиции “Зет”.
– Немедленно приезжайте, герр Квиллер.
– Но ведь я только что вас видел!
– Это очень важно.
Я сказал, что приеду. Инспектор уголовной полиции был раздражен, потому что его отдел и полиция “Зет” не ладили друг с другом. Поля их деятельности зачастую пересекались, они постоянно враждовали из-за этого и пользовались любой возможностью насолить друг другу. Так будет продолжаться до тех пор, пока раньше или позже кто-нибудь из начальства не разграничит их обязанности. Пока что такие люди, как я, могли быть полезны для этой игры.
– Вы не поедете в отель сейчас, герр Квиллер?
– Нет.
– Но вы же сами сказали…
– Меня срочно вызвали. Я официально связан с комиссией “Зет”. Ведь это так ясно, герр инспектор.
Дорога заняла всего десять минут. Я поставил “фольксваген” на стоянку для служебных машин и заметил там карету “Скорой помощи”. Кроме мужчины и женщины в белых халатах, в кабинете находился капитан Штеттнер с пятью своими людьми, бывшими в лаборатории Солли: тремя оперативниками, прибывшими туда первыми, и двумя, которые приехали с капитаном. У всех были закатаны левые рукава рубашек.
Капитан Штеттнер выглядел озабоченным.
– Выяснилось, что одна из разбитых склянок заключала вирулентную бактерию группы… – он посмотрел на врача, боясь ошибиться.
– Обычной оспы, – надломив ампулу, сказал тот, пока сестра ватным тампоном протирала кожу очередного человека, готовя его к уколу. – Это не опасно. И речи не может быть о карантине. Однако рекомендуется принять меры предосторожности.
Я снял пальто. В воздухе стоял запах эфира.
– А что будет с теми, кто совершил налет?
– Я отдал приказание регулярно сообщать по радио и телевидению, – отозвался Штеттнер. – В вечерних газетах также появятся объявления. – Он смотрел, как мне делали подкожное впрыскивание. – Медицинская ассоциация и все госпитали оповещены по телефону и телеграммами, чтобы, если кто-нибудь явится с просьбой об иннокуляции, они немедленно известили полицию. – Он спустил рукав и обратился к доктору: – Можем ли мы продолжать свою работу, как обычно?
Бывают отважные люди, которые чувствуют страх перед инфекцией. Он был одним из них.
– Конечно, даже не думайте об опасности заражения. Но если в течение четырнадцати дней вы заметите сыпь в паху, обратитесь к врачу.
Он кивком приказал медсестре собираться. Я ушел вскоре после них. Вечерняя трансляция биржевых известий начнется через тридцать пять минут. Минут пятнадцать должна была занять у меня дорога до отеля.
Настроение у меня было подавленное, и я должен был сделать значительное усилие, чтобы не вспоминать о Ротштейне и о том удивленном взоре, который он бросил на меня перед смертью. Он слышал мой крик, и связка ключей пролетела мимо его лица; он умер удивленным, не услышав выстрела.
Проезжая через Крейцберг, я взглянул в зеркало, ничего не заметил, снова посмотрел, и в конце концов мне стало тоскливо. Ровно никакого значения не имело, была ли за мной слежка. Игра уже перешла через эту грань.
Зажегся красный свет, зеленый, снова красный, а я не трогался с места. Какой-то болван принялся сигналить неистово. Я был слишком утомлен, чтобы выйти и стукнуть его. Снова зеленый. Поехал. Как автомат. Птицы – крылатые существа, люди – существа на колесах.
Улица бежала прямо, будто яркая радуга, рвущаяся в темноту неба. Здания раздвигались передо мной и снова смыкались позади. Нога тяжело опустилась на педаль. Еду слишком быстро. Медленно. Что-то не в порядке. Возьми себя в руки. Отдышись. Люди на тротуарах.
Какой-то человек уверенно открыл дверцу и, взглянув на меня, спокойно сказал: “Подвиньтесь”. Я пытался поднять руку, чтобы оттолкнуть его, но у меня не было сил.
– Что? – глупо переспросил я.
– Подвиньтесь. Я поведу машину.
Я покорно перетащил свое отяжелевшее тело на соседнее сиденье. Покорность. Худший из грехов современного человека – покорность.
Он сел в машину, захлопнул дверцу, и машина влилась в поток других машин. Я сидел, опустив подбородок на грудь. Последняя мысль, которую я запомнил: подкожное впрыскивание.