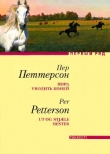Текст книги "Меморандум Квиллера"
Автор книги: Адам Холл
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Я никогда не встречал двух других – Фогля и Шрадера, – но, по собранным мною данным, они превзошли доктора Раушнига в зверствах. Поэтому я позволил себе удовольствие посмотреть им в лицо в последний час их свободы. Да и для главной цели, которую я преследовал, решение принять участие в операции вместе с полицией “Зет” могло оказаться полезным. К тому времени, как по моей инициативе и в моем присутствии будет произведен третий арест, “Феникс” направится по моему следу. Цель оправдывает средства.
– Машина заедет за вами через пятнадцать минут, герр Квиллер. – Эберт расписался в получении документов. – Возможно, я буду иметь удовольствие еще раз встретиться с вами?
– Я вам это гарантирую, господин генеральный прокурор.
Салон красоты находился на Мариенфельдерплац; мы втроем вошли внутрь. Капитан полиции и сержант были вооружены, хотя и одеты в гражданское платье. Перегородка, перевитая вьющимися растениями, отделяла небольшие кабины от комнаты ожидания. Нас пригласили сесть, но мы продолжали стоять. В мраморном бассейне, выложенном в форме раковины, бил фонтан, и яркие тропические рыбки плавали в бассейне. Пурпурные газовые занавески драпировали стены, и свет лился с потолка из позолоченных окружностей, сделанных в виде солнца с лучами. Пахло дорогими духами. Стройная Венера стояла в мягко освещенной нише, опоясанная золотыми лентами диплома, полученного владельцем салона на Парижской выставке 1964 года.
Горничная, тяжеловесная девица с дикими, словно из джунглей, глазами, сказала:
– Герр доктор вынужден просить вас обождать его полчаса, так как он занят весьма тонкой операцией, – глаза расширились, – а клиентка – баронесса.
Подол ее пурпурной греческой туники распахнулся, когда она повернулась, чтобы направиться к двери.
Капитан полиции знал, что не следовало раньше времени козырять своим удостоверением. Здесь мог быть еще один или даже несколько выходов. Вместе с сержантом я последовал за ним через низкие золоченые врата.
Доктор Раушниг находился в первой кабине. Его лицо округлилось с тех пор, как я видел его в последний раз, но сразу же узнал его и кивнул капитану.
– Джулиус Раушниг! – произнес капитан. Встревоженный нашим вторжением, он сказал, что его зовут доктор Либенфельс. Он никогда и не слышал о Раушниге. Капитан показал ему фотографию, сделанную в 1945 году в проверочном пункте американской армии на датском фронте, которую я обнаружил в архивах комиссии “Зет” среди прочих фотографий. Фамилии на них не были указаны, но мне этого и не требовалось.
Женщина в кресле выгнула шею, презрительно поблескивая на нас глазами сквозь какую-то мазь, которой было густо покрыто ее лицо. Я повернулся спиной, не желая более видеть Раушнига. Мне было даже противно слышать его. Чем больше он негодовал, тем больше дрожал его голос.
– Вы ошиблись, уверяю вас! – И так далее. – Это чревато опасностью для нежных лицевых мышц баронессы, если мне придется прервать процедуру! – И тому подобное.
Но я заметил жестикуляцию его рук, и разъедающее душу чувство мести вновь овладело мной. Лицо не бывает столь выразительно, как руки. А эти холеные белые руки, священнодействовавшие во имя тщеславия этой женщины, нежно, словно к цветку, прикасавшиеся к ее поблекшему лицу в попытке вернуть ему расцвет молодости, когда-то впивались в лица и тела девушек в Дахау, словно когти зверя, разрывающего мясо своей добычи.
Его руки жестикулировали в надушенном воздухе. Голос пронзительно захлебывался в отрицаниях. Встревоженная женщина закричала, а горничная в тунике растерянно замерла в дверях.
– Прошу вас следовать за мной, – сказал капитан.
– Я должен позвонить моему адвокату.
– Позвоните от нас.
– Но у меня нет обуви, пригодной в снежную погоду! Мой шофер заедет за мной только вечером.
– Машина у подъезда.
– Вы не имеете права отрывать меня от работы! Эта дама…
– Герр Раушниг, если вы мирно пройдете с нами, никому не придется испытывать никаких неудобств.
Он начал громко рыдать, а я, чтобы не слышать его, сосредоточил внимание на лице горничной; на нем был написан ужас, свет лампы отражался в ее глазах. Я обернулся к лампе с маленьким розовым абажуром и вспомнил белый абажур на той лампе, которая находилась в частной квартире гауптштурмфюрера Раушнига в Дахау. По разработанной им технике белый абажур, и пара перчаток, и обложки для книг были сделаны из человеческой кожи умелыми руками его сожительницы.
– Вы не можете забрать меня!
Баронесса завизжала, когда он бросился мимо горничной к двери. Сержант подставил ему ногу; чтобы удержаться, он ухватился за розовую занавеску и, падая, сбил плечом и сломал тонкую перегородку.
Он катался по полу, закутанный в газовую ткань. Банка с жидкой мазью свалилась со столика, испачкав ему брюки. Он что-то лепетал. Я перешагнул через него и вышел в приемную, оттуда на улицу и оказался ослепленным неожиданными фотовспышками.
– Обождите, – сказал я. – Сейчас его выведут.
(Я заблаговременно позвонил в отделение Ассошиэйтед Пресс и сообщил кое-какие сведения).
Когда Раушнига вывели, я встал рядом с ним, и фотокорреспонденты принялись за свое дело. К вечеру мое изображение появится в газетах, и “Феникс” увидит его.
7. Красная черта
Пуля, выпущенная из маленького восьмимиллиметрового пистолета марки “Пельман и Розенталь МК IV”, делает около двух тысяч оборотов в секунду и при выстреле с очень близкого расстояния оставляет рваную рану и ярко выраженный ожог, пронзая тело, словно сверхострое сверло в сочетании с паяльной лампой.
У Шрадера был разворочен череп, и лишь одну половину лица можно было распознать. Полицейский капитан вынул для сравнения фотокарточку, взял у секретаря письменное подтверждение личности самоубийцы и затем позвонил в уголовную полицию, так как теперь Шрадер переходил в их ведение. Он уже никогда не предстанет перед судом.
Я попросил разрешения присутствовать при первичном осмотре бумаг, но ничего, что могло бы привести меня к Цоссену, не обнаружил. Незадолго до выстрела кто-то позвонил Шрадеру по телефону. Голос звонившего и его имя были незнакомы секретарю. Прошел всего час, как мы покончили с Раушнигом, но слух о его аресте распространился быстро, и Шрадер предпочел уйти от ответа за свои деяния. Во избежание подобных казусов полиция “Зет” предпочитала действовать по возможности без промедления.
Капитан нахмурился при виде двух пронырливых фотокорреспондентов Ассошиэйтед Пресс перед конторой фирмы грузового пароходства “Шрадер – Фабен”, но я не сказал ему, что это я известил их по телефону.
Удостоверившись, что меня сфотографировали, я отправился к своей машине, серому “фольксвагену”, который я взял напрокат, повинуясь мгновенному решению, пришедшему мне в голову сегодня утром. Я не был волен в своих действиях, торча на заднем сиденье машины, принадлежавшей полиции, и это мне надоело. Да и вообще “фольксваген” мог быть мне полезен.
Черный полицейский “мерседес” проследовал за мной за пределы города. По обе стороны дороги расстилался снежный ландшафт. Небо в полдень казалось черным по сравнению с заснеженными холмами. Автотрасса была предательски скользкой, особенно на участках, покрытых темным льдом там, где прошедшей ночью снегопад перешел в дождь. Движение было небольшое, и меньше чем за четверть часа мы добрались до контрольного пункта в Хельмштадте. Там, во избежание потери времени, я предъявил свои вторые документы.
Школа располагалась в ложбине в нескольких километрах от Дуисбаха. Снег на школьном дворе был истоптан детьми, соорудившими трехликую снежную бабу. Два лица ее были некурящими, а изо рта третьего торчала трубка.
Когда мы вышли из машин и направились ко входу, в морозном воздухе до нас донеслось пение. Крыльцо было заставлено галошами и ботиками. Пение разносилось далеко окрест по белой от снега равнине, и казалось, что сейчас рождество.
Во избежание сцен, которые могли бы обеспокоить детей, мы договорились, что я один отыщу учителя Фогля и приведу его в кабинет директора школы, где капитан Штеттнер предъявит ему ордер на арест.
Первым попался мне на глаза мальчик, угрюмо стоявший в коридоре: по-видимому, его выгнали из класса за какую-нибудь провинность. Он явно обрадовался появлению незнакомца, не ведающего о его прегрешениях, и рассказал мне, что герр учитель Фогль находится в зале, откуда доносилось пение. Я тихонько вошел в зал и остановился у кафедры. Хор несколько расстроился, но вскоре на меня перестали обращать внимание, и пение продолжалось, как прежде. Я наблюдал за детьми и старым человеком на кафедре. Лицо у него было кроткое; время от времени он закрывал глаза и медленно вздымал руки, дирижируя певцами. Они пели теперь, почти не сбиваясь, внимательно следя за гипнотическими движениями рук.
Когда пение закончилось, я поаплодировал юным певцам, что вызвало полное и растерянное молчание. Я не умею вести себя с детьми, хотя всегда хочу быть добрым с ними. Обратившись к учителю, я тихо сказал, что являюсь представителем музыкального издательства и что директор просит его зайти к нему в кабинет на несколько минут.
Он ответил согласием. Голос у него был такой же тихий и кроткий, как и лицо. Только глаза обнаруживали слабость, приведшую его к этому часу: в его глазах был страх, даже когда он улыбался.
Мы застали директора школы в обществе капитана и сержанта. Очевидно, директор уже был осведомлен: лицо его выражало растерянность. В кабинете было тихо. Мы слышали дыхание друг друга.
– Прошу вас проследовать за мной, герр учитель.
– Хорошо, – мягко отозвался он. Его кроткое лицо было обращено кверху, и он устремил взор в окно, на темные деревья, стоявшие посредине снежной равнины, словно группа ждущих чего-то скелетов. – Хорошо, – тихо повторил он, отвечая капитану, прихода которого опасался и ожидал последние двадцать лет.
Его увели. Директор школы попросил меня задержаться.
– Невероятно, – сказал он.
– Мне очень жаль.
– Мы с ним одной крови… – Директор глядел на меня в упор, и его руки мяли одна другую, словно находку. – Почему он предал?
– Из страха.
– Его мучили?
– Нет, но он знал, что его будут мучить, если он откажется говорить. – Из сострадания к собеседнику я добавил: – Это может быть принято во внимание судом, как смягчающее обстоятельство.
– Смягчающее обстоятельство? Но ведь тысячам людей грозили тюрьмой, однако они…
– Таких было сотни тысяч. Миллионы. Он не был из их числа. К сожалению.
Сперва его использовали квартальные надзиратели, затем целенлейтеры и крайслейтеры и, наконец, гаулейтеры, игравшие на его страхе и пользовавшиеся им, как осведомителем. Улики, собранные в его деле, свидетельствовали о том, что он “явился причиной ареста и физической гибели своих друзей, соседей и сотен других людей, сообщая гестапо о том, где они скрывались…” Самое короткое показание обвиняло его в том, что лично из-за него “не менее десяти автофургонов заключенных были сожжены в печах Освенцима”.
Директор помолчал, затем произнес:
– Я рад, что его здесь больше нет. – Он протянул мне руку. – Извините. Хор недавно создан. Мне нужно пойти и заняться с ними… Но боже мой, я почти лишен слуха…
Я вышел в большую стеклянную дверь, прошел мимо рядов галош и ботиков. Следы колес черного “мерседеса” отпечатались на снегу. Я взглянул на темные искривленные стволы деревьев. Стояла гнетущая тишина, и, остановившись возле машины, я заставил себя ждать, сдерживая дыхание.
Затем оно снова возникло в воздухе, пение…
“Ди лейте” поместила большой снимок на первой полосе. Я стоял рядом с Раушнигом перед входом в его салон красоты. Три другие газеты напечатали эту же фотографию. В двух из них был также снимок, на котором капитан полиции и я выходили из конторы фирмы “Шрадер – Фабен”.
В школе фотокорреспонденты не появлялись, потому что я не хотел тревожить детей; но все же я поставил в известность о Фогле Ассошиэйтед Пресс, и газета “Ди лейте” опубликовала фотографию учителя и посвятила ему целый абзац, связывая его с Раушнигом и Шрабером и комментируя “молниеносную волну арестов”, явившуюся главным событием дня. Таким образом, я, само собой разумеется, в глазах всех являлся причастным и к аресту Фогля, что, конечно, не пройдет мимо внимания “Феникса”.
Мне дали получасовое свидание с Фоглем в его камере, но мне не повезло. Его страх, который, как я надеялся, поведет к добровольному признанию, покинул его после двадцати лет. Худшее пришло к нему, и, понимая, что его жизнь закончится в такой же камере, он освободился от рабства страха. Я сомневался в том, что даже его полнейшее раскаяние может привести к оправданию, но все же воспользовался этой мыслью, чтобы повлиять на него. Он не поддался. Он казался живым мертвецом.
При отеле “Принц Иоганн” были запирающиеся гаражи, и, поставив туда свой “фольксваген”, я отправился к запоздалому ужину. Кое-кто искоса поглядывал на меня, видимо, уже познакомившись с газетами, а пожилой официант, ведающий винами, был довольно мрачен, и рука у него дрожала, когда он наливал мне вино. Интересно, подумал я, где он был и что делал в период между 1939 и 1945 годами?
Когда мне подали кофе, ресторан был уже почти пуст. Какой-то человек подсел к моему столику и швырнул на него вечерний выпуск “Ди лейте”. Я взглянул на собственное изображение в газете, затем перевел взор на незваного гостя.
– Кажется, мы идем довольно близко к ветру, сэр, – улыбнувшись, произнес он с американским акцентом.
Я не желал разговаривать, не желал даже знать его, но иногда бывает опасно ничего не отвечать.
– Чем ближе, тем лучше, – отозвался я.
По-видимому, это Брэнд. Умное лицо с проницательными, спокойными серыми глазами, короткая стрижка. Улыбка была приятна, но я негодовал на него за то, что он заговорил со мной. Если агент решил показать свою физиономию на первых полосах газет, для этого должен быть серьезный повод и это является его личным делом. Он может работать по собственному усмотрению, соблюдая одно условие – не подвергать других опасности рассекречивания. Если уж я решил привлечь на себя огонь неприятеля, то только я один и должен подвергаться риску. Таков порядок. Теперь, когда мое лицо разрекламировано во всех газетах, я на пушечный выстрел не мог приблизиться к Унтер-ден-Эйхен и Ронер-аллее, даже если был совершенно убежден, что за мной не следует филер. Умышленно подставляя себя под огонь противника, я полностью отрезал себя от местной резидентуры, оставив себе единственный канал связи – “Почта – биржа”. С этого утра я превратился в “горячего агента”, к которому никто не должен был приближаться. Это классический прием, и КЛД дважды прибегал к нему в течение своей службы, сознательно нарушив обычную конспирацию, чтобы в открытую встретиться с врагом, потому что счел этот путь наиболее целесообразным для решения определенных задач. Здесь агента поджидает много опасностей. Но еще более опасно для него, если с ним поддерживают связь: в таком случае подвергают себя опасности и те, кто вступает с ним в контакт. “Горячий агент” должен работать без прикрытия, без связи с резидентурой. Даже пользоваться радио чревато опасностью.
– Давно вы здесь? – грубо спросил я.
– О, фактически я здесь живу.
Мы оба знали: в месте, подобном этому, следует соблюдать в разговоре особую осторожность, чтобы возможная запись на магнитофонную ленту ничего не могла бы раскрыть. В зале ресторана были колонны и портьеры, и мимо шмыгали официанты. Даже в столе мог быть вмонтирован микрофон.
Он предложил мне сигару, но я покачал головой.
– Я не курю этот сорт.
– Я хотел рекомендовать вам попробовать. – Он убрал портсигар. – Что ж, оставлю вас в покое. Всегда к вашим услугам, конечно, – усмехнулся он, кивая на фотоснимок в газете.
Я поглядел ему вслед, выждал минут десять, попивая кофе, затем отправился в свой номер, переобулся в сухие ботинки, в уме перечисляя все “за” и “против” того, что я собирался проделать. Затем за несколько минут до срока поймал легкую музыку, транслировавшуюся “Евросаундом”.
На бланке отеля я написал:
“Повторяю: никакого прикрытия. Хенгель вошел в контакт со мной. Мне это не нравится. Брэнд вошел в контакт со мной и остается здесь. Это мне тоже не нравится. Повторяю: действую в одиночку”.
Музыка прекратилась.
Я прервал донесение.
“Португез каннинп”: 388. Минус 1.
“Цай-Сульфа”: 459. Плюс 7.
“Квота Фрейт”: 793 5/8. Плюс 10 5/8.
“Ронэлектрик”: 625.
Я выключил приемник. Сказано было следующее:
“Соблюдайте все предосторожности. Вы за красной чертой”.
Я закончил рапорт:
“Если моя линия поведения не вызывает одобрения, вам стоит лишь сказать об этом и отозвать меня. К.”
Они злили меня, и это никуда не годилось, ибо посторонние эмоции во время операции мешают здраво размышлять. Я лишь упомянул Хенгеля, сказав, что он вошел в контакт со мной, и скрыл, что отделался от него в течение нескольких минут. Я не хотел, чтобы его наказали, а желал только, чтобы он убрался с моего пути. Но все это злило меня. А тут еще Брэнд связался со мной, хотя чертовски хорошо знал, что я “горячий”. Даже если в резидентуре не предупредили его, он должен был понять это сам, как только увидел газеты. Теперь и резидентура разозлила меня. “Соблюдайте все предосторожности”. Иными словами, не рискуйте рассекречиванием, не прибегайте к рискованным методам (к которым я уже прибег). “Вы за красной чертой” – означало, что я подставляю себя под неприятельский огонь.
Пусть делают что хотят, пусть попробуют вытащить меня из игры. Это им не удастся. Я отправился на поиски Цоссена. Они сами дали кость собаке.
Проехав на своем “фольксвагене” до Вильмерсдорфа, я там опустил в почтовый ящик свое сообщение. Затем запер машину и остаток пути до дома Инги прошел пешком, злясь в конце концов на самого себя, так как я шел к ней вопреки всем здравым доводам, которые перечислял в уме.
8. Инга
Не прошло и суток, как они пошли по моему следу.
За это время были кое-какие признаки того, что они окружают меня, и я был этим доволен и готов к встрече.
Я вернулся от Инги за полночь. Она была на грани, но старалась не показывать этого. Пса она отправила на место. Инга сказал ему: “свой”, и Юрген удалился, даже не взглянув на меня. Мы сидели вдвоем, потягивая вино и слушая разные пластинки, которые она оставила для меня, мрачные мелодии, которые шли ей – задумчивой и циничной. Она была одета в плотно обтягивающий костюм, с замком-молнией от шеи до поясницы. Обнаженное тело было бы менее выразительно.
Легенда осталась прежней: я представитель Красного Креста, разыскивающий родственников беженцев, умерших в Англии. Она дважды заговаривала о “Фениксе”, а во время одного из своих горьких воспоминаний упомянула о Ротштейне. Я немедленно взял это на заметку; я не знал, что Солли в Берлине. Обязательно надо повидать его.
Улицы, покрытые талым снегом, были пустынны. На небе появился серп луны, косящий темные облака. Разноцветные неоновые рекламы бежали над отсыревшими зданиями, и Крейцберг плыл в небе, словно зеленый остров.
“Фольксваген” находился там, где я его оставил, – на Гогенцоллернплац. Я проверил на ощупь ручки дверцы и замочную скважину – нет ли зазубрин на металле? Спичка, которую я засунул в петлю передней дверцы у сиденья водителя, была на месте. К машине никто не прикасался.
Я поехал на юг через Штеглиц и, заметив следовавшую за мной машину, повернул направо. Машина не отставала…
Значит, хотя мой “фольксваген” не тронули, за ним вели наблюдение.
Это был “ДКВ–Ф–12 Фиртюрер” цвета пушечного металла с голубым отливом; четыре кольца Автосоюза были отчетливо видны на красных предкрыльях. В машине сидел один человек.
Итак, вот оно, первое свидетельство того, что они начали наступление на меня. Наступление, не более того. Убивать меня они не собирались, иначе я был бы мертв к этому времени. Я придерживался мысли, что они достаточно умны, чтобы не прикончить меня за то, что я причастен к судьбе Раушнига, Шрадера и Фогля. Несколько сот военных преступников были осуждены федеральными судами с тех пор, как Лондонское соглашение вошло в силу, и никто из сотрудников комиссии “Зет” не был убит. Если бы они начали террор, это могло повести к малой войне, а, как мне кажется, “Феникс” пока что предпочитал держаться в тени. Люди, подобные Шрадеру и десятку других, которые решились наложить на себя руки, сделали это под давлением своих единомышленников или просто устав от вечного ожидания стука в дверь. Кеннет Линдсей Джоунс и четверо других наших людей были убиты потому, что мертвецы не могут сообщить ничего ценного своему руководству. Они боялись, что КЛД кое-что узнает, а он был достаточно ловок и увертывался от них, и они решили остановить его.
Со мной все было иначе. Они не знали, что меня интересует Цоссен. Им было известно только, что незнакомое лицо неожиданно появилось на первой странице газет рядом с Раушнигом, и что то же самое лицо имело какое-то отношение к смерти Шрадера и аресту Фогля. Сотрудники полиции “Зет” были им хорошо известны. Пока что они не знали, кто я такой, и хотели познакомиться поближе.
Мы ехали направо, налево, опять направо, пересекли Инсбрюкерплац. Попытка отделаться от преследования не имела смысла: они знали, где я живу, но после посещения Инги я чувствовал себя словно школьник, не ведающий, куда ему девать силы, и решил погонять их. Это надо было делать сразу же, так как мы уже подбирались к пределу скорости и в любой момент нашу гонку мог прервать полицейский патруль, а такого рода гласности я хотел избежать. Одно дело – оказаться в объективе фотокорреспондента, другое – покориться законам и предъявить полиции свои документы. Правда, они были так хорошо сфабрикованы, что даже инфракрасные лучи не смогли бы обнаружить подделку, но я не хотел попадать на страницы полицейского протокола, чтобы не вмешивать Красный Крест.
Брызги грязи летели на ветровое стекло, и “дворники” едва успевали сбрасывать их. Я поехал прямо через Штеглиц и Штенде, желая узнать, сделает ли мой преследователь попытку приблизиться и перехватить меня. Нет, он просто хотел узнать, куда я направляюсь. Надо было придумать что-нибудь. В зеркале я видел огни подфарников – пару бледных светлячков, плывущих вдоль перспективы улицы. Переехав Атиллаштрассе, я нырнул в Рингштрассе, направляясь на юго-восток, затем затормозил, чтобы он подъехал ближе. Он тоже замедлил ход, а я нажал на акселератор, увеличил расстояние между нами и круто свернул налево, на Мариендорфдамм, направляясь на северо-восток, к Темпльхофу. Затем начал сворачивать с одной улицы на другую, что вынудило его напрячь внимание. Скорости были высокие, и у меня было преимущество перед преследователем – я мог ехать, куда хотел, а он должен был угадывать мои повороты до того, как я совершал их, и так как я и сам не знал, что буду делать в следующую секунду, то ему приходилось туго.
Один раз он потерял мою машину и лишь случайно увидел ее в конце квартала. Он начал тревожиться, твердо решив, что я еду в какое-то место, которое хочу держать в секрете.
Перед перекрестком Альт-Темпльхоф и Темпльхоф-дамм машина была совсем близко от меня, и тут он попался. Я круто свернул и не услышал скрипа тормозов его машины; наступило несколько долгих секунд сравнительной тишины, затем раздался звук удара, словно взрыв. Услышав его, я тут же развернулся назад, заехав на тротуар. Стремительный “ДКВ” сбил тумбу и рикошетом отлетел через улицу, с грохотом ударившись о стоявший у обочины “опель”. Не прошло и секунды, как машина загорелась.
Я остановил “фольксваген” у обочины, выключил свет и остался сидеть на месте. Кто-то кричал. Дверцы горящей машины заклинило. Я подумал, что успел бы пробежать эти тридцать метров, открыть дверцу и вытащить человека до того, как его охватит пламя, но даже не попытался этого сделать.
Горела машина, человек истошно вопил, а я сидел и наблюдал за этим.
Это было первым доказательством того, что мы открыли боевые действия. Следующее утро принесло второе доказательство.
Утро было бледно-серым. Туман, покрывавший поле аэродрома, окутал набухшую влагой землю. В течение последних двух часов самолеты не прилетали и не вылетали; я проснулся в половине шестого, и со стороны Темпльхофа не доносилось никакого шума. Маяк по-прежнему мигал, отблеск его лучей на потолке моей комнаты с рассветом становился все бледнее и бледнее.
Я подумал об Инге и тут же постарался избавиться от этих мыслей. Живые не должны тревожить нас, для этого достаточно было мертвых.
Я хотел повидать Ротштейна, о котором упомянула Инга.
Воздух в комнате был холодным, словно металл прикасался к лицу. Я подошел, чтобы закрыть окно, и тут же увидел двойной блик света в окне дома напротив. Улица была пустынна, исключение – редко проезжавшие такси, и я вспомнил, что сегодня должен быть особенно осторожен: они промахнулись у стены и, возможно, ради спасения престижа ждут случая исправить свой промах. (Кто должен был оказаться жертвой в тот раз: я или Инга? Я все еще не знал этого. Теперь иное: “Феникс”, вполне вероятно, был схож с любой другой большой организацией, где правая рука не всегда знает, что делает левая. Приказ, по-видимому, заключался в том, чтобы не трогать меня, иначе я уже был бы мертв; но какой-нибудь тугоухий функционер, возможно, вышел на охоту на свой страх и риск или просто желая отомстить за человека, сгоревшего в машине.)
Такси свернуло за угол, и на улице вновь наступила тишина; только хлопнуло окно, закрытое мной. Двойной блик снова мелькнул в окне напротив. Как бы далеко от окна ни стоял в комнате человек, отблеск линз полевого бинокля заметен даже через улицу. Возможно, что это отражалась светлая крыша такси. Всегда можно что-нибудь предпринять, когда вас преследуют, можно отделаться от филера, как только его заметишь, но ничего нельзя поделать, когда за тобой подсматривают. Задернутые шторы не помогут вам, когда вы спускаетесь по лестнице и выходите на улицу.
Я оделся, слушая радио. Утренние биржевые новости дали только позывной сигнал “КФТ” и какую-то мешанину из цифр. По-видимому, наш человек только что получил мое письмо, и в резидентуре еще не решили, что мне ответить.
Чтобы найти адрес доктора Соломона Ротштейна по дополнительному тому к новому телефонному справочнику, я потратил двадцать минут. Вовсе не обязательно встретиться с ним немедленно, так как я рассчитывал пробыть в Берлине еще месяц, но впоследствии, когда они окружат меня со всех сторон, это будет значительно сложнее. К тому же я не хотел причинять ему неприятностей после всего того, что мы с ним пережили.
Я вышел на улицу.
Возможно, что это был подсознательный страх, но он охватил меня, когда я спускался по главной лестнице. Из отеля был еще выход через кухню и по пожарной лестнице. Но ни тем, ни другим пользоваться не следовало, разве только в случае крайней необходимости.
Снег перед отелем был сметен, и ступеньки посыпаны песком. Под башмаками скрипело. Я был полностью виден из противоположного окна, и помимо воли дыхание у меня стало короче, словно при переходе вброд через холодный ручей, когда у тебя перехватывает дыхание, но ты идешь вперед, погружаясь все глужбе и глубже, зная, что это ощущение пройдет. Ты знаешь, что это всего-навсего холод.
Но сейчас это был полевой бинокль.
Что ж, положимся на счастье. Но вспомни, что произошло с Кеннетом Линдсеем Джоунсом. Пять ступенек, шесть, семь… Уфф!.. Теперь он опоздал что-либо предпринять, даже если бы и захотел, потому что я повернул под прямым углом и пошел вдоль тротуара, а он мог выстрелить в меня, только когда я находился на лестнице. На улице стояла тишина – такая, что у меня заболело в ушах: я все еще подсознательно ждал звука выстрела.
Я злился на самого себя. Риск существовал всегда: но я думал не о нем, и мне это не нравилось. Шесть тяжелых месяцев, проведенных мной в ФРГ, расшатали мне нервы.
Я был в поту, когда свернул к гаражу, и подумал: “Стареешь, бедняга…”
“Фольксваген” бежал по оживленным улицам. Лаборатория Ротштейна находилась в районе Целлендорфа, на верхнем этаже здания на Потсдаммерштрассе. В первое мгновение он не узнал меня. Затем глаза его потеплели:
– Квилл… – Он взял меня за обе руки.
– Здравствуй, Солли.
Мы познакомились в Освенциме и с тех пор виделись всего лишь однажды, совершенно случайно, не имея даже времени на то, чтобы поговорить по душам. Это была наша вторая встреча после войны, и я никогда не забуду ее…