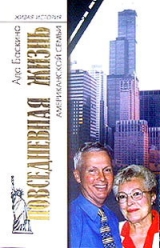
Текст книги "Повседневная жизнь американской семьи"
Автор книги: Ада Баскина
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Дом для престарелых
Моя аспирантка Мэри Пирсон собирается в воскресенье навестить свою бабушку в Nursing home. Это дом для престарелых. Но из названия тактично убраны слова, которые могли бы намекнуть на преклонный возраст пациентов. Я прошу Мэри взять меня с собой.
По дороге она рассказывает, что бабушке 87 лет. До недавнего времени она была еще бодра и подвижна, но месяц назад ее парализовало, отнялись правая рука и нога.
Пройдя через парк, мы подходим к полукруглому зданию светлого кирпича, в середине его стеклянные двери. При нашем приближении они автоматически открываются. Мне приходилось в Москве бывать в домах для престарелых, поэтому я привычно готовлюсь к тому, что обычно шибает в нос с порога, – резкому запаху мочи. Старики ведь часто страдают недержанием; моча въедается в матрасы, коврики, паркет, ее запах пропитывает воздух... Но – запаха нет. Вернее, дурного запаха: только легкий аромат, кажется, сухих цветов.
В центре дома – просторный холл. На полу пушистый ковер цвета топленого молока. Окна загораживают портьеры тоже цвета молока, но парного. И еще один оттенок, средний между этими двумя, у чехлов на мягких креслах.
Из главного холла отходят в стороны коридоры с комнатами-палатами. У каждого – свой цвет стен и в тон ему – цвет ковров на полу: это для того, чтобы пациенту было легче ориентироваться, если он заблудится. Впрочем, иным старичкам и это уже не поможет: склероз. Куда пошел, как вернуться – ничего не помнит. Но это не беда. На мониторе просматривается весь дом. И если на экране появляется заблудившийся пациент, туда сразу же устремляются медсестры.
Мое внимание привлекают украшения стен. Я вошла сюда с чувствами, как мне казалось, наиболее подобающими, – сострадания, жалости, грусти. Но вот я взглянула на первую же картину в рамке на стенде и... рассмеялась. Это был рисунок-шутка на тему как раз о том, как два склеротика не могут найти дорогу к своим палатам. Такие смешные рисунки, карикатуры, пародии перемежаются с очень красивыми картинами. Все как бы призвано отвлечь старого больного человека от его недугов.
По дороге к нам присоединяется Пэм Кукли, социальный работник Дома. Она рада рассказать мне, новому человеку, о своей работе:
– Самый тяжелый период – первый месяц. Надо помочь старому человеку адаптироваться на новом месте. И я помогаю им держать связь с родными, прошу показать мне их фотографии. Спрашиваю, что бы они хотели здесь видеть из того, что напоминает дом. Мы едем вместе, привозим сюда любимые подушки, или старые часы, или коврики, или даже куклы их детей, которые теперь уже сами дедушки и бабушки. Я также помогаю им знакомиться друг с другом, стараюсь найти людей, близких по интересам. Знаете, не так-то легко обрести друзей в старости. Я объединяю их в небольшие кружки – вот это любители покера, а это игроки в лото, а тут меломаны. Кто хочет, может сотворить что-нибудь своими руками.
Пэм ведет меня в мастерские – и мы видим поделки из глины, дерева, ткани, которые старики дарят своим гостям.
Наконец мы подходим к палате бабушки моей аспирантки. Душ, ванна с туалетом, посредине стол, телевизор, два кресла, две кровати. На одной лежит старушка, но это не наша бабушка. Куда же она могла подеваться? «Она в парикмахерской», – говорит соседка так буднично, словно это само собой разумеется, что старая женщина с парализованными ногами могла побежать делать прическу. Мы с Мэри направляемся в указанном направлении. Но навстречу нам уже выезжает коляска, в ней ухоженная леди. На ней лиловое с белым шарфом платье, бусы, наманикюренные ногти, накрашенные ресницы. И свежая, только что из-под фена укладка.
– Бабушка! – Мэри радостно кидается к коляске. Старушка кокетливо нас спрашивает, идет ли ей эта прическа и к лицу ли лиловое. Коляску сопровождает приветливая негритянка в розовом халате и белых брюках – certificate nursing assistant, то есть дипломированная няня. В ее функции входит помогать пациенту в том, в чем он испытывает трудности, – в еде, в передвижении, в стрижке ногтей. И конечно, в купании: каждый день душ и для желающих – ванна.
Кроме няни, за пациентами ухаживают license practical nurse, то есть медицинская сестра, и registered nurse – помощница врача. Ну и, наконец, сам врач. Вернее, 39 докторов разных специальностей.
Да, и еще волонтеры. Это энтузиасты, которые бесплатно помогают медицинским работникам ухаживать за пациентами. Они читают старикам, рассказывают забавные истории, а главное – слушают их самих. Это ведь так важно, чтобы кто-то внимательно, не торопясь, тебя выслушал.
...В холле на мягких креслах сидели старые люди. Хорошо пахнущие (на некоторых, оказывается, надежные памперсы – вот почему нет здесь запаха мочи), аккуратно постриженные, чисто выбритые, многие женщины, как и «наша» бабушка, были наряжены и накрашены. Они играли, читали, болтали. Но двое стариков, не в креслах, а в колясках, сидели отдельно. И, казалось, были полностью отключены от реального мира. На их лицах застыло то характерное выражение, которое на медицинском языке называется «гримасой маразма». Впервые я увидела не тех, кого оскорбляют этим словом – «маразматик», а действительно глубоких стариков, почти полностью утративших связь с реальностью. Перед ними стоял красивый парень лет двадцати, студент колледжа, и держал на веревочке надутый шар в форме больших улыбающихся губ. Когда он дергал веревочку, шар слегка покачивался, и старикам, очевидно, казалось, что кто-то им улыбается. И они в ответ улыбались тоже.
Шок старения
И все-таки, конечно, у старости свои проблемы, и американцы тут не исключение. Разумеется, когда есть деньги, кое-какие из этих проблем решать легче. Скажем, болезни лучше лечить в дорогих клиниках, у дорогих врачей. А освободившееся для досуга время интереснее проводить в элитных клубах, в театрах и зарубежных путешествиях, а не дома у телевизора. Однако есть такие признаки возраста, которые доставляют страдания, мало зависящие или даже совсем не зависящие от материальной стороны жизни. Комментируя результаты опроса, по которому выходило, что большинство американских стариков довольны своим бытием, беспристрастный исследователь Макс Лернер замечает как бы в некоторой задумчивости: «Это не совсем совпадает с моими собственными впечатлениями, а равно и с тем, что нам известно об основных тенденциях, определяющих жизнь человека в Америке».
А известно ему вот что: человек болезненно переживает свой переход из состояния зрелости в состояние старости. Он называет этот феномен «шоком старения». Что вызывает этот шок? «Уход из жизни родных и друзей, потеря положения, утрата полезной и уважаемой роли в обществе».
Начнем с первой причины. Смерть родных и друзей трагична не только из-за боли утрат. Немаловажно и практическое следствие этих утрат: одиночество. По всем статистическим данным, количество одиноких людей в Америке с каждым годом растет во всех возрастных группах. Но особенно заметно среди пожилых. На сегодняшний день 45% американцев пенсионного возраста живут по одному. Почти половина. Кроме смерти близких, на это есть и другие причины. Одна из них, как я уже писала, – empty nest, пустое гнездо, в которое превращают дети родной дом очень рано, сразу же после школы, уезжая от него подальше. Когда родителям лет по 45-50, они полны сил и социально активны, это не так болезненно. Но когда наступает старость да еще один из них уходит из жизни, одиночество превращается в драму.
Долгое время я считала, что раздельная жизнь родителей-пенсионеров и их взрослых детей – просто американская традиция. Только позже узнала, что она имеет вполне материальную подоплеку: социальная пенсия выплачивается старикам, которые формально не пользуются помощью детей. Если же они живут вместе, размер пенсии может быть урезан аж на две трети. То же и с квартирой: ее могут предоставить бесплатно или со льготой в оплате только одинокому пенсионеру (или супругам-пенсионерам).
Таким образом, это вполне гуманное желание облегчить финансовое бремя старикам дает, так сказать, и незапланированный эффект: вынужденное раздельное существование, то есть одиночество.
Здесь я хотела бы рассказать одну больно задевшую меня историю. Обычно Nursing home, о котором я написала в предыдущей главе, – это удел людей с невысоким достатком. Те же, что побогаче, поселяются в Elderly houses, домах для пожилых. Это обычный дом с отдельными квартирами, которые старики приобретают в собственность. Разница лишь в том, что все жильцы находятся под постоянным присмотром врачей, нянь, массажистов и работников других служб. У них нет необходимости готовить: внизу в столовой три раза в день накрывают на стол. Но если вдруг захотелось что-то сделать самому, скажем, принять гостей – для этого в квартире есть кухня. Впрочем, когда мы пришли в гости к Элси, владелице такой квартиры, она повела нас в ту же столовую, и мы присоединились к большой компании ее друзей.
Элси, 78-летняя мать моего друга, профессора Айвона Фасса, – глубоко симпатичный мне человек. Всю жизнь она проработала в качестве registered nurse, то есть помощницы врача. Трижды вдова, она во всех браках была счастлива, вырастила детей и последние годы жила в семье своего любимого сына. Айвон и его жена Джойс души не чаяли в Элси, да, по правде, ее и нельзя не любить: огромная доброта, удивительная деликатность и к тому же милая манера шутить над собой.
Я любила бывать у них в гостях, чувствовала себя там всегда тепло и свободно.
Каково же было мое удивление, когда, приехав в очередной раз, я узнала, что Элси живет отдельно. За это время у Айвона случился инфаркт, а у Элси – очередной инсульт. Стало ясно, что одной Джойс, тоже уже немолодой женщине, двух тяжелобольных в доме не потянуть. Да и траты увеличивались. Словом, решено было их большой дом продать, супругам переехать в меньший, а Элси купить квартиру в Elderly house.
...Я очень рада видеть Элси. Она все также приветлива и шутлива. Только вот рассказывает о себе мало. Говорит лишь, что здесь fine, nice – без подробностей. Я знаю, что она очень выдержанный человек. Но когда я все-таки пристаю к ней со своими вопросами о ее жизни вдали от семьи, она вдруг отвечает мне долгим-долгим взглядом, а в нем – глухая тоска. Тоска одиночества.
Вторая причина «шока старения» – потеря социального положения в обществе, я думаю, отнюдь не чисто американское явление. Любому человеку, работавшему всю жизнь, чрезвычайно трудно менять весь уклад своей жизни. Тоскливо ощущать себя, словно в вакууме, вдали от деловой суеты, от рабочей ответственности, от интересов команды, в которой трудился. Правительство США, заслуживающее всяческих похвал за свою политику в отношении пожилых, позаботилось и об этой стороне их жизни. В 1986 году федеральный закон вообще отменил возрастной предел выхода на пенсию.
Так гласит закон. Но жизнь, как известно, развивается по своим правилам. Да, нельзя уволить человека по возрасту. Но можно создать такую обстановку, когда сам не захочешь больше здесь оставаться. Тем более что при постоянном дефиците рабочих мест и бешеной конкуренции всегда есть молодые коллеги, жаждущие передвинуться на более высокие позиции, а их обычно и занимают работники к концу своей карьеры. Под гнетом недоброжелательной атмосферы они вынуждены уйти. Существует и другой, более гуманный способ избавиться от старых работников. Им предлагают значительно лучшие условия при более раннем выходе на пенсию. Многие на это соглашаются: слишком ощутима разница в деньгах. Но вот я регулярно встречаю у лифта 78-летнего профессора античной литературы К., он уже 50 лет преподает в этом университете. Не оставляя работу, он ежемесячно теряет значительную сумму. Однако ничего менять в своей жизни не собирается – занятие любимым делом для него важнее денег.
Кстати, профессор К. в лифт никогда не входит: проходит мимо него на лестницу и поднимается пешком на четвертый этаж. Я, однако, замечаю, что делать ему это трудно, он часто останавливается, тяжело дышит. Как-то я спрашиваю, почему он не воспользуется лифтом. «Не хочу отставать от коллег», – улыбнувшись, отвечает он. И тут я вспоминаю, что ведь на его кафедре все семь преподавателей – молодые люди, они всегда легко взбегают по лестнице.
«Старый человек ощущает себя пленником тела, этой внешней оболочки его прежних устремлений... Он страдает от утраты физической привлекательности». Эту причину Макс Лернер также называет среди других, вызывающих «шок старения».
Тут надо заметить, что в этом смысле «шок» идет многим пожилым американцам на пользу. Ни в одной стране не видела я стариков, так тщательно следящих за своим внешним видом. Спортивность, подтянутость, подвижность – это, так сказать, сигналы, которые они подают окружающим в знак того, что все еще молоды. Отсюда и многочисленность пожилых среди членов спортивных клубов, посетителей бассейнов и особенно игроков в гольф. Отсюда и такая радостная гамма красок в их нарядах, о которых я говорила в начале главы. «Самое лестное, что вы можете сказать пожилому американцу, это то, что он выглядит моложе своих лет», – заключает М. Лернер с явной иронией. Мне, признаюсь, импонирует этот тщательный контроль за своей физической формой. Однако у американского социолога другая точка зрения: он считает, что у «стариков должно быть спокойное смирение и внутренняя безмятежность, которые бы находили признание у окружающих». Он делает особое ударение на второй части этой идеи: общество должно менять свое отношение к пожилым людям. «Нужно воспитать поколение людей, из чьих моральных ценностей старики не были бы исключены».
Мой большой друг Дик Шауэрмен, историк и школьный учитель, человек нестарый. Однако в свои 37 он пришел к тому же выводу: необходимо формировать у детей не просто уважение, но симпатию к старикам. Он поделился со мной этой идеей еще десять лет назад, когда мы с ним только познакомились. Но я была настроена скептически: что значит «сформировать симпатию»? То есть искусственно вызвать чувства? Как можно вообще уговорить, убедить кого-либо что-нибудь чувствовать? Однако Дик не собирался никого уговаривать. Он просто начал эксперимент, который продолжается в его школе уже несколько лет.
Суть эксперимента такова. Дик отыскивает самых ярких представителей старшего поколения. Спортсменов, художников, путешественников, политиков. Их он приглашает в школу: одних – чтобы обучить ребят какому-нибудь ремеслу, других – чтобы просто рассказать о себе, третьих – чтобы побеседовать с детьми, ответить на их самые сокровенные вопросы. Детям нравятся эти старики – привлекательные внешне, умелые, остроумные. И обязательно обаятельные. Ребята хотят с ними общаться. И через это общение они постепенно меняют отношение и к их ровесникам, на которых привыкли смотреть «сквозь», то есть просто не замечать.
– Я не могу сказать, что мой рецепт универсален, – говорит Дик Шауэрмен. – Но с чего-то же надо начинать...
Глава IX
ЗДОРОВЬЕ
Дорогое удовольствие
В доме у моей знакомой в Лос-Анджелесе гостит мама из Москвы. Она приехала вчера, а сегодня лежит на тахте и стонет. Сердечный приступ. Дочь суетится, достает из маминого чемодана московские лекарства.
– Врача вызвали? – спрашиваю я по инерции. И сама же удивляюсь своей глупости. Откуда у иммигрантов такие деньги, чтобы можно было врача на дом вызывать?
– Но тогда надо срочно в больницу, – не унимаюсь я.
Тут все наперебой принимаются мне объяснять, словно оправдываясь, что это предприятие может влететь им в копеечку. Страховку-то они маме купили, но сам черт в них, в этих страховках, ногу сломит! Они по телефону выясняли, и, кажется, сердечный приступ под бесплатное лечение не подпадает. К счастью, все обошлось – лекарства помогли.
Этот эпизод еще раз мне напомнил, что лечение в Америке дело дорогое. Цены на медицинские услуги существенно разнятся.
Обычно большую часть этих расходов берет на себя страховая компания. Крупные фирмы, а также многие университеты, колледжи страховки своим работникам оплачивают полностью. Фирмы поменьше – частично. Остальные пациенты приобретают их сами. Или не приобретают. Правда, для нуждающихся существует государственная программа Medicate, предоставляющая им право на лечение в бесплатных клиниках. Но качество этих клиник далеко не самое лучшее.
Система страховок настолько сложна, что я так и не смогла в ней разобраться за все десять лет. Потому и писать об этом не буду. Знаю только, что какой бы большой объем медицинских услуг она на себя ни брала, все равно часть из них приходится покрывать самому пациенту. Мой коллега профессор Б. попал с приступом аппендицита в госпиталь и пролежал там неделю. При максимально оплаченной университетом страховке ему пришлось из своего кармана выложить 2 тысячи долларов – что-то около 15% стоимости операции и еще какую-то часть за само пребывание в госпитале.
Справедливости ради надо сказать, что практическая медицина в США находится на очень высоком уровне, особенно хирургия. А безукоризненный уход помогает больному легче восстановить здоровье. Поэтому многие болезни, о которых мы в России говорим шепотом – настолько трудно их лечение, а процент выздоровления невелик, – в США считают вполне рядовыми, лечат их быстро и эффективно. Например, онкологические.
Приехав в Чикаго, я позвонила известной общественной деятельнице профессору Лии Голден, которую знала еще в Москве (у нас больше известна ее дочь, телеведущая Елена Ханга). Бодрым голосом она мне сообщила:
– Завтра встретиться не могу, у меня полостная операция, удаляют раковую опухоль. Но дней через десять давайте увидимся, сходим в музей.
Я подавленно молчала, понимая, сколь эфемерны ее радужные планы. Не через десять дней, но ровно через две недели Лия сама мне позвонила, и мы встретились у Музея истории, науки и техники. Она была немного слаба, в паричке на остриженной голове. Но все так же бодра духом. С тех пор прошло больше десяти лет. Лия Голден по-прежнему преподает в университете и ездит по всем континентам в составе всевозможных делегаций. О своей операции она уже и думать забыла.
Однако больше всего меня поражает в Америке сам стиль обращения медиков с пациентом. Расскажу о собственном опыте. У меня заболело колено, и я решила показать его врачу. Поднявшись на второй этаж вашингтонского здания, я нашла дверь с табличкой «Ортопед» и фамилией доктора. По английской фамилии пол определить нельзя. Поэтому, когда я увидела на пороге миловидную даму средних лет в голубом медицинском халате, я немного удивилась: мне казалось, что ортопед должен быть мужчиной. «Меня зовут Кэт, я receptionist (секретарь в приемной)», – представилась она, радушно улыбаясь. И предложила сесть в мягкое кресло с удобной спинкой. Затем протянула бумажный листок на твердой подставке, чтобы легче было писать; я должна была его заполнить по форме самыми общими данными о себе.
Потом она отвела меня в кабинет, и я увидела другую даму, молодую и хорошенькую, в розовом халатике, которая улыбалась еще более радушно. Не успела я подумать, что хорошо бы врач все-таки была бы постарше, как она представилась: «Пэм, registered nurse» (то есть помощник доктора). С ней мы провели минут сорок, она выспрашивала меня о состоянии моего организма, начиная с рождения («Мама вам не рассказывала, сколько часов длились схватки? А сколько у нее было разрывов?») и заканчивая моим больным коленом.
Когда опрос был окончен, она вышла, а вместо нее вошел мужчина. Огромный широкоплечий негр в белом халате. Лицо его было непроницаемо и значительно. «Вот это настоящий доктор, знает себе цену», – только мелькнуло у меня в голове, как он сказал низким баритоном: «Не будете ли вы добры последовать за мной в рентгеновский кабинет. Я техник-рентгенолог». Через несколько минут он сопровождал меня обратно, держа на весу еще мокрые, но уже готовые снимки.
Но вот дверь распахнулась – и в комнату влетел, нет, впорхнул Он. Доктор. Зеленый халат по колено скрывал одежду, но все равно было видно, что одет он модно и дорого. Острые складки брюк из отличной шерсти; сверкающие туфли, точно такие, какие я видела в витрине мужского бутика; носки и галстук одного цвета; стрижка, выполненная в дорогом салоне... Он был обворожителен. На его тонком подвижном лице соединялись два выражения – легкой приветливости и глубокого внимания.
– Итак, вы мне принесли свои ноги? – начал он.
– Нет, только одну, – охотно поддержала я его шутливый тон.
– И даже не ногу, а только ее небольшую часть, колено, – продолжал он, уже осматривая меня. – Ну, это значительно упрощает мою задачу.
В таком очаровательном стиле мы проговорили с четверть часа, после чего он дал мне ряд несложных рекомендаций и выписал лекарство. Я выкатилась из кабинета в полном охмурении. Я чувствовала себя целиком во власти докторовых чар. И только когда миловидная секретарша протянула счет и сообщила, что мне как иностранке сделана большая скидка, я наконец пришла в себя. Прием стоил с учетом скидки 250 долларов. Окончательно же я протрезвела в аптеке: лекарство стоило ровно столько же. Итак, полтысячи долларов... А, ладно, чего не отдашь, чтобы оно не ныло, это проклятое колено. И оно действительно болеть перестало. Ровно на десять дней. Потом все началось сначала.
В Москве я по направлению моей районной поликлиники – а она все еще обслуживает бесплатно – пошла в Институт травматологии и ортопедии. Московский ортопед дал мне почти те же советы, что и вашингтонский, но уже без денег. И прописал другое лекарство, оно стоило 7 долларов. И тоже, кстати, действовало ровно десять дней. И все-таки я поняла, за что я заплатила лишние 493 доллара. За совершенно мне незнакомый стиль обращения в медицинском учреждении. За впечатления, которых мне хватит на много лет.








