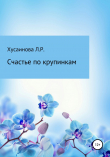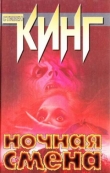Текст книги "Мартовский снег"
Автор книги: Абиш Кекилбаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Мартовский снег
МАРТОВСКИЙ СНЕГ
Старуха домовничала. Темнолицая, в длинном платье, в просторном белом жаулыкс, опа неуклюже швыркала веником, прибирала в закоулках комнат, в узком, длинном коридоре, и казалось, уборке нет конца.
– Э, будь оно неладно, это городское жилье! Всех углов-закутков ио перечтешь...
Время от времени опа мельком косилась на дверь. II чего дрыхнуть до обеда, когда кругом раскардаш?!.
Жила бы, как прежде, в своей немудреной четырехстворчатой юртешке, давно прибралась бы, что языком вылизала. Чего там? Четыре домотканых паласа-алаша – два в полоску, два в узорах, выцветшая холщовая сума для постели да замызганный, закопченный куль для утвари считан, все убранство. Взял в охапку, вынес на ветер, тряхнул раз-другой – и уборке конец. А уж рассохшийся деревянный поставец для тюков и кое-как сбитый деверем-кузнецом ларь сдвигают с места лишь при кочевках. Вот оно и все богатство. II это-то нынче пылится вперемешку с дровами в летней кухпе-шошале замужней дочери.
Разбирали юртчонку – горькими слезами обливалась. II теперь еще все перед глазами: три связки упип швырнули в угол за железную бочку из-под солярки; четыре ветхие боковые стенки – кереге затолкали под кучу хлама – сопревшие кошмы, войлочные подстилки и прочую ветошь; потолочному кругу из тальника не досталось места в тесном закутке, и потому забросили его на крышу шошалы. Вот так рассовывая по углам дочкиного подворья свой привычный скарб, прямо-таки захлебывалась от слез. А попробуй удержи их, если посреди белого дня рушат твое родное гнездовье! Рушат юртешку, только чужому глазу убогую, а сердцу теплую, кровную. Ее ведь когда-то сам свекор-свет ставил, а хлопотунья свекровушка своими руками ладила гнутые жердины – упины. Сколько воды с тех пор утекло, сколько всего пережито, а стояла юртешка, надежно и верно стояла на земле, но покачнулась, по рассыпалась даже в лихую годину, а теперь, когда кругом мир да благодать, разобрали разнесли по щепкам и бросили за ненадобностью.
Суму для постели и куль для утвари, уезжая, двум приятельницам на добрую память подарила. Ларь и деревянный поставец двум невесткам передала. Другим аульным бабам, пришедшим провожать ее, раздала резной половник и все чаши. Только остов юрты да закопченный казан проси ла по трогать. Перед дорогой отвела дочь в сторонку, строго наказала:
– Летом поставь юртсшку возле дома. Но гнушайся ею, сама в ной выросла. Потом... кто знает... может, еще по уживусь в большом-то городе...
Где пир, где веселье,– там и ваш сын. Как же? Разве без пего обойдутся? Уедет и педелями, бывает, и не показывается. А свекровушка и по дому копошится, и от внучки ни на шаг не отходит. Л я уже на сносях, того и гляди рассыплюсь, но—делать нечего – брожу по барханам, собираю кизяк и хворост и волоку-тащу домой тяжеленные мешки. Однажды – день уже клонился к вечеру – я еле– еле добралась до дому и только опустилась, обессиленная, возле стога, как сын ваш разворчался, недовольный тем, что я не успела состирнуть ему белую рубаху, в которой он обычно красовался па вечеринках. Я до того не имела привычки возражать ему, а в тот раз черт дернул меня за язык. Взяла и ляпнула: «Другие гуляют – куда ни шло, а ты-то... Посмотрел бы на себя в зеркало?!» Буркнула, а сама дыхание затаила. И тут боль огнем обожгла мое правое плечо. Сын ваш хлестнул меня раз камчой и вышел, как пи в чем не бывало. «Вот пес, что он делает, а?!» – только и промолвила растерявшаяся свекровь.
Разве можно было в то время от унижения и обиды реветь и рвать волосы на глазах свекра или свекрови? Эка невидаль, богом данный муж стеганул тебя разок плетью!.. Я вся сжалась и точно окаменела. Ни слезники не проронила. Поздно вечером, после ужина, я молча постелила для свекрови постель, уложила дочку в люльку, погасила лампу, опустила тупдук – потолочный войлок, потом вышла из юрты и укрыла топку старой кошмой, чтобы не отсырела от росы. И только потом тихо пробралась к своей постели, прилегла и дала волю слезам. И то лишь молча, без единого всхлипывания и стона. Остановиться не могу. Только никому пет дела до моих слез: родпой супруг уехал в верховье с Красной юртой и веселится в свое удовольствие. Утром я сготовила для свекрови чай и снова отправилась в степь собирать хворост.
Как мне повезло в тот день! Наткнулась я неожиданно на густые заросли сухого жузгепа. О такой топке в пустынной степи только мечтать. От радости обо всем забыла на свете. Только и делала, что вязала вязанку за вязанкой. А когда взвалила все на спину – подогнулась вся, зашаталась, будто нечистая сила меня оседлала. А я ведь, атажан, крепкая баба: огромный казан, полный мяса, запросто одна с треноги снимаю. Л тут вдруг ноги подкашиваются. Да и песок – будь не неладен! – зыбучий такой, прямо уплывает из-под ног. Вся тяжесть тянущей болью отозвалась внутри живота, а ноги стали будто ватными. Кусая губы, обливаясь потом, я двинулась в обратный путь чуть ли не ползком. Кое-как, с бесконечными остановками, дотащилась до крайней юрты крохотного аула среди барханов. Тут я нс выдержала – шлепнулась на песок вместе с вязанкой за спиной. В глазах потемнело. Вдруг услышала странный, душераздирающий крик и нс разобрала, то ли я сама вскрикнула от боли, то ли кто завопил дурным голосом.
На крик этот выбежала из юрты свекровка. Присеменила, спотыкаясь о длинный подол, засуетилась вокруг меня:
– О аллах всемилостивый!.. Разродилась бедняжка... опросталась...
Вот так, добрый атажан, появился на свет ваш единственный внук, нарисовавший вас сегодня как живого и повесивший ваше изображение на почетное место нашей невзрачной лачуги...
С того дня мою свекровку будто подменили. Сами водь, атажан, знаете: тороватостью она никогда не отличалась. Все, что попадало ей в руки, она тотчас складывала во вместительный сосновый сундук, сколоченный проезжим мастером-армянином, а ключ от пего хранила при себе, па шее, точно драгоценный амулет. Когда же родился внучек, она враз охладела ко всяким тряпкам. С утра до вечера только и крутится между двумя люльками, забыв обо всем на свете, точно завороженный воробышек. А ваш сын, ушедший накануне разгневанным из дома, едва услышав, что у него родился сын, тотчас примчался, развевая полы чапа– на. Смешно вспомнить: гусаком носился по юрте.
Теперь уже я надула губы. Заважничала. Ведь искони веков степняк покорно сносил капризы снохи-молодки, если она рожала сыновей на великую радость мужа и всего рода. Щедрый закатили пир в честь рождения сына. Не одного барашка на радости порешили. Пусть малыш растет здоровым и крепким. Пусть не оставят его, всемогущие духи! Тому, кто перерезал пуповину, подарили телку. Тот, кто сотворил благодарственную молитву и нарек новорожденного, получил дорогое инкрустированное седло. Тому же, кто обрил младенцу головку, досталась суягная овца. Вот так, ошалев от радости, сын ваш палево и направо транжирил свое скудное состояние, а я, глупая баба, целый год па него дулась, не в силах забыть то, что он однажды поднял на меня руку, и выказывала свой норов, точно строптивая кляча. Теперь, когда я думаю об этом, у меня, атажан, щеки горят от стыда. Когда, в какие времена бывало, чтобы низкородная баба могла по достоинству оцепить свое счастье? Ведь – если подумать – все у меня тогда было: и муж, и дочка с сыном; над головой – надежная крыша, и, как говорится, постель тепла, и казан не пуст, и можно жить да поживать, довольствуясь тем, что есть, и не гневить всевышнего. Так пет, я как ослепла от обиды. Целый год хмурь сводила брови. Теперь же, атажан, я поняла: счастье, когда оно есть, никогда не ценишь, как не ценишь верного пса у порога, которого, случается, походя пинаешь в морду и вспоминаешь лишь тогда, когда на твоих овец нападают волки. Мужчин же так уж создал бог, что они иногда разбушуются, точно гроза в знойный день, но потом сразу же отходят, а мы, долгополые дурехи, из-за случайной вспышки и себе душу травим, и мужей изводим. А бабье счастье не в том, что муж ее не дубасит. Вот уже сколько лет ни один мужчина пальцем меня не тронул... Сколько пас, вдов, тоской исходят от вольной волюшки, будто яловые кобылицы, без узды-повода пущенные в дикую степь. А где оно, счастье-то? Какой бабе по душе такая воля? И теперь, дорогой атажан. когда я думаю о том времени, у меня не только щемит-плачет сердце, по и та хлесткая боль, обжегшая мое правое плечо, чудится мне сладкой. Сын ваш горемычный никогда не был бездушным упрямцем, у него было чуткое, доброе сердце. Он, конечно, давным-давно простил столь долгий гнев неразумной бабы, не затаил же он досаду в сердце, не унес с собой обиду на тот свет. Так я думаю, так я надеюсь, дорогой, незабвенный атажан. А я как могла лелеяла его хрупкую веточку, его кровинушку, отросток его рода, ночей недосыпала, все мытарства-беды перенесла и вот уже почти довела до ума-разума. Вырос, атажан, ваш внучек. И тянет его к странному искусству-ремеслу, о котором никто в его роду – во всех семи поколениях – и не слыхивал...»
Все это она рассказала то ли вслух, то ли про себя, глядя на разительно похожий, живой портрет доброй памяти свекра, и очнулась от дум лишь тогда, когда зашипел, яростно клокоча, черный, густо закопченный чайник на треноге.
В тот день после обеденного перерыва опа шла к косарям легко, бодро, будто летела на быстроногом скакуне. После смерти свекрови она никому не раскрывала душу, многое накопилось, наслоилось в закоулках сердца, а тут вдруг почувствовала небывалое облегчение.
Чернявый мальчишка увлекся рисованием всерьез. II она поначалу думала, что это просто одна из многочисленных ученических забав. II вот однажды, спустя многие годы, когда сын уже учился в городе-столице, завернул как-то к ней старший деверь-чабан:
– Невестушка, ты хоть знаешь, на кого наш шишкоголовый учится? По тому, как он укатил па край земли, я-то полагал, он учится па секретаря райкома пли председателя райисполкома. Думал: и из нашего рода кто-то в люди пробьется, пас облагодетельствует. А он, негодник, шантрапа, говорят, какой-то чепухой занимается. Недостойным мужчины делом. И виновата в этом ты, только ты. И сама все молчишь, и другим рот затыкаешь. Получается как в страшном проклятье: сам ничего нс ведай, а ведающего не слушай. Вот и проглядела мальца. Вырос бестолочью!
II в праведном своем гневе деверь отхлестал куцехвостую гнедуху и ускакал прочь.
Как она тогда плакала от обиды и унижения! Окончив школу, ее шишкоголовый упрямец полез однажды в сундучок, достал из заветного узелочка пачку приятно шелестящих пестрых бумажек, сунул их в карман и в кузове попутной машины, вертя во все стороны курчавой головой, умчался в район. От горя и тоски опа была готова реветь в голос, но крепилась изо всех сил, чтобы не накликать беды. Только прижала па прощание сына к груди, поцеловала по обычаю в лоб и осталась как вкопанная стоять одна-одинешенька...
Она даже не спросила, куда сын поступает, на кого намерен выучиться. Только получив от него долгожданную телеграмму, зарезала на радостях жирную ярку и пригласила аульных старцев, чтобы они дали ее единственному благословение – бата.
С того времени на душе ее стало спокойно и умиротворенно. Она уже не утомлялась, как прежде, и по тяготилась одиночеством. Как бы ни уставала на бесконечной колхозной работе, придя домой и напившись крепкого чая, предавалась сладким мечтам о будущей благодатной жизни, ожидающей ее после возвращения сына с учебы, и тяжесть повседневных забот мгновенно улетучивалась. Подумаешь, осталось ждать каких-нибудь пять лет. За такой срок родившееся нынче дитя едва научится оправляться без посторонней помощи. А потом она, мать новоиспеченного специалиста, всю жизнь привыкшая жить на задворках захудалого аула сакманщиц, чабанов или косарей, разом переберется па центральную усадьбу. Так повелось: с учебы из больших городов аульные парни возвращаются или ветеринарами, или врачами, или – на худой конец – учителями. Всем им в аулах – почет и уважение. Вот и ее ненаглядный сынок вернется из столицы достойным человеком и будет жить в новом просторном доме. Нынешним молодым людям при желании нетрудно достичь состояния и положения. Дай только аллах здоровья и немного удачи-везения. Так и ее сын: проработает годика два-три, встанет на ноги, накопит деньжат и вместо этой ветхой, полуистлевшей лачужки поставит шестистворчатую белую нарядную юрту всем на радость. Уже теперь подруги поговаривают о том, что непременно подкинут каждая пару мешков шерсти и по куску кошмы, когда – после окончания сыном учебы – надумает она ставить новую юрту. Ничего, живы будем – и до этого доживем. Л какая это будет юрта – и представить несложно: верхние боковые кошмы белые-белые, как неснятое молоко; по ним идет широкая опояска, обшитая по краям красной тесьмой и украшенная белой аппликацией в форме крутых архаровых рогов; сама юрта, ослепительно белая, как яичко, издали манит– притягпвает взор; ее верхний остов – потолочное отверстие– дымоход – отделан вырезным орнаментом и отливает синевой; потолочные кривые жердины – унины – окрашены хной; нижние решетки – керсге – толщиной в руку; весь каркас юрты крепок и высок; изнутри юрта отделана тонким красочным войлоком с яркими лентами из разноцветной пряжи с кистями; все стенки увешаны домоткаными коврами; пол устлан плотными самоткаными паласами– алаша; па почетном месте постоянно восседают уважаемые гости. А дальше?.. А дальше, если к ним будут приезжать гости из города, утверждая, что во всей округе нет другой такой опрятной и уютной юрты и столь щедрого дастархана; а со всех сторон стекаться по-аульному бесцеремонные и шумные степняки, похваливая улыбчивую невестку за густой, душистый: чай; а сын учтиво спрашивать у матери позволения зарезать ярочку в честь заезжей знаменитости; а невестка советоваться о том, какое платье подарить супруге уезжающего почтенного гостя; а баловень-внук, кулачком вытирая несуществующие слезы, канючить возле уха: «Бабушка, а бабушка, отлугай мою апашку, она мне конфеты не дает»; а сама она горделивой ханшей сидеть на мягких подстилках и подушках, благодаря всевышнего за все благодеяния, то, признайтесь, люди добрые, может ли быть у простого смертного на этом свете еще большее счастье талана?!
И вот теперь почудилось, что вечно недовольный, сварливый старший деверь-чабан той самой своей короткой плетью, которой ни за что ни про что отхлестал покорную изможденную клячу, вдруг в одночасье разбил в пух и прах ее так старательно взлелеянное в мечтах видение. Что он мелет, несчастный? Как мог ее сын, первый ученик школы, так сплоховать и учиться там, где ему не разрешат стать даже скотным лекарем?! Что же он натворил, бедолага?! Никому ни слова не говорила о своих сомнениях и смятении, однако саднящая боль все эти долгие годы таилась клубком, свернувшись в уголке души, пока не пришло однажды от сына коротенькое письмо с ликующей вестью: «Ана, нам с тобой дают квартиру!» Когда уезжала из родного аула, состарившийся деверь-чабан вдруг прослезился на прощание:
– Доброй и верной невесткой нам была, к сердцу приросла. Теперь наш грамотей-племянник... пес этакий... выучился и тебя от нас за тридевять земель забирав . Кто знает... увидимся ли еще когда-нибудь?..
Она ответила:
– Не убивайтесь, старший деверь. И не осуждайте меня. Я ведь, когда мой единственный сыпок дорос до того, что сам мог удержаться за гриву копя, поклялась святым духам, что не стану ему мешать пи в чем. Куда поедет, кого возьмет, чем займется – его воля. Я же только буду при нем, постараюсь быть ему поддержкой и подмогой. И умру там, где настигнет меня смерть. Слово свое сдержу. Не обижайтесь, что уезжаю от вас. С кем же мне еще быть, как не с сыном? Пожелайте нам удачи. И да минуют нас всех беды-горести!
Аулчане, собравшиеся, на проводы, были растроганы.
– Ах, милая,– сказали старейшины,– хоть и долгополая баба, а мудро рассудила. Да сопутствует ей счастье– удача!
«И я, аллах... сберегла я чадо кровное от хищника крылатого, от зверя клыкастого... дай мне и остаток жизни прожить при нем. Ни о чем больше не молю тебя. На окраине чужого города, на чужом кладбище покоится прах его дедушки. Неизвестно, где и под каким кустом захоронены бренные останки его отца. Так чем я их лучше? Душой? Судьбой? Или телом? Мне ли выбирать, где прожить остаток своих дней и где, в какой земле лежать после кончины?! Если в роковой час постоит у моего изголовья родной сын, а потом бросит в мою могилу горсть земли – я благодарна судьбе...» Так рассуждала она про себя, трясясь в кабине разболтанного колхозного грузовика, грозившего развалиться на ухабистых дорогах родного края, который она покидала, быть может, навсегда.
Слева и справа мелькали, раскаленными угольями обжигая глаза и душу, сызмальства знакомые холмы и песчаные увалы. Вдалеке, за барханами, плавящиеся в причу– дливом мираже, смутно темнели могилы предков. Из-за угла испуганно выскакивала стайка чутких косуль, разбегалась врассыпную и через несколько мгновений, снова сбиваясь в косяк, сторожко смотрела вслед. Впереди машины, со свистом прорезая воздух, ошалело носились белогрудые ласточки с острыми раздвоенными хвостами.
Все родпое и близкое вокруг провожало ее с грустью жгло сердце, тянулось к ней, точно оплакивая разлуку.
А уже в поезде, на монотонно качавшейся полке, ей при снился сон. В верховом, чей треух смешно вздрагивал в такт рыси, она узнала свекра. Узнала и всерьез испугалась. А что, если свекор вдруг гневно закричит: «Куда вы улепе тываете, разворошив родное гнездо, а?!» Что она, сноха, тогда ответит? Но свекор ни слова не сказал, только издали помахал рукой. А сам заспешил-погиался за иышиохвостой красной лисицей... «Что за наваждение? Свекор ведь никогда не увлекался охотой...» – подумала она во сне и проснулась.
II вот, добравшись из такой дали в столичный город, кое-как приютилась в чужом доме. Всю жизнь сама собой распоряжалась в собственной юрте, а тут вдруг, когда уже. казалось, птица счастья уселась па плечо, надо было угождать чужим людям, у которых сын снимал угол. Она пригорюнилась было и все чаще вспоминала предостережения старшего деверя-чабана.
А потом, когда вошли в новую квартиру, глазам своим не поверила – растерянно озиралась то па потолок, то па пол, и сын, покосившись на нее, усмехнулся. Оказывается, не забыл, сердешный, тот давнишний разговор.
– Ну что, апа? – заулыбался он, – Вышел из меня человек?
– Вышел, вышел, мой жеребенок! Да еще какой!
Нет, не забыла опа, как бушевал, бывало, старший деверь-чабан, недовольный тем, что племянник день-деньской малюет что-то на бумаге. «Почему пе запрягаешь его в работу?! – шумел он на невестку.– Думаешь, из его мазни выйдет толк?!» Какой с бедняги чабана спрос, если он привык видеть смысл жизни и богатство лишь в той отаре, которая послушно трусит перед ним? Откуда ему знать, что «мазня» племянника хотя и пе может обернуться достоянием, но вполне может обеспечить теми разноцветными бумажками, на которые обретают всевозможные житейские блага?..
И потекла жизнь своим чередом, и, похоже, сбываются не предсказания старшего деверя, у которого, по поговорке, волос короток, да ум долог, а досужий трек аульных баб, у которых долог волос, да короток ум. В самом деле, разве эта квартира – не тот самый сказочный терем, где сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает? II разве не она, степнячка, восседает в этом тереме ханшей па вчетверо сложенных белых подстилках? Все получилось так, как говорили аульные невестки-подружки. Только где опа, та крашеная тонконогая краля, которую однажды, ни слова не сказав матери, приведет в дом ее ненаглядный сын? Неужели тут аульные вещуньи допустили промах?
Каждую женщину, которой судьбой уготовано стать матерью, неминуемо ждет день великой тревоги и день великой радости. Так вот, день великой тревоги опа благополучно пережила: дочку посчастливилось выдать замуж за человека из достойного, состоятельного и самостоятельного рода. Можно сказать, повезло, и от сердца сразу отлегло: отныне уже не надо матери беспокоиться о судьбе дочери и ее детях – настоящих и будущих. Она, как говорится, в надежных руках и за каменной стеной. А день великой радости, когда сын наконец-то приведет в новый дом желанную невестку, что-то явно запаздывает и заставляет темноликую старуху в высоком белом тюрбане целыми днями томиться-горевать в одиночестве у широкого – во всю стенку – окна.
Каждый день сын рано уходит из дому. А возвращается поздно. Иногда приходит веселый, сияющий, а случается, притащится как в воду опущенный, усталый. Правда, на все расспросы матери отвечает подробно, как прилежный ученик у доски. Пока он говорит, вроде все ясно, а умолкнет – бедная мать и не сообразит, что к чему. В последнее время, догадавшись о непонятливости матери, сын все реже пускается в обстоятельные объяснения и лишь бросает на ходу:
– Не беспокойся, апа, ничего страшного.
Для человека, изнывающего от тоски и одиночества изо дня в день, эти слова но могут послужить утешением. Еще вчера она, казалось, знала все о своем дитяти, знала, что его тревожит, где болит, отчего печален, чему радуется, а теперь собственный сын, плоть от плоти ее, вроде стал чужим: у него, оказывается, есть свое дело, своя жизнь, свои тайны, своп радости и горести. И у родной матери ужо нет нрава лезть ему в душу. Просто неприлично донимать взрослого мужчину назойливыми вопросами: отчего невесел, почему пропал аппетит, какая забота омрачает душу. Вот и молчишь поневоле. Варишь-готовишь, стол накрываешь, самый лакомый кусочек подкладываешь, каждое движение ловишь, в рот смотришь. А приляжет – на цыпочках по дому ходишь, следишь, ладно ли спит, приоткрыта ли форточка, высока ли подушка, тепло ли одеяло. И уже ласковые слова, как прежде, вслух по скажешь. Сон его потревожишь, да и телячьи нежности сыну не очень-то по душе. Вот и говоришь про себя или бормочешь чуть слышно, уйдя в свою комнату, усевшись па свою постель сама с собой, точно тронутая, разговариваешь.
Что пи говори, а певеселая это штука – одиночество. В одной комнате, не зная, кому излить свою тоску, изнывает старая мать; в другой, скрывая от посторонних свою душевную сумятицу и маету, томится сын. И для того, чтобы помочь обоим, избавить их от иссушающего душу одиночества, толково и понятно объяснить матери, что за напасть такая грызет исподволь сына, а сыну поведать о тревогах матери, нужен некий посредник, некий чуткий толмач – все знающий и все понимающий. И даже не посредник – а посредница, долговолосая особа, рожденная от другой матери. Без ее содействия, без ее щебетания обитающие под одной крышей мать и сын, самые близкие и родные, готовые жертвовать жизнью один ради другого, кажется, уже не способны на сердечное, задушевное общение. Без нее, пока что таинственной посредницы, не избавиться им от тягостной тишины, гложущей сердце незаметно, исподволь, изо дня в день.
Иногда, чтобы хоть немного поразвеяться, она выходит во двор. Там на шаткой деревянной скамейке греется па солнышке совоглазая старушка соседка. Опп давно уже улыбаются друг дружке и неизменно обмениваются приветливым «здрястп», а вот дальше беседа не идет, потому что с помощью двух слов – «кякой» и «кароший» – не больно поговоришь. Совоглазая соседка, пощупав краешек высокого белого тюрбана, удивленно разводит руками. Означает это недоумение: сколько же метров ткани ушло на такой головной убор? Она. мотнув головой, растопыривает пять пальцев. Собеседница еще больше поражается: неужели от такой тяжести шея не болит? Нет, нет, усердно качает она головой, не болит. На этом, к обоюдному сожалению, разговор иссякает. Ну а что, если б они даже понимали друг друга? Едва знакомой старухе, знать не знающей ни твоего рода– племени, ни твоих близких, что поведаешь: историю своего сватовства и замужества или воспоминания о короткой твоей супружеской жизни?! В таких случаях с тоской начинаешь думать об аульных товарках, с которыми можно было запросто чесать языками, и про печальный рев верблюжонка, и про закопченное дно старого казана. Л только подумаешь о них – тотчас всплывает перед глазами родной аул. 11 нет потом уже никаких сил избавиться от этого наваждения. Мгновенно чудится неистребимый терпкий запах степной кудрявистой полыни. Мерещится сладковатый дух нежного мясца молоденького барашка, сваренного в сыворотке от квашеного молока. И звучит в ушах протяжный, томный рев верблюдицы, спешащей из степи на дойку, ибо ноют ее набрякшие от молока сосцы. И от одних этих воспоминаний начинает пощипывать кончики пальцев у исконной степнячки. Эх, накинуть бы сейчас на руку подойник, подойти бы, нежно приговаривая ласковые слова, к верблюдице, истомленной от любви к своему верблюжонку, услышать бы, как цвиркают из-под пальцев о дно подойника тугие струйки молока... Пли устроиться бы в затишке возле юрты и накладывать заплаты на истлевшую кошму, или вить аркан, или катать войлок, или придумывать затейливые узоры. Все аульные девки-молодки, называя ее учтиво «женеше», спешили, бывало, к ней на выучку. Ведь на все руки мастерицей слыла – всем бабам па зависть. К ней неизменно обращались за помощью все и всегда в ауле: то новорожденного искупать и запеленать, то приучить ягненка к строптивой матери, отказывавшейся подпустить его к своим сосцам, то вдуть воздух в легкие только что появившегося па белый свет верблюжонка. И она никогда никому ни в чем не отказывала и не набивала себе цепу. Но к одному аульному свойству – к шушуканью по углам, к бабьим сплетням – так и не смогла приноровиться. Говорила всегда напрямик, без обиняков то, что думала. И невестки-товарки, если хотели ее похвалить, конечно же находили в этом ее достоинство, но когда им хотелось ее осудить, ставили ей в вину именно этот ее «изъян»: «Да ну ее! Ляпает в глаза что попало, и хоть ты тресни».
Кому до всего этого есть дело в грохочущем городе, ио улицам которого с утра до вечера шастают взад-вперед толпы разноликих и озабоченных людей? Никому из них твои аульные россказни – неинтересны. И знать о том не знают, и слушать не желают. Л то и скажут: пустой треп...
Вот если бы сын привел невестку, ей можно б было кое– что порассказать. Потому что так уж создан женский род, что ни одна бабонька от досужего разговора не увильнет, не скажет, махнув рукой: «Да ну вас!», а, наоборот, навострит ушко, прислушается хоть к какому бреду, даже если ничего не поймет. Кто знает, думает ли вообще ее сыночек о тонконогой, пышноволосой крале, о которой в ауле бабы все уши прожужжали, а вот ее эти думы в последнее время денно и нощно не оставляют в покое, словно болезнь какая– то. Иногда она начинает даже обижаться па сына. Что за мужчины такие в городе?! Только и знают что слоняться по комнатам. В аулах парню едва стукнет восемнадцать лет, как он девкам проходу не дает. Бедные родители, у которых подрастает дочка, сна лишаются. Потрется о юрту невзначай верблюжонок, как уже вскакивают с постели: а вдруг ухажер какой под покровом ночи девку из дому выманивает? Или – не приведи аллах – надумал ее умыкнуть? Ведь не погонишься за ней на лошадях, не затеешь потасовку-сечу с насильниками, как в старину. Нынче все делается по-другому. Один того и гляди умыкнет девушку на легковой машине, другой, менее прыткий да ухватистый,– на водовозе, бензовозе, грузовике, а уж третий, совсем нерасторопный, растяпистый, приползет за зазнобушкой на тракторе с волокушей. За ними разве угонишься? К таким разве подступишься? Целый год родителям девушки и белый свет не мил. Бушуют, всех и все на свете проклинают. Ио что толку? Через год, когда беглянка разродится первенцем, сами к ней на поклон едут, чтобы поглазеть на внука или внучку. Так было. И так будет, наверное, еще долго. И только непонятно, о чем думает и что делает родной сын. Десять долгих лет учился в школе, пять лет протирал штаны в институте, и еще два года проваландался холостяком, и еще вот эта, нынешняя, зима на исходе, а он, сердешный, все один мается, все один болтается, как берцовая кость-ботало на шее бродяги-верблюда. А между тем ему, как говорится, пора не только усы отпускать, но и бороду отрастить. И так уже в иной день по два раза бреется. Аллах знает, что у пего па уме! Может, рассчитывает, что мать, приехав из аула, по стародавнему обычаю соберет почтенных родичей, у которых хорошо подвешен язык, и отправит их высватать для сына смазливую дочку какого-нибудь городского баскармы? А откуда бы она взяла таких родичей, которым позволено запросто ввалиться с таким деликатным делом в дом почтенного начальства? Ну, допустим, наборется она храбрости, вырядится в свой лучший чапап, затянется нарядным поясом с серебряными пластинами и постучится в дверь высокочтимых людей, но разве они догадаются, что она пришла их дочку сватать, скорей всего, просто подумают, что заблудилась аульная бабка, и в лучшем случае выведут ее под руку за порог. Ну, ладно... скажем, сын ее – растяпа, мямля. Ио куда смотрят сами девушки? Разве но о них, городских, говорят, будто они сами джигитам на шею вешаются? Правда, женскому племени искони положено быть скромными и стыдливыми, всегда и всюду блюсти свою гордость. Должно быть, и городской не так-то просто первой навязаться джигиту. Но он-то, он-то каков?.. Неужели не встрепенется? Так и будет брести в одиночку? Странно... И рост что надо, и голова не мякиной набита. Те времена, когда за невесту требовали калым – косяк лошадей и отару овец, слава всевышнему, канули в небытие. Ныне достаточно, чтобы у жениха имелась крыша над головой да работенка подходящая. По этой части у сына все благополучно. Не хуже других. Да и собой недурен: лобастый, курчавый, носатый, смуглый, ясноглазый, стройный. Вон, гляди, тоненькая, хрупкая девчонка-картинка повисла на лохматом, обросшем, как бродяга, узкоглазом, плосконосом, кривоногом верзиле и счастлива. Чем хуже ее сын? Почему девчонка-картинка не с ее сыном под руку ходит? Э-э... выходит, вся причина в нем самом. Не умеет за себя постоять. Не способен себя показать. Слоняется только и ждет, когда яблочко, созрев, в рот ему упадет. Эх, дуралей, губошлеп... яблочко-то, конечно, поспеет, да только в твой ли рот угодит, когда к нему столько рук вокруг тянется. Вот учили, учили их, а в ином деле у этих грамотеев ума меньше, чем у аульной бабы, не ведавшей ничего, кроме своего очага. Иначе как объяснить, что из несметного табуна ярко-пестрых девок, шныряющих по улицам города, точно косули по вольной степи, пи одна тебя не приголубит, не осчастливит?