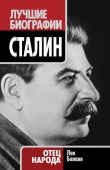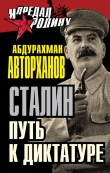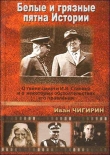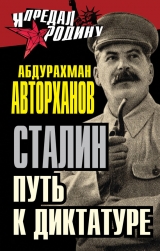
Текст книги "Загадка смерти Сталина. Исследование"
Автор книги: Абдурахман Авторханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава седьмая
УДАР ПО ВОТЧИНЕ БЕРИЯ
По крови и языку Сталин был грузином, но о грузинском менталитете Сталина говорить не приходится. Великолепное определение национальности Сталина дал его сын, мальчик Вася, когда он сообщил своей сестре Светлане необычную новость: «А знаешь, наш отец раньше был грузином!» Перестав быть грузином, Сталин все-таки не мог избавиться от комплекса нерусскости, стараясь преодолеть его показной проповедью сверхрусскости в национальном вопросе. На этой почве и возникло уже упоминавшееся первое «грузинское дело» Сталина в 1922 году, когда Сталин был только что назначен Генеральным секретарем ЦК.
Именно в Грузии он вечно искал остатки недобитого национализма. Поскольку все эти грузинские дворяне, меньшевики и «национал-уклонисты» давным-давно были физически уничтожены (кроме успевших эмигрировать), Сталин теперь выискивал «националистов» среди руководящих молодых коммунистов. Так как они были прямыми учениками и личными ставленниками другого грузина – Берия, то накапливалось много материала для будущего столкновения и с самим Берия.
До сих пор этого не происходило из-за исключительной изворотливости Берия. Как только Сталин начинал подготавливать новую чистку Грузии, Берия сам превентивно проводил ее, не задевая лишь первого секретаря ЦК, неизменного К. Чарквиани. Таким образом, Берия снимал одних своих учеников, ставил на их место других, не менее ему преданных, и спасал своего верного ставленника Чарквиани. Пока Сталин узнавал, какие люди теперь в Грузии пришли к власти, проходило немалое время.
Так было создано и руководство 1949 года – из людей, выдержавших все предыдущие чистки. Правда, большинство руководителей республики и областей Берия подобрал из своих сородичей – мингрельцев, но это и считалось гарантией стабильности руководящих кадров, а заодно и концом периодических чисток, от которых страдала главным образом грузинская интеллигенция. На все ответственные посты Берия поставил людей, которым абсолютно доверял: либо чекистов из своего окружения, либо своих личных друзей, о которых в Москве знали так же мало, как и в Грузии. Так были назначены не только секретари ЦК, но и все секретари обкомов, горкомов и райкомов Грузии.
Говорят, когда Берия представил очередной список секретарей ЦК (в состав ЦК Грузии на XIV съезде) на утверждение Оргбюро ЦК, Сталин иронически спросил: «Они что, все члены партии?» За иронией скрывался первый выговор Сталина Берия за все время его долголетней преданной службы. Берия хорошо знал Сталина и понял это как зловещий сигнал возможного ухудшения их взаимоотношений.
Дальнейшие события показывают, что Сталин в действиях Берия в Грузии увидел нелояльность к себе. Как всегда в таких случаях, он начал рыться в старых «личных делах» Берия (делая людей своими «соратниками» и «учениками», Сталин никогда не уничтожал дискредитирующие их данные в архивах ЦК). А там лежали не только те весьма интересные документы, о которых мы уже говорили, но и те, о которых рассказала Аллилуева:
«Он (Берия. – А.А.) завладел доверием отца и очень скоро пролез с его поддержкой в первые секретари ЦК Грузии. Старая закавказская большевичка О. Г. Шатуновская рассказывала мне, как потрясены были все партийцы Грузии этим назначением, как упорно возражал против этого Орджоникидзе… Шатуновская говорила мне, что роль Берия во время гражданской войны на Кавказе была двусмысленной… Он был прирожденный провокатор и, как разведчик, обслуживал то дашнаков, то красных, по мере того как власть переходила то к одним, то к другим. Шатуновская утверждает, что однажды нашими военными Берия был арестован – он попался на предательстве и сидел, ожидая кары, – и что была телеграмма от С. М. Кирова (командовавшего тогда операциями в Закавказье) с требованием расстрелять предателя. Этого не успели сделать, так как последовали опять военные действия и всем было не до этого маленького человечка. Но об этой телеграмме, о том, что она была, знали все закавказские старые большевики; знал о ней и сам Берия («Двадцать писем к другу», с. 130–131).
Однако на заседании ЦК при поддержке Маленкова и Хрущева список новых назначений, представленный Берия, был утвержден. Его же и командировали для оформления этих назначений на пленуме ЦК Грузии. Теперь Берия знает, что за любые казусы в Грузии он будет лично ответствен перед Сталиным, и принимает все меры, чтобы опять сделать Грузию «образцовой республикой» в глазах Сталина. (Это было безнадежно, если уж у Сталина появилось сомнение в «партийности» новых ставленников Берия.)
Берия, знавший все фибры души (или бездушия) Сталина, допустил еще одну непростительную для него психологическую оплошность: новое руководство Грузии начало раздувать культ Берия, тогда как культ для всех должен был быть один – Сталина.
XIV съезд Коммунистической партии Грузии (январь 1949 г.) проходит именно под знаком культа Берия. Во время этого съезда орган ЦК Грузии «Заря Востока» в двух номерах (от 27 и 29 января) считает нужным напомнить грузинскому народу, что у него не один, а два «отца»: Берия и Сталин. Но так как до Сталина далеко, а Берия лично или через своих учеников постоянно присутствует в Грузии, Да еще «заботится» о процветании Грузинской республики, то подхалимы явно перегибают палку, восхваляя Берия, и этим вредят ему самому.
Особенно это сказалось во время выборов в ЦК. Новое руководство выдвинуло в состав почетных членов ЦК кандидатуры Сталина и Берия, но во время тайных выборов «единогласно» прошел только Берия, а за Сталина многие голосовать воздержались. Получился скандал, и, чтобы выйти из положения, счетная комиссия съезда опубликовала лишь сообщение об избрании Сталина и Берия в члены ЦК, но без обычного слова «единогласно».
Эта неслыханная дерзость учеников Берия нашла свое демонстративное отражение даже на страницах «Правды» (30.1.49) в сообщениях о съездах партий Азербайджана и Грузии. В сообщении из Баку сказано: «Бурной овацией было встречено сообщение счетной комиссии о том, что членом ЦК КП(б) Азербайджана единогласно избран т. И. В. Сталин». Тут же рядом перепечатано и второе сообщение – из Тбилиси: «Овацию съезда вызвало сообщение комиссии о том, что членом ЦК КП(б) Грузии избран т. И. В. Сталин. Членом ЦК Грузии избран также т. Л. П. Берия». «Единогласно», раз его не было для Сталина, отсутствует и для Берия. Кто знал скрупулезность протоколистов из ЦК и догматиков из «Правды», тот вычитал из этих двух сообщений открытый выговор и Берия и Компартии Грузии.
Сталин, конечно, знал все это, но он был удивительно терпелив, внимательно регистрировал события, давая им идти своим ходом, иногда провоцируя их развитие в выгодном для себя и гибельном для потенциального противника направлении. Вопреки сложившемуся о нем суждению, Сталин давал своим сотрудникам возможность опровергнуть свое критическое мнение о них фактами. Заклинаниям он никаким не верил, наоборот, они даже вызывали в нем недоверие. Коэффициент его доверия к людям, даже самым близким, равнялся нулю, если в их действиях он не видел непосредственной выгоды для себя. Этой выгоды Сталин и не видел в действиях Берия в Грузии, а потому решил лично взяться за ее новую чистку. Он ее провел без Берия, ибо она была чисткой против Берия. Так возникло последнее «грузинское дело» Сталина.
Сталин знал, что для этой операции министр госбезопасности Абакумов не подходит. По рассказам Хрущева, Абакумов любой шаг и даже прямое распоряжение Сталина прежде всего согласовывал с Берия. Ясно, он мог бы выдать Берия все сталинские планы. Поэтому Сталин заменил его старым партаппаратчиком С. Д. Игнатьевым, которого и направил в Грузию с чрезвычайными полномочиями и целым эшелоном чекистов, чтобы арестовать всех друзей Берия в руководстве республики, ее областей и даже некоторых пограничных с Турцией районов.
По масштабу Грузии эта новая чистка в ноябре 1951 года превзошла даже «великую чистку» 1937–1938 годов. Были сняты и арестованы как «буржуазные националисты» 427 секретарей обкомов, горкомов и райкомов партии (эта цифра была названа в «Правде» от 30.1.53), арестован почти весь руководящий состав ЦК и правительства Грузии: секретари ЦК Барамия, Джибалидзе, Шадурия, Председатель Президиума Верховного Совета Гогуа, главный прокурор республики Жониа, министр юстиции Рапава, первый секретарь ЦК комсомола Зоделава. Из 11 членов бюро ЦК Грузии 7 было арестовано. Сам Чарквиани избег ареста тем, что вовремя изменил Берия и перешел на сторону тех, кому Сталин поручил провести чистку, – заменившего его на посту первого секретаря ЦК А. Мгеладзе и министра госбезопасности Грузии генерала Рухадзе.
По этому «делу» были арестованы не только грузинские личные друзья Берия, но и весь актив партии из Мингрелии, а поэтому и само «дело» называлось в партийных документах «мингрельским».
Массовые аресты были произведены также среди рядовых партийцев и беспартийных, особенно среди интеллигенции. Сколько из них погибло – неизвестно, но Хрущев говорил на XX съезде КПСС: «Тысячи невинных людей пали жертвой самодурства и беззакония».
Созванный почти через год после партийного переворота XV съезд партии (сентябрь 1952 г.) одобрил арест своего ЦК, признал работу всех горкомов, Аджарского обкома и Мингрельского райкома «неудовлетворительной». На этом съезде, в отличие от предыдущего, Берия не только не хвалили, но его имя вообще было табу.
В докладе А. Мгеладзе очень глухо говорилось о «серьезных ошибках, допущенных старым руководством», и о «буржуазном национализме» в творчестве грузинских писателей, но ни слова не было сказано, почему же за «ошибки» людей целыми группами арестовывают и без суда расстреливают.
Съезд на этот раз избрал Сталина членом ЦК КПб) Грузии «единогласно» (но без Берия) и приветствовал его «при долго не смолкающих овациях всех делегатов» («Правда», 20.9.52). Первым секретарем ЦК был утвержден А. Мгеладзе (до этого он был секретарем Абхазского обкома), вторым секретарем – В. Цховребашвили, третьим – В. Буджиашвили, Председателем Совета Министров был назначен З. Кецховели, но фактическим хозяином Грузии стал член бюро ЦК, министр госбезопасности Грузии генерал Рухадзе.
По примеру 30-х годов при Министерстве госбезопасности Грузии была создана чрезвычайная тройка (состав: председатель – Рухадзе, члены – первый секретарь ЦК Мгеладзе и главный прокурор республики). Ей были даны права заочно приговаривать людей к расстрелу или к заключению до двадцати лет. Через эту тройку были пропущены тысячи людей. Но чистка на этом не кончилась, она лишь вступила в новую, самую ответственную фазу, призванную решить судьбу самого Берия.
Рухадзе с прикомандированными к нему генералами из личной полиции Сталина должен был организовать над старым ЦК политический процесс, обвинив его в создании «буржуазно-националистического контрреволюционного центра Грузии». По замыслу его режиссеров, «центр» этот связался с мусаватистами и грузинскими националистами в эмиграции с целью отторгнуть Грузию от СССР и присоединить ее к Турции.
Почему же Сталин сочинил столь нелепую легенду о желании грузин войти в состав Турции, с которой они находились в вековой вражде и спасаясь от которой они, собственно, в 1801 году и очутились добровольно в составе Российской империи? Зачем ему понадобился союз между грузинскими националистами и азербайджанскими мусаватистами, который сами они никогда не могли заключить – ни на Кавказе во время революции, ни в эмиграции после нее?
Сталин любил повторять: «Дыма без огня не бывает». В данном случае Сталин решил сам напустить отсутствующий «дым», и у него было для этого достаточное основание: ведь шпионское «крещение» Берия произошло в Баку в 1918 году именно в мусаватистской разведке.
Всеведущему Сталину было известно и то, о чем Берия думал, что он не знает: человек, завербовавший Берия в мусаватистскую разведку, жил теперь в Грузии и возглавлял центр мусаватистов.
Сталин знал и то, что Берия считал своим величайшим секретом, а именно – руководитель мусаватистов очутился в Турции потому, что его нелегально отпустил туда через грузино-турецкую границу председатель ГПУ Грузии Берия.
И как бы в довершение «цепи улик» Сталина против Берия произошло и последнее «чудо» – друзья Берия по «Мусавату» действительно заключили союз с грузинскими эмигрантами по созданию Мюнхенского института по изучению СССР (1951), который, по мнению Кремля, был филиалом ЦРУ для политических диверсий против СССР.
Говоря об этом «деле» на XX съезде, Хрущев не хотел да и не мог быть до конца искренним, иначе ему пришлось бы сообщить, что Сталин его создал только для того, чтобы подготовить ликвидацию Берия. Тем не менее этот вывод сам по себе напрашивается из общей характеристики этого «дела» Хрущевым:
«Очень показательно… дело мингрельской националистической организации, якобы существовавшей в Грузии. Как известно, ЦК КПСС вынес резолюции, касающиеся этого дела, в ноябре 1951 года и в марте 1952-го. Эти резолюции были вынесены без предварительных обсуждений в Политбюро. Они были лично продиктованы Сталиным и содержали тяжкие обвинения против многих преданных коммунистов. На основе подложных документов было доказано, что в Грузии якобы существовала националистическая организация, целью которой была ликвидация советской власти в республике с помощью империалистических держав. В связи с этим в Грузии был арестован ряд партийных и советских работников. Позднее было доказано, что это было клеветой… Как выяснилось, никаких националистических организаций в Грузии не было. Тысячи невиновных людей пали жертвой самодурства и беззакония. Все это случилось под «гениальным» руководством Сталина, «великого отца грузинского народа», как грузины любили говорить о Сталине» (Доклад на закрытом заседании XX съезде КПСС, с. 42–43).
Позже Хрущев все-таки признался: «Мое чувство, что Сталин боялся Берия, подтвердилось, когда Сталин создал «мингрельское дело». Я абсолютно уверен, что это дело было сфабриковано, чтобы убрать Берия, который сам был мингрельцем» («Khrushchev Remembers», р. 336).
Вот и еще доказательство, что «дело» это было направлено против Берия: 5 марта 1953 года умер Сталин, но даже еще до его похорон в Тбилиси прибыл новый эшелон чекистов во главе со старым ставленником Берия В. Г. Деканозовым (он был раньше заместителем министра иностранных дел). Деканозов и его помощники произвели новые аресты.
На этот раз были арестованы из 11 членов бюро ЦК 8 человек: первый секретарь ЦК Грузии Мгеладзе (назначен Мерцхулава), Председатель Совета Министров Кецховели, министр госбезопасности генерал Рухадзе, даже бывший первый секретарь ЦК Чарквиани (вероятно, за измену Берия)… – и десятки других ответственных лиц, помогавших создать дело против Берия. Одновременно были освобождены из тюрьмы все уцелевшие руководители старого ЦК и старого правительства.
В апреле была созвана сессия Верховного Совета Грузии для утверждения состава нового правительства. Выступая на этой сессии, новый Председатель Совета Министров Б. М. Бахрадзе сказал:
«Я хочу заверить, что все кандидаты, представленные здесь для руководства министерствами, являются членами нашей могучей Коммунистической партии (запоздалый ответ на вопрос Сталина? – А.А.). Они воспитаны грузинской парторганизацией, которую в течение долгих лет вел лучший сын Грузии, выдающийся руководитель великого Советского государства товарищ Лаврентий Павлович Берия. (Продолжительные аплодисменты.)» («Заря Востока», 15.4.53).
Создавая свое последнее «грузинское дело», Сталин явно недооценил выдающихся качеств Берия: его бездонное властолюбие, неповторимое ханжество и Каиново бездушие были вполне на уровне сталинских. Об этих качествах писала Светлана Аллилуева:
«Я считаю, что Берия был хитрее, вероломнее, коварнее, наглее, целеустремленнее, тверже – следовательно, сильнее, чем отец…» («Двадцать писем к другу», с. 130).
Такое утверждение, конечно, может вызвать серьезные возражения, но в нем есть и большая доля правды. Сталин перехитрил всех своих предшественников и соратников, но вот Сталина перехитрил только Берия. Это мы еще увидим из дальнейшего.
После «грузинского дела» Берия знал, что Сталин готовит ему судьбу Менжинского, Ягоды и Ежова. Когда-то гениальный, но к концу жизни притупившийся криминальный ум Сталина начал давать осечки: он повторяет старые уголовные трюки 30-х годов, так досконально изученные, а иногда и подсказанные тем же Берия. Еще Гераклит знал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Сталин хотел доказать, что это возможно.
Глава восьмая
РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ПОЛИТБЮРО И СТАЛИНЫМ
Если выразиться образно, то в послевоенные годы Сталин правил страной, как рулевой в бурную погоду на океане, бездумно бросающий дырявую лодку навстречу грозным волнам. Пассажиры же ее – члены ЦК – то беспрерывно выкачивали воду со дна лодки, то отчаянно метались с одного борта на другой, чтобы сбалансировать ее движение, но неумолимый рулевой балансировал ее тем, что бросал их за борт одного за другим.
Сколько их было выброшено за последние три года по «ленинградскому делу», по «сионистскому делу», по «грузинскому делу», по начавшемуся «московскому делу», в которое, по замыслу Сталина, могли бы быть включены остальные уцелевшие пассажиры сталинской лодки?!
Не важно, что сами пассажиры подсказывали рулевому, кого первым вышвырнуть, важно другое: все они знали, что при этом рулевом та же участь рано или поздно постигнет каждого из них. Самое главное – это почувствовали теперь и Берия, и Маленков.
Их последняя акция против «старой гвардии» Сталина, их ядовитые стрелы наносили, правда, тяжкие раны «старогвардейцам», но, увы, бумерангом разили и самих метателей. Во-первых, «старогвардейцы» не оставались в долгу, в свою очередь, донося на доносчиков. Во-вторых, Сталин пришел к выводу, что в сложившихся условиях лучше всего – уничтожить всех: и «старогвардейцев» и «младогвардейцев», по рецептам 20-х годов.
Берия и Маленков великолепно научились читать затаенные мысли Сталина и разгадали весь его стратегический план. А тогда произошло то, что Сталин считал абсолютно исключенным: по инициативе Берия и Маленкова члены Политбюро пришли к спасительному для них компромиссу и заключили оборонительный союз против замыслов Сталина. Результатом этого союза и было решение Политбюро созвать августовский пленум ЦК (1952) и назначить на нем созыв съезда партии.
По формально действующему уставу партии съезды ее должны были созываться не реже одного раза в три года. Последний съезд был до войны – в марте 1939 года. Сталин, охотно соглашаясь на аккуратное проведение выборов в советский лжепарламент, никак не соглашался на выборы нового ЦК на очередном съезде партии. Так было пропущено более четырех сроков созыва съезда. За это время началась и окончилась Великая Отечественная война, были приняты важнейшие международные и внутренние решения, находящиеся в компетенции только съезда партии, а Сталин и не думал его созывать. Более того, даже пленум того довоенного ЦК, члены которого в войну сыграли столь решающую роль в политической организации фронта и тыла страны не созывался уже более пяти лет (по уставу его надо созывать раз в три месяца).
Трудно найти другую причину несозыва съезда, кроме боязни Сталина, что «ученики» в рамках устава легально лишат его единоличной власти. Опасения его не были беспочвенными.
После «ленинградского дела» Сталин начинает терять контроль над аппаратом партии и полиции в той же мере, в какой растет там влияние Маленкова и Берия. То, что Хрущев рассказывает в своих воспоминаниях (т. 1) об истории созыва XIX съезда (если этот рассказ правильно изложен), – карикатура на правду, к тому же безграмотная с точки зрения функционирования партийно-полицейской машины.
Хрущев, жаловавшийся на XX съезде, что Сталин не хотел созвать съезд партии, теперь говорит, что Сталин вызвал к себе членов Политбюро и предложил созвать съезд, но не сообщил повестки дня. Через некоторое время Сталин сказал, что будут доклады Маленкова, Хрущева и Сабурова, члены Политбюро это приняли к сведению, и повестка дня не обсуждалась.
Однако так не было.
Сталин не хотел никакого съезда партии, пока не проведена намеченная вторая «великая чистка», – в этом сомневаться не приходится (XVIII съезд тоже был созван только после первой «великой чистки» в 1939 году). Поэтому инициатором созыва съезда он быть не мог. Далее, совсем нелепо заявление, что Политбюро не обсудило и не утвердило в деталях, текстуально все проекты докладов на предстоящем съезде (лживость этого доказывается уже тем, что проекты докладов Хрущева об уставе и Сабурова о пятилетке были за несколько недель до съезда опубликованы в «Правде» для обсуждения в печати и на партийных конференциях).
Да, конечно, объявление о созыве съезда и его повестке дня было опубликовано за подписью одного генерального секретаря ЦК – Сталина. Но так делалось всегда. Самым поразительным был беспрецедентный факт: впервые за время сталинского правления политический отчет ЦК делал не Сталин, а Маленков.
Это сразу вызвало недоумение: что произошло? Либо Сталин нездоров, либо он намеренно выдвинул главным политическим докладчиком ЦК избранного им кронпринца. Только потом мы узнали, что оба предположения были ложными. Сталин был здоров, писал большие «дискуссионные» статьи, присутствовал на съезде и даже выступил в конце съезда с краткой речью (не по существу работы съезда, а с обращением к иностранным компартиям, что, как мы дальше увидим, тоже имело свое значение). И в кронпринцы Сталин никого не намечал, хорошо зная всю опасность такого предприятия.
Остаются два других предположения: либо Сталин отказался делать доклад на съезде, организованном и созванном вопреки его воле, либо Политбюро, не разделявшее теперь многие из практических предложений и мероприятий Сталина, решило поручить доклад Маленкову, открытие съезда – Молотову, закрытие – Ворошилову.
Опальный Хрущев, которого партийные интересы заставляют придерживаться определенной схемы, какую-то часть правды всегда обволакивает туманом лжи. Он хочет нас уверить, что и поручения Молотову и Ворошилову тоже исходили от Сталина. Но этим он опровергает самого себя.
В самом деле, по официальным выступлениям того же Хрущева на XX съезде мы знаем, что после XIX съезда, во время первого организационного пленума нового ЦК, Сталин обвинил Молотова в шпионаже в пользу Америки и Ворошилова в шпионаже в пользу Англии, а их жены-еврейки по тем же обвинениям уже сидели в подвалах Лубянки.
Но из отчетов о XIX съезде мы знаем, что его торжественно открыл Молотов и торжественно закрыл Ворошилов. По партийной традиции, эти почетные обязанности раньше исполнял Ленин, а так как Сталин отказался их перенять, то был заведен новый порядок: открывали и закрывали съезды два разных лица из наиболее популярных старых членов Политбюро.
Спрашивается, как мог Сталин оказать такой почет тем, кого он в конце того же съезда собирался разоблачить как шпионов? Таких чудес не бывало даже в империи Сталина. Ясно, что они были выдвинуты не Сталиным, а Политбюро в результате вышеупомянутого «исторического компромисса», как ясно и то, что от расправы Сталина их спас партийно-полицейский аппарат во главе с Маленковым – Берия.
Тот, кто думает, что Сталину было все подвластно, что стоило ему только «пошевелить мизинцем» – и все его враги взлетят на воздух, забывает, что власть Сталина основывалась на абсолютном повиновении непосредственных возглавителей машины властвования. Они теперь вышли из повиновения. Что же мог делать Сталин один, без них? Выйти на Красную площадь и призвать народ к бунту?
До разбора работы XIX съезда и анализа итогов пленума ЦК надо бросить еще раз беглый взгляд на недавнее прошлое.
Наивно думать, что политическое развитие в руководстве партии и государства определялось лишь взаимными интригами сталинцев, или объявлять кажущийся бессмысленным жестокий террор Сталина результатом паранойи. И интриганы, и Сталин боролись не только за власть, но и за определенный курс внутренней и внешней политики Кремля. Сталин никого не убивал из любви к убийству. Не был он и садистом, и еще меньше – параноиком.
Такие оценки его действий вытекают из неправильной «антропологической» предпосылки: Сталина рассматривают как человека со всеми человеческими атрибутами, а поэтому все его нечеловеческие поступки сводят к душевной болезни. Между тем все поступки, действия, преступления Сталина целеустремленны, логичны и строго принципиальны. У него нет зигзагов душевнобольного человека: помрачение ума, а потом просветление, восторг сейчас, меланхолия через час, злодеяние сегодня и раскаяние завтра, как бывало с действительно больным Иваном Грозным. Сталин был политик, действующий уголовными методами для достижения цели. Более того. Он представлял собою уникальный гибрид политической науки и уголовного искусства, превосходя этим всех других политиков. Сталин был принципиально постоянным в своих злодеяниях: в восемнадцать лет он выдал свой марксистский кружок в Тифлисской духовной семинарии жандармам (оправдывая себя тем, что так он сделал кружковцев революционерами); в двадцать восемь лет он руководил убийством людей на Эриванской площади в Тифлисе во время вооруженного ограбления казначейства; в тридцать восемь лет он лично командовал в Царицыне массовыми расстрелами пленных «белогвардейцев»; в сорок восемь лет начал подготовку к истреблению крестьянства; ему было пятьдесят восемь лет, когда по его приказу в 1937–1938 годах чекисты умертвили миллионы невинных людей; ему было уже семьдесят лет, когда он без суда расстрелял дюжину членов ЦК, своих ближайших помощников. Теперь он решил взяться за остальных.
Сумасбродные действия, как говорит Хрущев?
Ничуть не бывало.
Целеустремленные и целеоправданные действия с гениальным чутьем предвидения. Если бы Сталину удалось уничтожить Политбюро 1952 года, он, вероятно, жил бы подольше, а антисталинского XX съезда партии в истории вовсе не было бы.
К XIX съезду партии Сталин оказался в полной изоляции от остальных членов Политбюро по важнейшим вопросам международной и внутренней политики. Достаточно беглого анализа спорных вопросов, чтобы видеть глубину разногласий.
Так, Сталин просто проспал радикальную революцию в мировой политике и дипломатии в результате появления термоядерного оружия. Советские трубадуры Сталина как-то писали, что когда президент Трумэн на Потсдамской конференции сообщил Сталину эпохальную новость о том, что американцы изобрели беспримерное оружие – атомную бомбу, то Сталин перевел разговор на тему о погоде. Но трагизм положения в том и заключался, что на Сталина эта бомба действительно не произвела должного впечатления.
Назначив Берия председателем советской атомной комиссии с заданием либо изобрести атомную бомбу усилиями советских ученых, либо украсть атомные секреты у Америки и Англии, Сталин, однако, не стал вести миролюбивую политику хотя бы до тех пор, пока будет готова советская бомба. Наоборот, он искусственно, порою вызывающе, провоцировал крупные международные кризисы один за другим: форсированная большевизация восточноевропейских государств в нарушение всех союзнических договоров, попытка аннексии иранского Азербайджана, предъявление к Турции требования о военных базах в районе проливов, организация движения советских армян и грузин за возвращение Турцией армянских и грузинских земель, организация гражданской войны в Греции, требование о передаче Ливии Италией Советскому Союзу, берлинская блокада, корейская война – все это Сталин делал, когда у него еще не было серийного производства атомных бомб.
Можно себе представить, на каком языке Сталин собирался разговаривать после того, как ведомство Берия наладит это производство!
Коренное разногласие между Сталиным и Политбюро возникло именно по вопросу о политике мира. Политбюро стояло на той же точке зрения, что и Запад: в эпоху термоядерного оружия результатом войны будет лишь самоубийство человечества. Поэтому Политбюро пересмотрело основное положение Ленина, гласившее: в эпоху империализма мировые войны абсолютно неизбежны, как неизбежна мировая коммунистическая революция на руинах этих войн. В Политбюро думали, что поскольку в атомную эпоху войны могут быть только атомными, а следовательно, и не приводящими к революции, то от этого учения Ленина и основанной на нем международной политики Кремля надо отказаться.
Политбюро приводило и другие аргументы: образовавшаяся после второй мировой войны мировая социалистическая система и движение широких масс за мир во всем мире способны предупредить новые войны. Это самое важное разногласие между Сталиным и Политбюро доказывается анализом партийных документов. В этой связи придется остановиться на полемической работе, выпущенной Сталиным и приуроченной им к XIX съезду партии: «Экономические проблемы социализма в СССР» (сентябрь 1952 г.).
Никакая другая работа Сталина после войны так много не цитировалась советологами, как «Экономические проблемы социализма в СССР», но только одна она так и осталась непонятой на Западе. Это вполне естественно. Западные исследователи читали только текст, но не читали и не поняли подтекста, поскольку не знали причин, вызвавших к жизни «Экономические проблемы…».
Сталин здесь вовсе не занимался теорией, вовсе не был занят открытиями новых абстрактных законов марксизма в политэкономии, он спорил с другими ведущими руководителями ЦК по важнейшим вопросам дальнейшего развития внутренней и внешней политики СССР. Что Сталин спорит с ними, знали только эти руководители ЦК, но ни советский народ, ни партия, ни тем более западные исследователи этого не знали и знать не могли.
Это непонимание усугублялось еще и тем, что как раз те, против кого выступал Сталин, первыми объявили, на словах, «Экономические проблемы…» «гениальным вкладом» Сталина в марксизм, чтобы на деле саботировать вытекающие из них практические выводы.
Обо всем этом мы узнали только после смерти Сталина. Сравнение требований Сталина в «Экономических проблемах…» и практической политики ЦК после его смерти дает нам ключ, которым мы легко открываем все тайники спорных вопросов.
Разберем сначала установки партийных документов. Вот что записало сталинское Политбюро на XX съезде:
«Миллионы людей во всем мире спрашивают: неизбежна ли новая война, неужели человечеству, пережившему две кровопролитные мировые войны, предстоит пережить еще и третью? Имеется марксистско-ленинское положение, что, пока существует империализм, войны неизбежны… Но в настоящее время положение коренным образом изменилось. Фатальной неизбежности войны нет. Теперь имеются мощные общественные и политические силы, которые располагают серьезными средствами, чтобы не допустить развязывания войны империалистами» (XX съезд КПСС. Стенографический отчет, 1956, т. 1, с. 37–38).


![Книга Подвиг 1992 № 03 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Загадка смерти Сталина • Дикое поле • Взгляни в глаза мои суровые] автора Абдурахман Авторханов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1992-03-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-zagadka-smerti-stalina-dikoe-pole-vzglyani-v-glaza-moi-surovye-247917.jpg)