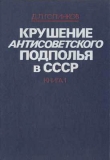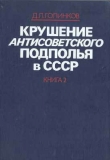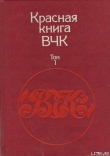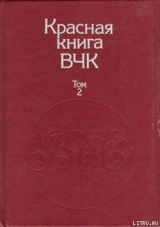
Текст книги "Красная книга ВЧК. В двух томах. Том 2"
Автор книги: А. Велидов (редактор)
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)
Мелочи из прошлой организации В. И. Соколова. О сведениях: 1) незадолго до моего ареста ко мне обратился Василий Васильевич (колчаковец) с просьбой дать ему сведения о каких-то девицах, каких именно, не помню (эти сведения им были утеряны при бегстве от Щепкина). Не имея возможности и не желая доставить для В. В. каких-либо сведений, я направил его с письмом к N. N., прося, если он может, исполнить просьбу В. В. После я узнал, что он просьбы В. В. исполнить сам не мог, а направил его к Бабикову. Получил ли В. В. от Бабикова необходимые сведения и даже был ли у него, не имею представления, так как В. В. больше не видел, а с Бабиковым не знаком и знаю только про него от Р., к которому, если нужно было кого-либо устроить, обращались, а он от себя уже обращался к Бабикову.

В. И. Соколов, бывший генерал-лейтенант
О солдатах. Николай Ионович Ершов. Устроил несколько красноармейцев батареи Латышского стрелкового артилл. дивизиона в артзапасную бригаду, из старой батареи дезертировали, писал на них на бланках документы и посылал в бригаду. Красноармейцы с известной окраской состояли, по сведениям, в особой батарее.
О типографии. Организация очень нуждалась и долго искала типографию, в которой она могла бы печатать свои прокламации, приходы и декларации. Членам организации было поручено найти такую типографию. Я обратился к Анне Владимировне Богословской, и она сказала, что у нее есть друг, бывший владелец типографии по фамилии Мамонтов, который может печатать, опираясь на часть рабочих, сочувствующих контрреволюции, в своей типографии что угодно, но что рабочим надо будет заплатить. (По докладу И. Н. Т., А. В. Б. была передана якобы колчаковская, но на самом деле составленная И. Н. Т. прокламация для пробы.) А. В. Б. мы не говорили, что это проба. Через некоторое время А. В. прокламацию вернула со словами, что типография напечатать не берется по следующим причинам: 1) Прокламация составлена очень плохо и 2) ввиду слежки сейчас очень трудно работать. Но тем не менее типография напечатает накануне восстания декларацию или приказ организации, что распространить его в народе организация должна своими средствами и что за это придется заплатить. А. В. мы сказали, что пока типографии не надо, так как на мой доклад о вышеизложенном И. Н. Т. сказал: «Не хотят, ну и черт с ними, у нас своя типография скоро будет», но где, не сказал; от других я слышал, от кого, не помню, что ее, то есть типографию, хотят поставить где-то в автомобильном гараже, а типографию Мамонтова мы берем на учет и в нужную минуту воспользуемся; конечно, за деньгами дело не станет. Больше разговора про типографию с А. В. не было.
Боевые отличительные признаки организации. В случае если бы состоялось выступление, то члены организации должны были иметь отличительные знаки, кои состояли из белой материи величиной около 1,5 вершка и по приказу в разное время различным образом комбинировались. Знаки предполагалось заготовить каждому самому.
О печати. Для скрепления документов была печать, которая хранилась у И. Н. Тихомирова, следующего чертежа и размера.
Значение букв: Российская добровольческая народная армия
(точка). Чтобы не было подделки, таких печатей у И. Н. Т.
было три: Михаил Анатольевич Мамонтов
Долгоруковская,[262]262
Ныне Каляевская улица.
[Закрыть] 17.
Тов. типография Союза русских художников.
Долгоруковская, 17.
Адм. Тов. Типогр. Союза Русск. Худ. стр. 315 «Вся Москва».
П р и м е ч а н и е: Адрес Мамонтова и его типографии помимо А. В. Б. можно узнать или по телефонной книжке, или по адресной московской книжке «Вся Москва».
22/ХП – 1919 года
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК О ПРИЧИНАХ, ТОЛКНУВШИХ НЕКОТОРЫХ ЛИЦ НА ПУТЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ БЫВШЕГО КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА ***
Я разбиваю лиц активных в контрреволюционные организации по причинам, заставившим их сделать этот шаг, на следующие разряды:
1. Люди, убежденные противники принципов Советской власти, большею частью правых монархических партий и убеждений, но были и люди левых республиканских направлений. Пункт соглашения: «долой большевиков», а там, после, мы разберемся. Для лиц этой категории целью ставилась сильная, единая, неделимая Россия. Россия для русских и личное свое эти лица приносили в жертву идее (пример – Ступин).
2. Лица, связывающие со свержением власти Советов свои личные выгоды, то есть если не полностью, то хоть отчасти возвращения к старому, а следовательно, возвращение своих преимуществ, имений, домов, капиталов, чинов, орденов, званий, общественного положения и т. д. Лиц этой категории я считаю самым злостным и вредным элементом, они старались действовать издали – вне линии огня, внося, и то скупо, свои капиталы, сочувствовали из-за угла несчастию погибших, но сами гибнуть и рисковать не желали, желая загрести жар чужими руками; они были очень осторожны, а если бывали открыты когда-либо, то только благодаря какой-либо случайности. Так, например, братья А. Н. и Н. Н. Сучковы – они были даже коммунистами.
3. Лица, кои Советской властью были как-либо обижены, оскорблены и питали злобу и чувство мести за что-либо и жаждали времени, чтобы было возможно отомстить и расправиться за прошлое. Большинство лиц этой категории желало мстить лицам, не связывая личности с правительством, не учитывая ни стихийности момента, ни тяжести работы власти среди будущего моря революции. В общем, лица эти – их немного было – в большинстве случаев политического широкого взгляда на события и жизнь совершенно не имели.
4. Лица, страхующие себя на случай переворота или прихода кого-то, кто погонит Советы (шкурники). Они вступали в организацию, получали деньги, ничего не делали в организации (на всякий случай саботируя и на советской службе) или для того, чтобы потом сказать: «И я был в организации, меня не надо вешать, а следует наградить»; таких было много, типичный пример я укажу – тов. Е. Я. Свидерский.
5. Лица (пролетарии, как вы и я называли), кои при всех обстоятельствах и при всяком правительстве бились из-за куска хлеба, всегда нуждались в деньгах, рискующие головой, чтобы как-нибудь прокормить семью и себя до лучших, более светлых дней. Эти лица (хотя идеи организации были и далеки им) шли в организации из-за денег и, часто честно служа, то есть исполняя свои обязательства по отношению к Советской власти по службе, состояли в контрреволюционных организациях. Деньги их привлекали, и деньги их губили. Действительно, возьмем осень прошлого 1918 года, когда возникла контрреволюционная организация бывшего Г. Л. Соколова; идея – составить реальную силу для погромов, грабежей, быть защитой бывшим офицерам и обществу. О выступлении против власти не говорили, работы не требовалось особой, а деньги платили. Привожу пример. Осенью 1918 года получали в рублях:
на сов. службе в контррев. орган-ции всего
командир бригады артиллерии 700 800 1500
помощник его ……………………… 600 500 1100
командир батареи ……………… 550 400 950
офицер ……………………………….. 450 300 750
начальник связи ………………… 550 400 950
На эти деньги жить было нужно осенью 1918 года.
Наши контрреволюционные организации и главари упустили следующее, что цена жизни идет геометрической прогрессией, и в то время, когда Советская власть увеличила содержание к осени 1919 года в 5–7 раз, контрреволюция все оставила по-старому и получился крайне комический факт: что могло значить 500 рублей для командира дивизиона, при казенном пайке он получал на советской службе около 3000 рублей. Но поступить в организацию было легко, а уйти очень трудно. Коготок увяз – всей птичке пропасть; несмотря ни на что, многие члены организации всеми силами старались выйти из нее, тем более что большинство было против активного выступления.
Я считаю, что если бы главари организации увеличивали бы плату параллельно с увеличением платы властью, то народу в организации было бы несравненно больше и не было бы такого бегства под разными предлогами из нее. В погоне за средствами некоторые члены организации часто прибегали к некрасивым поступкам. Так, например, при требовании денег показывали состоящими на учете 60 человек, а фактически их было человек 15–20. Знаю факт, что было и 3. Пример могу привести; по моему мнению, Г. А. Филипьев – у него было около 20 человек, а деньги получал человек на 50–60.
NB. Был еще разряд лиц, но по своей малочисленности я его выбрасываю вон. Это лица тщеславные, во что бы то ни стало желающие играть первые роли, если не там, то здесь, за все берущиеся, все желающие взять в свои руки, а потом и не могущие ничего сделать хорошо. В пример привожу Миллера: он и артиллерист, и начальник сектора, и взрывает мосты, и хранит оружие, бензин, типографию. Сам таскает пироксилин и т. д., и все сам.
Процентное отношение разрядов – выведенный итог из личных наблюдений и по разговорам с контрреволюционерами:
Разряды %
I …………………… 2—3
II………………….. 2—5
III ………………… 2—5
IV………………… 5—15
V ………………….. 72—89
Если первый разряд можно назвать – идейные контрреволюционеры, то II – подлые, III и IV – шкурники, а V – страдательный элемент.
22 декабря 1919 года
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ И Н. ТИХОМИРОВЫМ БАНКОВЫЕ И ДРУГИЕ ЭКСПРОПРИАЦИИ
1
Относительно того, что В. Д. Жуковым предполагалось ограбление одного из банков, я положительно ничего не могу сказать, так как ни от кого по этому поводу ничего не слышал, тем более что последнее время В. Д. Жуков бывал у меня очень редко, а вскоре он уехал на Туркестанский фронт. Нужды ему заходить ко мне не было, так как с И. Н. Т. он мог видеться каждый час, живя в одном с ним доме, Новослободская, 2, только этажом выше. Отрицать же намерение Жукова тоже не могу, так как с этой стороны совершенно не знаю.
2
В начале 1919 года и осенью 1918 года Иван Ник. Тихомиров производил разведку о хранении денег в одном из советских учреждений, помещавшихся против Страстного монастыря по внешнему проезду сего бульвара. Разведка выяснила следующее: деньги хранятся в несгораемом шкафу, несколько миллионов, а охраняются очень слабо, караул небольшой, малодисциплинированный и службу несет плохо. Для экспроприации означенных денег требовалось хорошо вооруженных людей человек 20 с бомбами и проч., динамит для взрыва увезенной кассы, грузовой автомобиль и квартира в глухом месте и пустом доме для ликвидации увезенной на автомобиле кассы (не очень большой), так как на месте взрывать и открывать ее не представлялось возможным. Ни людей, ни оружия, ни автомобиля И. Н. Т. не получил. Из членов организации, насколько я теперь помню, никто не пошел, считая такое дело авантюрой в духе нашего Пинкертона.
3
Весной этого 1919 года И. Н. Тихомиров и В. В. Ступин приказали мне войти в связь с Государственным банком на Дмитровке, казначейством и почтамтом, заведя там знакомство и установив связь, и, если представится возможным, завести там ячейку. С почтамтом и казначейством я отказался установить связь. Про почтамт И. Н. Т. сказал, что там на телеграфе служит его родственница и дело наладить можно. В Государственном же банке связь была установлена непосредственно через Анну Владимировну Богословскую (Цветной, [б-р] д. 3, кв. 3, в том же доме, где живет скульптор Меркулов, рядом с цирком Соломонского), где в банке, по словам, у нее было много своих работ и дело налажено еще раньше; об этом было мною доложено В. В. Ступину и И. Н. Тихомирову. После чего я получил приказание познакомить А. В. Б. с И. Н. Т., что я и сделал, и они много раз на дому вели беседу, но о чем – не знаю. Кажется, в конце концов оба остались друг другом недовольны или, быть может, просто не доверяли друг другу. На этом дело заглохло. Анна Владимировна Богословская, высокая шатенка, была сослана за попытку освободить арестованных. Человек она беспокойный, старается играть роль, много говорит, но мало делает. Хотя натура деятельная и готова на всякое рискованное предприятие – ограбление, убийства, быть может, и пр. Живет с братом и его семьей, нуждается постоянно в деньгах. В большевистских кругах имеет знакомство, но каких – не знаю.
4
В конце июля, около этого времени, В. А. Ступин и И. Н. Т. мне сказали следующее в кратких словах: у киргизов два комиссара: один Ханской ставки – Тунганчин[263]263
В тексте книги и в подлиннике показаний ошибочно Тингучин.
[Закрыть] и другой общий – Джангильдин,[264]264
В тексте книги и в подлиннике показаний ошибочно Дзенгельдин.
[Закрыть] и они оба находятся в неприязненных отношениях друг к другу. Джангильдин живет на Рязанском вокзале в своем вагоне и ждет открытия в Киргизские степи дороги, куда он повезет 20 000 000 рублей. Надо установить за ним наблюдение – связь и эти деньги экспроприировать. В Киргизском комиссариате (Трубниковский переулок, 10) у меня был знакомый, Николай Александрович Замятин (адрес: Денежный переулок, не то 17, не то 19, кв. 2), бывший ротмистр 2-го гусарского Изюмского полка. До войны был в запасе. Лет ему около 39–40, высокого роста с бородкой, в пенсне, нос длинный, довольно красивый. Я обратился к нему, и он меня познакомил со своим товарищем, тоже из Киргизского комиссариата, не помню только, как зовут его и фамилию; но по списку комиссариата могу вспомнить. Если не ошибаюсь, то его зовуг Сергей Владимирович или Петрович и фамилия на букву «X», он бывший лицеист, московский, потом был земским начальником. Среднего роста, брюнет, бородка прямоугольная, но не по всему подбородку, а посредине, полный. Он очень не хотел ехать с комиссариатом и искал в Москве места. С. В., оказывается, знал его раньше как лицеиста и направил для приискания места в РВСР, кажется, к Бабикову; результаты в дальнейшем не известны.
Вот через этого человека я и должен был войти в связь с киргизскими миллионами. Он был на вокзале, виделся с комиссаром Джангильдином, он его и раньше знал, и Джангильдин брал его с собой. По делу о деньгах выяснилось, что караул около 20–30 человек и всего в эшелоне около 100, но потом останется очень мало, и экспроприация денег вполне возможна, но только в пути, а когда Джангильдин поедет, неизвестно. Мною об этом было доложено В. В. Ступину и Ивану Николаевичу Тихомирову, и они мне приказали войти в связь более тесную с вокзалом и установить наблюдение. Этого я сделать не имел ни возможности, ни желания, считал такие авантюры, как экспроприация каких-то денег, для меня не подходящими. Какие были по этому поводу после предприняты шаги, не знаю, во всяком случае, я больше не видел и не встречал и разговора о нем и о деньгах ни с И. Н. Т., ни с В. В. Ступиным не было, тем более что последнее время я несколько с И. Н. Тихомировым разошелся, и он как-то перестал со мной делиться мыслями и стал реже бывать, потому что переехал с квартиры на дачу в Томилино.
Думаю, что NN и Николай Александрович Замятин помнят этого человека и могут указать его фамилию; возможно, что он еще в Москве, его также видели один раз И. Н. Тихомиров и В. В. Ступин, последний не наверно.
22/ІІ—1919 года
5
Н. Н. Стогов с А. М. Мочульским был в отличных отношениях, насколько я знаю, и бывал у него в управлении. Так, при подаче мною прошения о приеме на службу в организационное управление ВГШ[265]265
ВГШ – Всероссийский главный штаб.
[Закрыть] в начале апреля этого года я встретил там Н. Н. Стогова, выходящего из кабинета Мочульского. Это было за два-три дня до ареста Стогова. Ал. Мих. Мочульского знает и бывал у него на дому бывший ротмистр 2-го гусарского Изюмского полка Николай Александрович Замятин-Тонагель, он называл Мочульского за его характер и хитрости Рейнике-Лис, возможно, что он лучше знает убеждения Мочульского.

Н. А. Замятин-Тонагель
6
Личного мнения о начальнике Полевого штаба Павле Павловиче Лебедеве я не имею, так как совершенно не знаю его ни с какой стороны, но от других слышал, что он очень хороший человек и отличный начальник штаба; его работа чрезвычайно полезна, продуктивна и т. д., что он энергичный, честный работник, работает для пользы Советской Российской республики не покладая рук. Слышал я это не только от лиц, не имеющих понятия о военном заговоре, но и от контрреволюционеров, таких, как Ступин, Зверев, которые говорили, что при всем желании к Павлу Павловичу не подступиться и никак, даже косвенно, не вовлечешь его в орбиту контрреволюции. В. С. Ступин его особо хвалил как выдающегося генштабиста и как начальника Полевого штаба.
Летом или весной этого года я слышал от И. Н. Тихомирова, что организация стремилась завлечь в свои ряды служащего в организационном управлении ВГШ,[266]266
В тексте книги ошибочно ВСШ.
[Закрыть] бывшего генерала или полковника Фреймана, но что он настолько трусит, что наотрез отказался от этого и в организацию ни в коем случае поступать не желает. После этого я не слышал никогда из членов организации фамилии Фрейман. Лично его я знаю, так как сам служил в организационном управлении ВГШ, и с Фрейманом встречался, но никогда, кроме службы и про службу, с ним не разговаривал. Кто именно предлагал ему вступить в организацию, я не знаю.
26/ХП – 1919 года
1. Летом этого 1919 года Зверев при мне доложил Ступину, что Новиков познакомил его с каким-то приезжим от Деникина офицером (фамилию я не знаю, Зверев ее мне называл, но я забыл совершенно) и что тот просит его познакомить с начальником штаба организации. Ступин, насколько помню, на знакомство не согласился, говоря, что здесь верно что-нибудь не так, так как от Деникина приехало другое лицо и про зверевского уполномоченного от Деникина не говорило ни слова, и, возможно, что здесь провокация. Зверев остался при своем мнении, но Ступин знакомиться не захотел.
2. Большинство сведений о продвижении войск, о положении на фронтах, сосредоточении резервов и т. п. организация получала из Цупвосо,[267]267
Цупвосо – Центральное управление военных сообщений Красной Армии.
[Закрыть] но, от кого именно, не могу сказать, это дело меня не касалось, и я им интересовался мало. О снабжении армии, числе снарядов, оружия, снаряжения, обмундировании сведения шли из ЦУСа,[268]268
ЦУС – Центральное управление снабжения Красной Армии.
[Закрыть] как я уже говорил на прошлых докладах, от бывшего генерала Маниковского и часть сведений получалась из РВСР от бывшего генерала Бабикова; как и через кого получались данные, как и кому передавались, не знаю. Все это шло мимо меня. Знаю, что часть сведений шла через И. Н. Тихомирова и через N. N. и Тихомирова, и я один раз весной передавал от С. В. Р. И. Н. Т. какой-то секретно запечатанный пакет.
3. Про начальника Цупвосо Аржанова я слышал мало, знаю, что его мы считали чуть ли не коммунистом (я им совершенно не интересовался) и что И. Н. Тихомиров через кого-то делал попытку вовлечь его в организацию, но что из этого вышло, сказать затрудняюсь, думаю, что ничего, так как ничего и про результат не слышал.
4. Генерала Балканова Найденов не хвалил, но я через него (хотя я никогда его не видел) попал на службу в организационное управление ВГШ. Про его политические воззрения я ни от кого не слыхал, и вообще я о нем очень мало знаю.
Я думаю, что Бабиков знал о моем поступлении в ВГШ, так как прошение я подавал через N. N. в В[оенный] Совет, думаю, что ему известно было, что я состою в организации контрреволюционного заговора.
Николая Александровича Замятина-Тонагеля в организацию вовлек Алекс. Алекс. Ростовцев (бежал), а Ростовцева – Глеб-Кошанский (Танеев). Ник. Алекс. Замятин знал из организации меня, Кондратьева, Байкевича, Данилова, Ильина, Виноградова П. П., из Кремлевского арсенала.
Деятельность его выражалась в том, что он получал деньги и ничего для организации не делал. В прежнюю свою службу в Киргизском комиссариате он знал хорошо X. (бывший лицеист, потом земский начальник, потом на германской войне чиновником), должен был связаться с Джангильдиным, комиссаром всей Киргизии, который жил в своем вагоне на Рязанском вокзале. (Звали X., кажется, Сергей Владимирович или Петрович, не помню.)
27/XII – 1919 года
Братья Арбузовы, одного звали Петром, другого – не помню, состояли членами организации осенью 1918 года и числились у Бориса Александровича Ляшкевича. Осенью же 1918 года они оба заявили о своем выходе из организации без объяснения причин, и с тех пор я их не видел, никакого назначения бр. Арбузовы не исполняли и числились младшими офицерами; через кого они вступили в организацию, совершенно не помню. У меня на квартире они были раза два. Они оба состояли слушателями Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии,[269]269
Ныне Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева.
[Закрыть] адреса я не знаю. Ляшкевич Борис Александрович в настоящее время состоит командиром 1-й батареи 1-й школы артиллерийского дивизиона 8-й стрелковой дивизии (Запфронт).
Арбузов, кажется, Георгий состоял членом организации В.З[270]270
В.З – военного заговора.
[Закрыть] в 1918 году осенью и числился младшим офицером у Б. А. Ляшкевича. Осенью же 1918 года он без объяснения прямо из организации добровольно вышел, и с тех пор его не видел. До тех пор он сначала служил инструктором в 1-м (бат. 8-й стрелковой артиллерийской бригады, а затем по освобождении числился слушателем сельскохозяйственной Петровской академии. Арбузова я очень мало знаю, даже в лицо совершенно не помню, несмотря на то, что он какой-то дальний родственник жены (троюродный брат, кажется). Никакой активной роли в военном заговоре не играл.
5 февраля 1920 года ***
Фигуровский Николай Николаевич в организации не числился у меня, но про нее от меня и Найденова знал, предполагаю, что он мог войти в организацию через Николая Тихомирова, с которым познакомился у меня, когда тот приносил для организации деньги и, кажется, Фигуровскому было предложено сформировать отряд сестер милосердия. Я это слышал от него. Иван Николаевич Тихомиров старался достать через Фигуровского наклейки Красного Креста на ящики, для какой цели, не знаю. Выдавал Фигуровский себя за подполковника (войскового старшину), но я ему не верил, так как службу он знал, но, во всяком случае, был человек опытный, многое знал и понимал толк в вещах; во Владивостоке, по его словам, он был помощником нотариуса или даже имел свою транспортную контору и вел дела с Китаем. Восток он, во всяком случае, знает хорошо. По его словам, его фамилия не Фигуровский, а другая и приехал он из Сочи или откуда-то с Кавказа, где лечился от ран. Родом он, как кажется, из Черниговской губернии. Отец его был с ним не в ладах. У меня на квартире Фигуровский жил несколько дней по выходе из лечебницы и после был очень редко, так как был в Орле в командировках, в Красный Крест он поступил через Найденова.
Его знакомств я не знаю, но по службе он числился выдающимся.