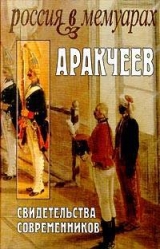
Текст книги "Граф Алексей Андреевич Аракчеев"
Автор книги: А. Гриббе
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
восходившими и нисходившими величиями. Он не радовался особенно ничьему возвышению и не
сожалел долго о падавших. Равнодушие, свидетельствовавшее, может быть, об отсутствии – как
быть по-вашему, могущественных убеждений, что ли? – всегда было кстати и весьма ему
пригодилось. Он мог быть зависим от графа Алексея Андреевича, а в то время это очень много
значило. В свиданиях своих граф иногда даже пожимал руку князю Петру Владимировичу,
улыбался как-то странно, по-своему – от непривычки, что ли, улыбаться – и удостоивал
полудоверенностию, полусловом, имевшим смысл только впоследствии. Князь Лопухин
довольствовался таким положением вещей, не добиваясь ничего, не обнаруживая притязаний на
рецензию и пересуды. В награду, что ли, право не знаю, такого политического самоотвержения и
самоуничтожения князь Петр Владимирович получил однажды изустное извещение графа Алексея
Андреевича о том, что он к нему будет вечером напиться чаю и сделать партию в бостон.
Помню очень живо, как князь Петр Владимирович, возвратившись домой, объявил всем нам
торжественно столь важную новость. Помню, как были мы изумлены все и не знали, должно ли
было тому радоваться. Помню заботливость, сомнения, затруднения князя при умственном
соображении партии редкого гостя, как он выразился, к нему назвавшегося, и должно
согласиться, что было о чем подумать. Теперь только я вижу, и очень ясно, всю щекотливость, всю
трудность подобного дела и оправдываю покойного председателя нашего Государственного совета
(помяни, Господи, душу его с миром) в его нерешимости, казавшейся мне тогда уж чресчур
излишнею. Наконец выбор удостоившихся приглашений был сделан; приглашения
собственноручные написаны князем и развезены мною к немногим (всего, кажется, шести) лицам.
«Из них уж многих нет»xxxi[x], как, кажется, сказал Пушкин, а о других поминать не хочу. Наступил
вечер. Свечи были зажжены; в комнатах накуреноxxxi [xi]. В гостиной были разложены два стола, и
приглашенные все собрались к семи часам (час был назначен графом), вполголоса разговаривая
между собою, как бы опасаясь прослушать стук кареты знаменитого посетителя. На всех лицах мог
я читать по тогдашней беззаботности и неопытности моей, и довольно ясно, помышления, которые
они сами хотели бы забыть, может статься, тотчас же после их зарождения. Так прошло часа два
или более. Карты оставались, само собою разумеется, нераспечатанными, какая-то тоска, похожая
чуть ли не на предсмертную, начинала овладевать всеми посетителями и наконец самим
хозяином. Положено было общим приговором этих седых голов (после, говорят, признавались
многие, что это был один из тех приговоров, который они обдумывали с участием и страстию)
послать кого-либо узнать тихомолком, что могло задержать его сиятельство и не отложил ли уж он
своего намерения удостоить князя своим посещением. Выбор князя, естественно, упал на меня
(тогда еще мы не стыдились быть на подобных посылках). Я торопливо и не совсем покойный
бросился в первую из стоявших у подъезда карет и велел себя везти как можно скорее в Литейную.
Расстояние было недалекоеxxxi i[xi ], и в пять много минут я уже был недалеко от своей цели. Я велел
остановиться, не доезжая дома, и пошел к нему пешком в странном каком-то состоянии духа.
Вечер был ненастный, мокрый снег валил шапками; фонари мерцали слабо. Ставни дома,
занимаемого графом, были затворены, и самый дом погружен в какой-то полумрак,
усиливавшийся, может быть, темною его окраскою. Он уцелел еще, этот памятный всем дом (на
углу Литейной и [пропуск в рукописи] переулка как занимаемый Долгорукимxxxiv[xi i], начальником
штаба Великого князя Михаила Павловича), и я никогда не проезжал мимо его не погружаясь
невольно в воспоминания о прошедшем и прошедших мимо нас. Я вступил в ворота, на довольно
обширный и вовсе почти не освещенный двор; сани, заложенные парою лошадей в дышло, стояли
неподалеку от крыльца. Добившись возможности видеть графского камердинера, персонажа тоже
довольно сурьезного и неговорливого, я узнал от него, что граф не раздумал ехать куда-то, но что
еще не окончил своих занятий и когда кончит – неизвестно. Едва успел он сообщить мне столь
ободрительное известие, как послышался голос графа: «Одеваться!» Камердинер бросился
опрометью в одни двери, а я в другие; не переводя духа добежал до кареты, меня ожидавшей, и
поскакал с известием. Несмотря на свое проворство, я успел предупредить графа едва
несколькими минутами.
Он пожаловал в половине десятого часа, как заметил после один из бывших тут сановников,
любивший, видно, справляться с часами. Хозяин дома встретил его в передней, без особенного
оказательства восторга, без особых ужимок придворного, а с некоторою важностию и достоинством
человека хорошей компании, считающего свой дом довольно порядочным для всякого, как бы он
ни был велик и значителен.
Граф не торопясь прошел аванзалу, еще комнату и вступил в гостиную, сухо отвечая на поклоны и
продолжая разговор с князем, заключавший, кажется, извинение, что заставил себя ждать, и
ссылаясь на множество скопившихся случайно дел. «Мы так зачитались с Никифором Ивановичем,
– говорил граф, снимая перчатки и укладывая промокшую от снега фуражку на малахитовый
подстольник, – что не ведали время. Извините, князь, право, если бы не дал вам слова, то едва
ли бы решился выехать в такую погоду. Присмотреть у меня за домом некому, и меня отправили к
вам в санях!» Он утирал лоб и щеки пестрым бумажным платком, поглядывая пристально на
двери, в которые вошел и близ которых стояла, прислонившись и вытянувшись, чуть дышащая
фигура какого-то человечка в истертом вицмундирном (анахронизм, кажется, рассказчика. Были ли
тогда они?) фракеxxxv[xiv], белом, или, лучше сказать, сероватом галстухе и с круглою шляпою в
руках.
Довольно яркое освещение комнаты, упадая на этот предмет, не имевший, как видно,
значительных выпуклостей, разливалось по нему как-то без особенного блеска, не отражаясь ни в
тусклых полуопушенных глазах, ни в матовой бледности худощавого лица. Только следуя
направлению графского взгляда, бывшие тут лица могли остановить свои взоры на этом
молчаливом собеседнике, очутившемся тут как бы неестественною силою. Граф не мог не
заметить общего, хотя и молчаливого, хотя и осторожного, изумления и, обратившись небрежно,
как бы нечаянно к хозяину, только тут сказал ему: «Я и забыл второпях, извините, ваше
сиятельство, представить вам и рекомендовать хорошего моего приятеля Никифора Ивановича,
помогающего мне вечерами в чтении этих проклятых бумаг. Рекомендую, рекомендую. Садись,
братец, – продолжал он, обращаясь уж к призраку, – господа эти не взыщут, что мы с тобой одеты
не по-бальному!» При окончании этой фразы, на которую призрак отвечал издали глубоким,
безмолвным поклоном, хозяин дома не мог не подойти к нему, сказать ему несколько оставшихся
неизвестными от истории слов и усадить его на несколько ближайшем к центру беседы кресле
Между тем был подан чай, карты розданы, и партия началась. Утомившись довольно долгим и
напряженным наблюдением и не ожидая ничего особенного, я уже сбирался идти спать в свою
комнатку, находившуюся в нижнем этаже дома. Было часов около одиннадцати. Вдруг внезапный
шум и разговоры в гостиной привлекли снова мое внимание. Подойдя к дверям, я сквозь створы их
увидел всех партнеров на ногах и графа Алексея Андреевича с фуражкою в руках,
раскланивающегося с хозяином. Лицо последнего было довольно мрачно и бледнее как-то
обыкновенного. «Не беспокойтесь, любезный князь, сделайте одолжение, – говорил ему граф
Аракчеев. -останьтесь, без церемонии; зачем вам покидать партию. Мне, право, жаль, что не могу
продолжать еще. Заремизилосьxxxvi[xv], видите. Пора мне спать. Вставать рано надобно. Дела куча.
Прощайте, прощайте, господа. Прошу полюбить моего Никифора Ивановича. Он великий мастер в
бостон. Доиграет за меня, а мне пора. Прощайте, князь, А ты, братец, -продолжал он, обращаясь к
Никифору Ивановичу, отдохнувшему было во время игры и дерзнувшему даже на несколько
скромных в сем отношении замечаний и теперь снова погрузившемуся в свое чиновническое
ничтожество, – ты что проиграешь, скажи мне; я разочтусь с этими господами. Авось либо нам
повезет», – прибавил он, улыбаясь одному ему свойственною улыбкою, в которой что-то было
дикое.
Когда хозяин дома возвратился в гостиную, Никифор Иванович занимал указанное ему и только
оставленное графом место и с решимостию человека, отчаявшегося в возврате, собирал
сдаваемые ему карты. В гостиной было тихо; на дворе шумел и завывал ветер. Будочники и
часовые подле Арсеналаxxxvii[xvi] перекликались протяжно между собою.
Один из присутствовавших при сем занимательном явлении лакеев на другой день между прочим
довел до моего сведения, что партия кончилась благополучно; что ужинать никто не остался и
даже не был особенно упрашиваем хозяином, что Никифор Иванович остался в замечательном по
количеству куша (они играли по 10 копеек медью) выигрыше и что один из господ, которого именно
обыграл он, сходя с лестницы, предложил ему завезти его домой в своей карете; что Никифор
Иванович согласился на то с первого разу, и княжеские сани, для него было приготовленные, были
отложены.
i[i] Гриббе Александр Карлович (1806—1876) в 1822 г. вступил подпрапорщиком в гренадерский графа
А. полк, где и служил до 1836 г., когда перешел в 1-й округ пахотных солдат; впоследствии полковник.
По выходе в отставку жил в Старой Руссе, где в 1873—1875 гг. у него снимали дачу Ф.М. и А.Г.
Достоевские, вскоре после смерти хозяина купившие его дом (ныне мемориальный дом-музей Ф.М.
Достоевского). Заметка об А. печатается по: PC. 1875. № 1. С. 84– 111; известны еще два очерка,
основанных на воспоминаниях Гриббе о службе: Холерный бунт в Новгородских военных поселениях
1831 г. // PC. 1876. № 11. С. 513—536; Новгородские военные поселения // PC. 1885. № 1. С. 127—152.
ii[i ] На юру – здесь: «на бойком, открытом месте» (Даль), на виду у всех.
iii[i i] Обыкновенно Аракчеев носил артиллерийскую форму; но при осмотре работ на военных
поселениях он сверх артиллерийского сюртука надевал куртку из серого солдатского сукна и в таком
наряде бродил по полям, осматривал постройки и т.п. работы. В этой-то куртке я увидел его в первый
раз. (Прим. Гриббе)
iv[iv] Фузелерная рота – мушкетерская.
v[v] Неточность: в 1822 г. Александр I посетил Грузине 15 июня.
vi[vi] Чтобы выказать перед Государем удивительную степень благоденствия солдат-поселенцев, а в
то же время и себе заслужить похвалу и награду, поселенное начальство поднималось на разные
штуки. Читателям известны, я думаю, рассказы о жареных поросенке и гусе, переносимых, по
задворкам, из дома в дом, по мере проезда Государя, так что, в какой бы дом царю ни вздумалось
зайти, везде за обеденным столом хозяев красовался или гусь, или поросенок, свидетельствуя о
довольстве, в каком живут солдаты-поселяне. Все это действительные факты, очень хорошо
известные во всех военных поселениях и обычные до того, что никто и не думал придавать им какое-
нибудь особенное значение: следовало представить свой товар, ну и представляли, разумеется, с
казового конца; не показывать же было обыденных заплат и лохмотьев – ежедневные пустые щи и
избитые спины счастливых поселян.
vii[vi ] Фурштатский – имеющий отношение к военному обозу.
viii[vi i] Учителя эти носили трехугольные шляпы.
ix[ix] Дудитский-Лишин Федор Васильевич (1802 – не ранее 1859) в 1822 г. выпущен из 1-го
кадетского корпуса прапорщиком в гренадерский графа А. полк; подпоручик (1822), поручик (1826), с
1832 г. штабс-капитан в отставке. С 1839 г. вновь в службе поручиком, штаб-ротмистр (1843), с 1859 г.
в отставке в чине ротмистра. Сведений о других офицерах не обнаружено.
x[x] Великие Моголы – династия правителей Могольской империи в Индии (XVI—XIX вв.); в
переносном значении – символ ничем не ограниченной власти.
xi[xi] Волынский Михаил Михайлович (1761—1837) – генерал-майор в отставке, помещик Бежецкого
уезда (ему принадлежало имение Борисовское), приятель А.
xii[xi ] Кампенгаузен Балтазар Балтазарович (1772—1823) – барон; в 1811—1823 гг. государственный
контролер, член Государственного совета, в июле—августе 1823 г. министр внутренних дел.
xiii[xi i] Басоны – позументы, галуны.
xiv[xiv] Павел Алексеев Шишкин сменил Ивана Дмитриева на посту бурмистра.
xv[xv] Путятин Василий Ефимович в 1792 г. поступил в Морской кадетский корпус кадетом, в 1795 г.
произведен в мичманы; в 1801 г. прикомандирован к корпусу в ранге подпоручика, лейтенант в ранге
поручика (1804), с 1805 г. в отставке; новгородский помещик, сосед А. См. выше фрагменты этих
мемуаров.
xvi[xvi] В пересказе современника сохранились некоторые детали этой картины, не включенные
мемуаристом в текст очерка: «Когда кто-то утешал Гриббе (у которого скончалась жена), говоря, будто
он плачем своим ропщет на Бога, этот последний, служивший долго при Аракчееве, возразил, что он
не граф Аракчеев, который, когда повар зарезал его любовницу, кричал во всеуслышание: «Соберите
весь Синод из Петербурга, чтобы доказали мне, что есть Бог, и то я не поверю» <...> Этот Гриббе
оставил записки об графе Аракчееве, которые читал иногда родным, и без слез не мог читать, как
несправедливо и жестоко наказывали молодую девушку, сестру убийцы Настасьи, за которую дело
стало, ибо Настасья до крови исщипала этой несчастной все лицо, а она пошла просить, рыдая,
защиты у брата в кухне. Не говоря о самом поваре, дерзнувшем убить любовницу графа Аракчеева,
невинную сестру его только потому, что по поводу ее стало дело, наказывал плетьми палач, привязав
ремнем за горло к позорному столбу, и многих других били кнутом нещадно. Повар и сестра его были
засечены до смерти, – так рассказывал Гриббе в своих записках» (Хитрово В.И. Замечания
(Memoires de ma vie) // Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 178.
№ 2. Л. 55—55 об).
xvii[xvii] В пересказе современника сохранились некоторые детали этой картины, не включенные
мемуаристом в текст очерка: «Когда кто-то утешал Гриббе (у которого скончалась жена), говоря, будто
он плачем своим ропщет на Бога, этот последний, служивший долго при Аракчееве, возразил, что он
не граф Аракчеев, который, когда повар зарезал его любовницу, кричал во всеуслышание: «Соберите
весь Синод из Петербурга, чтобы доказали мне, что есть Бог, и то я не поверю» <...> Этот Гриббе
оставил записки об графе Аракчееве, которые читал иногда родным, и без слез не мог читать, как
несправедливо и жестоко наказывали молодую девушку, сестру убийцы Настасьи, за которую дело
стало, ибо Настасья до крови исщипала этой несчастной все лицо, а она пошла просить, рыдая,
защиты у брата в кухне. Не говоря о самом поваре, дерзнувшем убить любовницу графа Аракчеева,
невинную сестру его только потому, что по поводу ее стало дело, наказывал плетьми палач, привязав
ремнем за горло к позорному столбу, и многих других били кнутом нещадно. Повар и сестра его были
засечены до смерти, – так рассказывал Гриббе в своих записках» (Хитрово В.И. Замечания
(Memoires de ma vie) // Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 178.
№ 2. Л. 55—55 об).
xviii[xvi i] Скот этот покупался в Архангельской губернии преимущественно известной холмогорской
породы и обходился казне довольно дорого. (Прим. Гриббе)
xix[xix] Честность и бескорыстие самого Аракчеева не подлежат никакому сомнению: он берег
казенную копейку, был очень скуп на нее и строго разграничивал свои собственные средства от
казенных. Если он был богат, то этим богатством обязан исключительно щедротам своего
царственного друга и той простоте и строгой бережливости, которые он ввел в свой образ жизни и
домашнее хозяйство. Всякое плутовство и мошенничество, как только он узнавал о них, строго им
преследовались; если же он относился довольно равнодушно к некоторым явлениям полковой
экономии, то, кажется, единственно вследствие сознания, что при всем своем могуществе он
бессилен искоренить это зло, вошедшее, по-видимому, в плоть и кровь служившего тогда люда.
(Прим. Гриббе)
xx[xx] Кордегардия – караульное помещение.
xxi[xxi] Строка из басни И.А. Крылова «Волк и Ягненок».
xxii[i] Бессонов Иван Александрович (1811 – 1848) начал службу в 1827 г. канцеляристом в Калужском
губернском правлении, служил в канцелярии Калужского гражданского губернатора (в 1829 г. —
коллежский регистратор), в июне 1831 г. вышел в отставку «за болезнию»; в 1833 г. заседатель в
Калужском совестном суде, с 1834 г. – губернский секретарь, в 1835—1839 гг. дворянский заседатель
в Калужской палате гражданского суда (сведения о службе Бессонова приводятся по. ОР РГБ. Ф. 233.
К. 7. № 9 (паспорт); К. 8. № 9 – послужной список). Был коротко знаком с известным библиофилом и
библиографом С.Д. Полторацким, чье имение Авчурино находилось в Калужском уезде Калужской
губернии; видимо, по настоянию последнего в сентябре 1844 г. Бессоновым и была записана серия
устных новелл об А. В настоящем издании они публикуются (впервые полностью) по автографу: ОР
РГБ. Ф. 233. Карт. 43. № 8. Л. 1—10. Фрагменты «Рассказов...» были использованы в сравнительно
недавней биографии А. (Томсинов В.А. Временщик (А.А. Аракчеев). М., 1996).
xxiii[i ] Франпарлерство (от фр. parler franc) – вольные речи; болтовня.
xxiv[i i] Ришелье Арман Жан дю Плесси (1582-1642) – кардинал (1622), с 1624 г. первый министр при
дворе Людовика XIII. Перед смертью указал на своего преемника– кардинала (с 1641) Джулио
Мазарини (1602—1661). Во время Фронды (1648—1653) в Париже распространялись многочисленные
анонимные памфлеты и сатиры на Мазарини (т. н. мазаринады).
xxv[iv] На самом деле гравированные портреты А. были широко распространены. Известны два
иконографических типа: 1) гравюра пунктиром Ф. Вендрамини с портрета работы неизвестного
художника (исполнен ок. 1796 г.); 2) гравюра резцом Н.И. Уткина с оригинала И.Ф. Вагнера (1818); с
этого же оригинала портрет А. гравировал в 1828 г. К. Афанасьев (подробнее см.: РовинскийД.А.
Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1886. Т. 1. Стб. 343-345).
xxvi[v] Имеется в виду Александр I. Эта фраза вошла в российский культурный обиход после того, как
стало в списках расходиться письмо императрицы Елизаветы Алексеевны к свекрови от 19 ноября
1825 г., первая фраза которого приобрела особенную известность: «Дорогая матушка! Наш ангел в
небесах <...>» (текст письма см.: Шильдер. Александр. Т. 4. С. 386). Ср. также, например,
воспоминание императрицы Александры Федоровны: «Мы называли его в наших интимных письмах
попросту ангелом, а не императором» (Там же. С. 220).
xxvii[vi] То есть Аракчеев. Аггел (неверно прочитанное церковно-славянское слово «аггелъ») – бес или
сам сатана (ср.: «диаволъ и аггелы его», но «ангелъ господень»). Оппозиция «ангел/аггел»
оформилась в XV в. См. также акростих в приложении.
xxviii[vii] Это произошло в начале сентября 1823 г.
xxix[vii ] Имеются в виду заграничные события конца 1810-х – начала 1820-х гг.: революции в Италии,
Испании, Португалии, и домашние: бунт в Чугуевских военных поселениях (1819), неповиновение
Семеновского полка в Петербурге (1820), деятельность Союза благоденствия (1818—1821), прошения
об отставке, поданные в знак протеста B.C. Норовым и другими офицерами Егерского полка (все —
1822), и др.
xxx[ix] В августе 1824 г. Александр I был проездом в Москве, направляясь в путешествие по восточным
губерниям. Александрийский дворец в усадьбе Нескучное – бывший дворец Демидовых (заложен в
1756 г.), от них перешедший через Ф.Г. Орлова к А.Г. Орлову-Чесменскому и затем – к его дочери, а в
1832 г. вместе с усадьбой приобретенный Николаем I для императрицы Александры Федоровны
(отсюда название). Ныне – здание Президиума РАН (Ленинский проспект, 14).
xxxi[x] Отсылка к эпиграфу поэмы «Бахчисарайский фонтан» или к строфе LI восьмой главы «Евгения
Онегина».
xxxii[xi] Окуривание комнат благовониями осуществлялось в ходе приготовлений к званому вечеру.
xxxiii[xi ] Дом П.В. Лопухина (№ 175 в Литейной части) находился на Литейном проспекте.
xxxiv[xi i] Долгоруков (Долгорукий) Илья Андреевич (1797—1848)– князь; юнкер лейб-гвардейской
артиллерийской бригады (1813), с 1815 г. – подпоручик с назначением адъютантом к А.; в 1818 г. в его
ведение перешли «дела поселенных войск по фронтовой части, как то: исчисление людей, рассылка
приказов, производство и переводы, прошения об определении на службу, увольнения и пр.»
(Приказы-1818; 28 сентября). Обращен в строй в 1819 г.; капитан (1823), полковник, адъютант
великого князя Михаила Павловича (1825—1828). Член Союза спасения (с конца 1817) и Союза
благоденствия, блюститель его Коренного совета. По свидетельству И.Д. Якушкина, Долгоруков,
«служа при Аракчееве и имея возможность знать многие тайные распоряжения правительства и
извещать о них своих товарищей, <...> тем самым был полезен Тайному обществу» (Записки, статьи,
письма декабриста И.Д. Якушкина. М., 1951. С. 29– 30). Привлекался к следствию о тайных
обществах, но по высочайшему повелению его делу не был дан ход. С 1829 г. исправляющий
должность начальника штаба великого князя Михаила Павловича по должности генерал-
фельдцейхмейстера; генерал-лейтенант (1844), генерал-адъютант (1848).
xxxv[xiv] Вицмундирные фраки – одежда статских чиновников; разные ее детали (цвет сукна, материал и
цвет воротников и обшлагов, наличие и рисунок золотого или серебряного шитья) варьировались в
зависимости от принадлежности к тому или иному ведомству. Замечание Бессонова справедливо —
мундирные фраки получили распространение после 1826 г.
xxxvi[xv] Ремиз – недобор установленного числа взяток в карточной игре.
xxxvii[xvi] Петербургский Арсенал – комплекс зданий для производства артиллерийского вооружения,
хранения готовой продукции и артиллерийских запасов. Основан Петром I в 1711—1712 гг. как
Литейный двор; к 1840-м гг. занимал обширный участок Литейного проспекта между Новой и Кирочной
улицами и включал (помимо основных сооружений) административные здания, Техническую школу,
Сергиевский всей артиллерии собор (возведен в 1796—1800 гг. по проекту Ф.И. Демерцова), жилые
дома, казармы, лазареты, склады и др.








