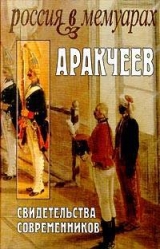
Текст книги "Граф Алексей Андреевич Аракчеев"
Автор книги: А. Гриббе
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Настасья Федоровна оченно больна.
Фон Фрикен побледнел и, бросившись за Аракчеевым, дрожащим голосом передал ему известие,
привезенное грузинским головой.
Граф вздрогнул, лицо его вдруг как-то исказилось, и он... зарыдал...
Вид плачущего Аракчеева представлял зрелище до того поразительное, что нам всем, людям,
более или менее не расположенным к нему, перенесшим от него много обид и оскорблений,
сделалось, однако ж, как-то не по себе, стало жутко, стало даже жалко его. Нам тяжело было
видеть неподдельное горе этого человека-зверя, не знавшего ни жалости, ни сострадания к своим
подчиненным и подневольным, хладнокровно, не содрогнувшись, подписывавшего смертные
приговоры, – говорю «смертные», так как наказание шпицрутенами через 1000 человек три-
четыре раза – несомненно, та же смертная казнь, только медленная и потому гораздо
мучительнейшая... Только в эту минуту – может быть, в первый раз во всю его жизнь —
проглянула в Аракчееве человеческая сторона, выказалось, что и он не был чужд человеческого
чувства...
–
Нет! она более не существует! – скорее прохрипел, чем проговорил он. – Лошадей! —
крикнул он вслед за тем.
Через пять минут коляска была подана. Аракчеев вскочил в нее, посадил с собою фон Фрикена и
полкового доктора Миллера и понесся марш-маршем. Но в Грузине Аракчеев не поехал: он послал
туда фон Фрикена и Миллера, а сам остался в селе Пшеничище, у помещика Путятинаxv[xv], в семи
верстах от Грузина.
Фон Фрикен и Миллер, прибыв на место преступления, сейчас же распорядились заковать по
рукам и по ногам всех дворовых людей графа, без разбора, как причастных, так и непричастных
роковому делу. Аракчеев приехал домой только к вечеру и немедленно потребовал к себе злодеев,
которые и были приведены к нему в цепях.
По словам доктора Миллера, неистовству этого человека, потерявшего женщину, к которой он, как
известно, был искренно привязан, не было меры. Оборвав борты сюртука и обнажив грудь, он
бегал по комнате и кричал: «Режь меня, коли, злодей!» – и наконец упал без чувств.
Пока все это происходило в Грузине, бедный Симков оставался в арестантской, ключ от которой
Аракчеев взял с собою. В самом разгаре драмы, последовавшей за убийством Настасьи
Федоровны, никто, разумеется, не решился подступить к обезумевшему от горя графу и спросить
его, как быть с арестованным инженерным капитаном; ближайшие власти сами уже решились
сломать замок и освободить его из-под ареста, а также дали возможность и другим арестантам
удовлетворить необходимым естественным потребностям.
Здесь кстати будет заметить, что помещенные в «Русской старине» (изд. 1872 г., т. VI, стр. 225—
242; 547—558) воспоминания об Аракчееве почтенного и многоуважаемого доктора Ивана
Исааковича Европеусаxvi[xvi], пользовавшегося особенным уважением и любовью общества
офицеров гренадерского графа Аракчеева и короля Прусского полков, грешат несколько, так
сказать, в топографическом отношении. В статье этой, между прочим, сказано, что известие об
убийстве Настасьи Федоровны достигло Аракчеева тогда, когда он был в Прусском полку.
Присутствуя лично при том моменте, когда фон Фрикен докладывал графу об опасной болезни его
любовницы, и будучи свидетелем отчаяния Аракчеева при этом известии, я думаю, что
почтеннейший Иван Исаакович, по давнему времени, ошибся в определении места. Это случилось
именно в расположении гренадерского графа Аракчеева полка: история арестования капитана
Симкова в солдатской арестантской и ключ от двери этой арестантской, оставшийся в кармане
Аракчеева, могут служить подтверждением приведенного мною рассказа.
Мщение Аракчеева убийцам его друга было беспощадно. Целые реки крови пролиты были в
память погибшей графской любовницы и в назидание дворовых и крестьян чуть ли не всей
Новгородской губернии. Описывать подробно все кровавые сцены, происходившие тогда на
берегах Волхова, сцены, которых я, к моему несчастию, был невольным свидетелем, я не берусь,
не желая возмущать чувство человечности в моих читателях; да мне и самому слишком тяжело
было бы переживать те ощущения, какие я тогда испытывал. Скажу только несколько слов о той
обстановке этих казней, какую ревнивые исполнители воли всемогущего временщика постарались
придать кровавому мщению его за смерть возлюбленной.
В октябре или ноябре месяце 1825 года – хорошо теперь не упомню – приказом по полку наша
рота назначена была к походу в село Грузине. Рота приведена была на военное положение, людям
розданы были боевые патроны, по 60 на человека, и мы отправились в резиденцию Аракчеева,
куда к этому времени привезены были из Новгорода и преступники. На другой день назначена
была самая казнь правому и виноватому, без разбора.
Местом казни была избрана обширная поляна по дороге из деревни Палички в село Грузино,
против колоннады церкви св. Андрея Первозванного. В 9 часов утра рота наша вышла с квартир и
оцепила лобное место. Сзади цепи солдат стояли собранные почти со всего поселения крестьяне
с женами и детьми, всего около четырех тысяч человек. Посредине оцепленного пространства
врыт был станок, по обеим сторонам которого, по случаю холодного времени, горели огни, а около
них прогуливались в ожидании дела заплечные мастера, то и дело прикладывавшиеся к огромной
бутыли с водкою, поставленной со стаканом около станка, Распорядители казнью нашли,
вероятно, необходимым обеспечить сердце палачей от опасности воспламениться тою искрою,
которая зовется человечностью, и хотели залить в них вином всякое чувство сострадания к
несчастным преступникам. А между тем большинство этих «преступников» и даже сам убийца
заслуживали несравненно большего участия, чем все эти клевреты Аракчеева, проливавшие
горькие слезы о погибшей варваре-женщине...
Но набросим, читатель, покров на то, что происходило потом на этих мирных полях. Мне,
невольному свидетелю казни, при воспоминании об этой трагедии и теперь еще слышатся резкие
свистящие звуки ударов кнута, страшные стоны и крики истязуемых и какой-то глухой,
подавленный вздох тысячной толпы народа, в назидание которого совершались эти
истязанияxvii[xvi ]...
Время Аракчеева было время железное, мрачное по своей жестокости. Чуть ли не вся Россия
стоном стонала под ударами. Били в войсках, в школах, в городах и деревнях, на торговых
площадях и в конюшнях, били и в семьях, считая битье какою-то необходимою наукою-учением. В
то время действительно, кажется, верили, что один битый стоит двух небитых и что вернейшим
средством не только против всякого заблуждения и шалости, но даже и против глупости, чуть ли не
идиотизма было битье. Вероятно, вследствие этого убеждения палка гуляла и по старому, и по
малому, не щадя ни слабости детского возраста, ни седины старости, ни женской стыдливости.
В поселенных войсках битье процветало в особенности, обратилось в действительную науку и
даже выработало особых экспертов по этой части. Аракчеев, конечно, знал об этом, и потому,
вероятно, командир нашего полка, Федор Карлович фон Фрикен, прозванный солдатами Федором
Кулаковым, и пользовался особенною его благосклонностью.
Если кто-либо из дворовых людей Аракчеева имел несчастие провиниться в чем-нибудь, граф
обыкновенно писал нашему полковому командиру такую записку: «Препровождаемого при сем
Федота Аксенова прогнать через пятьсот человек один раз, поручив исполнение этого майорам
Писареву или князю Енгалычеву».
Обе эти майорские личности славились в Аракчеевском полку своими боевыми качествами.
Веря в назидательность публичности подобных наказаний, Аракчеев вместе с виновным присылал
всегда и несколько человек зрителей из своей дворни; эти последние, одетые в парадные ливреи,
с гербовыми басонами, шли всегда по той же зеленой улице, по которой тащили и главное
действующее лицо этой драмы, – непосредственно за ним. По окончании церемонии несчастного
лакея, побывавшего в науке у Писарева или Енгалычева, отвозили, конечно, в госпиталь, где он и
оставался иногда целые месяцы, а невольные ливрейные свидетели учения отправлялись обратно
в Грузине и по прибытии туда должны были передать, во всех подробностях, виденное ими своим
товарищам.
VII
В моих воспоминаниях об аракчеевщине встает цельная, полновесная Фигура майора Федора
Евфимовича Евфимова, личности, далеко недюжинной по своему энергическому характеру и по
той силе воли, с какою он переносил разные невзгоды своей служебной карьеры.
Евфимов, по формулярному его списку, значился из ямщиков Крестецкого уезда, села Зайцева
(Яжелбицы тож), что на Московской дороге. По сдаче в рекруты он поступил на службу в
Ростовский мушкетерский молк, переименованный в 1807 году в гренадерский графа Аракчеева;
отсюда при переформировании – не помню в точности, лейб-гвардии Волынского или Литовского
полка – Евфимов, в звании фельдфебеля, вместе со 2-ю гренадерскою ротою, под командой
капитана Тимофеева, поручика Самбурского и подпоручика Неелова, переведен был в гвардию. По
производстве в 1812 году в подпоручики он назначен был в полк графа Аракчеева, где и продолжал
свою службу с разными превратностями до 1827 года.
Когда в 1817 году 2-й баталион Аракчеевского полка был отделен от полка и под командою майора
фон Фрикена ушел из С.-Петербурга для основания военного поселения, то и капитан Евфимов,
командовавший тогда 2-ю гренадерскою ротою, назначен был в число деятелей этого новою
великого дела. Тут-то Федор Евфимович попал, что называется, в свою колею и заметно
выдвинулся из среды рьяных исполнителей аракчеевского замысла. Он первый наложил свою
мощную руку на священную бороду мирного селянина, и не воображавшего до того, что его
бобровая бородушка исчезнет под косою железного времени и рукою Федора Евфимовича,
который во всю свою ямскую мощь старался исказить русского крестьянина и сделать из него
солдата-пахаря...
Совершенно безграмотный, с большим трудом, и то только при помощи своего фельдфебеля
Лаптева, подписывавший какими-то невозможными каракулями свою фамилию деспот, с железною
волею, грубый и неотесанный, Евфимов тяжелым гнетом давил все ему подначальное. Но,
несмотря на всю грубость и дубоватость своей натуры, он был, однако ж, далеко не глуп и ловко
умел подлаживаться и под обстоятельства, и под характер людей, власть имеющих. В особенности
достойно удивления было в нем одно качество – это какое-то чувство обоняния или
предугадывания, нечто высшее инстинкта животных: он, например, всегда, и почти безошибочно,
заранее знал, когда Аракчеев приедет в полк. Евфимов брал тогда несколько человек из поселян-
хозяев и, выйдя с ними в поле, прилегающее к той дороге, по которой обыкновенно ездил
Аракчеев, начинал преподавать им практический урок землепашества.
Современному читателю довольно трудно, я думаю, представить себе эту картину: штаб-офицер в
эполетах идет по полю за сохою, а за ним плетется целое капральство солдат-поселян!..
Едет граф, видит эту интересную картину, умиляется и, остановившись, спрашивает:
–
Что это ты, Федор Евфимович, сам беспокоишься? мог бы, кажется, заставить и помощника
своего заняться этим делом.
Евфимов вместо ответа приветствует графа по-солдатски:
–
Здравия желаем вашему сиятельству и поздравляем с приездом, которого совершенно не
ожидали!
Затем уже Евфимов объясняет, что личное его участие в землепашестве вызывается тем, что
многих хозяев надо еще учить, как ходить за сохою.
Аракчеев благодарит его за усердие поцелуем и приглашает к себе в коляску, объявляя, что едет к
нему пить чай.
Но Федор Евфимович недолго, однако же, красовался на своем пьедестале. По неразвитости ли,
по свойственным ли вообще натуре русского человека нравственной распущенности,
самонадеянности и т.п. отечественным добродетелям, но он не мог удержаться на высоте того
положения, на которое его подняли фавор и каприз всесильного временщика.
В 1823 году полковой командир делал инспекторский смотр поселенному батальону (то есть 2-му)
поротно, начав таковой со 2-й гренадерской роты.
На опросе нижние чины этой роты заявили претензию на своего ротного командира, майора
Евфимова, жалуясь, между прочим, на то, что он как их самих, так и жен их жестоко наказывает за
малейшую неисправность; что деньги, отпускаемые на продовольствие кантонистов, Евфимов
удерживает у себя; что из следующего ежегодно в раздачу поселянам, по случаю падежей рогатого
скотаxvii [xvi i], лучшие особи отбираются ротным командиром и отправляются к нему в усадьбу близ
города Валдая; то же самое делается и с овцами; по отчетам же присвоенные себе Евфимовым
быки и коровы показываются павшими, а овцы – съеденными волками.
Полковой командир, при всем своем расположении к Евфимову и при всем желании не выносить
сора из избы, не мог, однако ж, замять это дело, так как заявленная 2-ю гренадерскою ротою
претензия сделалась известною по всему поселению; Аракчеев же хотя и знал, конечно, о
воровстве разного начальства и смотрел вообще на это сквозь пальцы, очень хорошо сознавая всю
неизлечимость векового зла, но не любил, чтобы об этом говорили, и в подобных случаях не
шутилxix[xix]. Поэтому делать было нечего, пришлось нарядить следственную комиссию, которая
кроме подтверждения заявленных ротою претензий открыла и еще кое-какие злоупотребления со
стороны ротного командира.
По окончании следствия дело было представлено на рассмотрение графа Аракчеева, который,
недолго думая, конфирмовал так: «По Высочайшему повелению имени моего полка майор
Евфимов лишается чинов и орденов и записывается в рядовые в тот же полк графа Аракчеева».
Когда дежурный по полку, капитан Дядин, прочел Евфимову конфирмацию и приказал ему надеть
солдатскую шинель, тот совершенно спокойно, с полнейшим самообладанием, снял с себя свой
сюртук с эполетами и, принимая поданную ему серую шинель, сказал:
–
Здравствуй, моя старая знакомая! Опять нам пришлось свидеться с тобой!
Надев шинель, Евфимов громко провозгласил:
–
Здравия желаю, ваше благородие! В какую роту прикажете явиться?
Будучи зачислен в 1-ю фузелерную роту, которая занимала в тот день караул при полковом штабе,
он отправился в кордегардиюxx[xx], отрекомендовался караулу и просил гренадер любить его и
жаловать; по выходе с гауптвахты он снял шапку перед первым попавшимся ему унтер-офицером,
а при встрече с одним из юнейших прапорщиков вытянулся во фронт. Затем явился к
фельдфебелю роты и капральному унтер-офицеру и был помешен в числе непоселенных нижних
чинов (то есть унтер-офицеров и ефрейторов), получил всю боевую сбрую, которую и привел
собственноручно в полный порядок. На четвертый день по снятии густых эполетов Евфимов шил
уже башмаки, отправляя их в свою валдайскую усадьбу для дворни; в этой же усадьбе жила и жена
его, заправляя хозяйством.
Ни от каких служебных обязанностей Евфимов никогда не уклонялся и везде был первым. Во
фронте он ни за что не хотел встать в заднюю шеренгу, говоря, что «с козел ямской телеги
поступил прямо в первую»; когда же он бывал в карауле, то всегда просил не назначать его на
часы в какое-нибудь теплое захолустье, а непременно у фронта, на платформе гауптвахты. Зато,
когда он стоял на часах, караульный офицер мог быть спокоен, будучи уверен, что караул вовремя
будет вызван для отдачи чести начальству, – а тогда караул выходил в ружье при проезде и
проходе всякого начальства! Одним словом, Евфимов был до мозга костей лихим русским
солдатом старого времени. Никто никогда не слыхал от него ни одной жалобы на судьбу, хотя ему
и было на что жаловаться, о чем пожалеть: он все переносил без ропота, усердно молясь Богу...
Беспощадно суровый прежде к своим подчиненным, не знавший, кажется, жалости при наказании
провинившихся подначальных ему людей, Федор Евфимович теперь словно переродился, точно
постигшее его несчастие принесло для него какое-то откровение свыше о необходимости братской
любви между людьми и милосердия к ним... Каждый из его новых сотоварищей-солдат в случае
какой-либо невзгоды или затруднения обращался к нему, и он действительно помогал чем мог —
делом, словом, советом, участием... Глядя на этого человека, одиннадцать лет носившего эполеты,
пользовавшегося особенною любовью Аракчеева, не слышавшего в нем, что называется, души;
лично известного Государю, который всегда благосклонно и приветливо относился к этому
фавориту своего друга, видя, с какою душевною твердостию и силою воли он нес выпавший на его
долю тяжелый крест, невольно удивлялся и жалел, что такая замечательная душа была зашита в
такую грубую оболочку...
В следующем, 1824 году Государь смотрел наш полк и при проезде мимо 2-го взвода 1-го
баталиона Аракчеев остановил Государя и, указывая рукой на Евфимова, спросил:
– Узнаешь ли, Государь, этого гренадера?– Нет! – отвечал государь.
– Это твой бывший любимец – Евфимов, – сказал Аракчеев.
Государь заметил, что граф поступил с ним слишком жестоко, но Аракчеев, возвыся свой
гнусливый голос, громко проговорил:
–
Кто не умел дорожить Высочайшим вниманием и милостью царя, тот не заслуживает
никакой жалости!
Терновому поприщу Федора Евфимовича не суждено было, однако ж кончиться обыкновенным
образом.
Он продолжал свою службу по-прежнему ретиво и беспорочно, но в 1825 году на него нашла новая
туча.
2-я гренадерская рота, которою командовал когда-то Евфимов, при инспекторском опросе
полковым командиром фон Фрикеном заявила какую-то претензию и на самого полкового
командира, причем в смелых выражениях настойчиво и решительно требовала для себя каких-то
уступок и льгот. Будучи заведены при опросе направо и налево, в кружок, люди сплотились очень
тесно и слишком близко подвинулись к фон Фрикену, который, опасаясь какого-либо насилия,
бросился в толпу, пробился из круга, сел на дрожки и уехал. Вслед ему раздалось несколько
голосов, по всей вероятности, повторявших заявленные уже просьбы, но что, конечно, было
противно установившемуся порядку службы и правилам строгой воинской дисциплины.
О происшествии этом было тотчас же, разумеется, доведено до сведения Аракчеева, но так как это
случилось за два дня до праздника Пасхи, то граф приехал в полк только на третий день Святой
недели.
Поселенный батальон был собран, и началась расправа, о подробностях которой лучше умолчу:
это был поистине Шемякин суд – били и виноватых и правых, и последним, как это подчас водится
и доныне, досталось, пожалуй, еще больше, чем первым.
В этот день я был в карауле при полковом штабе и принимал под арест несколько десятков
поселян-хозяев, в том числе и фельдфебеля 2-й гренадерской роты. После всех, за усиленным
конвоем, при офицере, привели Федора Евфимова и унтер-офицера Алфимова, с приказанием
посадить их в темный каземат под замок, что, конечно, и было тотчас исполнено мною. Спустя час
по приводе этих двух арестантов явился и сам Аракчеев, ведя на казнь главных зачинщиков
«возмущения». Караул вышел в ружье и отдал честь с пробитием похода. Аракчеев подошел ко
мне и спросил:
Где Евфимов?
По приказанию вашего сиятельства посажен в темный каземат.
Показать мне его! – повелительно крикнул граф.
Я распустил караул и повел Аракчеева наверх, во второй этаж, где был заключен несчастный
страдалец.
Евфимова вывели... Аракчеев злобно посмотрел на него и скорее проскрипел, чем проговорил:
Неблагодарный негодяй!.. Железа! – неистово закричал он вслед затем
–Чего другого, а этого добра, так же как палок и розог, на нашей гауптвахте всегда было в изобилии:
поэтому кандалы сейчас же были принесены.
–
Заковать наглухо! – крикнул граф.
Кузнец был под рукой. Сняли с несчастного Евфимова краги, которые тогда еще носили, и надели
на него «арестантские шпоры». Аракчеев оставался до самого конца этой операции, точно
наслаждаясь унижением своего бывшего любимца, которого он теперь ненавидел. Когда прозвучал
последний удар кузнечного молота и все было кончено, Аракчеев толкнул Евфимова в шею. Тот с
непривычки к оковам едва было не упал от этого подзатыльника и, обернувшись к графу, громко
проговорил:
Ваше сиятельство, видит Бог, невинно страдаю!
Поставить им ушат! дверь на замок, и чтобы всегда была запечатана! По два фунта хлеба и ведро
воды! – грозно крикнул Аракчеев, обратившись ко мне.
Нечего и говорить, что приказание это свято исполнялось и переходило в сдачу при смене караула.
Командира 2-й гренадерской роты, капитана Мильковского, перевели за эту историю в сибирские
гарнизоны; фельдфебель той же роты разжалован был в рядовые, а через месяц последовал
приказ и о том, что «рядовой, из дворян, Федор Евфимов переводится в армейский полк», куда, по
снятии с него оков, он и был отправлен по этапу.
За что пострадал несчастный Федор Евфимович, совершенно непричастный ко всему этому делу,
один Бог знает! Вероятно, личность этого служаки, умного, сметливого и притом коротко знакомого
со всеми тонкостями ротного и полкового хозяйства былого времени, мозолила глаза начальству,
которое видело в нем лишнего и не совсем безопасного свидетеля своих проделок по
экономической части... Придраться к Евфимову из-за каких-либо упущений по службе не могли: он
был всегда исправен и вел себя безукоризненно; оставалось одно – припутать его как-нибудь к
скандальной истории и таким образом избавиться от него. Сочинили какие-то подстрекательства и
вредное влияние, оказываемое
подумали о том, что вследствие жалобы именно этих-то людей Евфимов и попал из майоров в
рядовые. Впрочем, несмотря на всю пристрастность произведенного над Евфимовым следствия,
виновность его в деле «возмущения» 2-й гренадерской роты не была доказана, и он был удален из
полка так называемым административным распоряжением. Ни правильного следствия, ни
праведного гласного суда в то время еще не было, и старая пословица: «У сильного всегда
бессильный виноват»xxi[xxi]– ежедневно оправдывалась на деле. <...>
. Бессоновxxi[i]
РАССКАЗЫ ОБ АРАКЧЕЕВЕ
Не прошло еще двадцати лет, как покойный граф A.A. Аракчеев сошел с русской сцены, на которой
играл, помнят многие и знают все, какую роль; и воспоминание о нем если не исчезло, то слабеет
– и заметно. Я говорю о воспоминаниях, сохраняющихся в народе, или, лучше сказать, в
известных классах общества, о действователях современных в их вседневной, закулисной жизни.
Мне кажется, это отнести должно главнейше к тому, что образу своих действий граф Аракчеев, а
следовательно, и современному влиянию, старался всегда по известному для него, вероятно,
расчету придавать характер и выражение официальности, службы, а не своей личности,
исчезавшей как бы в массе приказов, повелений, указов и узаконений, издававшихся и
управлявших царством от Высочайшего имени. Вольно или невольно он редко выступал из этих
границ, по-видимому довольно тесных, и не гонялся за известностию, довольно, впрочем, жалкою,
остроумия, истощаемого в наше время людьми важными в приказах и деловых бумагах. Пример —
учитель не всегда чтим бывает довольно учениками. Аракчеев, сколько помнится, не добивался
гласности, народности, довольно легкой для людей, стоящих на такой заметной для толпы
ступени, и часто приобретаемой удачною выходкою, острым словом, наконец, самою странностию
и причудами. Суворов стал известен большинству русских, по крайней мере своего времени,
прежде всего едва ли не с этой стороны, стороны причуд и странностей, а не своих дарований,
глубоко обдуманных и изумлявших своею быстротою и последствиями, – воинских движений.
Едва ли не большею частию известности своей как чудак, замечательный человек этот обязан
примерным изучением истории его жизни. Современники великого человека прежде всего, может
быть, всегда спрашивают: кто он и что такое! Потомство вопрошает: как, для чего и что он
сделал великого? В этих вопросах заключена жизнь людей, истории принадлежащих. Не таков был
граф Алексей Андреевич. Всегда осторожный, всегда скрывающий глубоко свою мысль и свои
страсти, он не любил около себя шуму и восклицаний, в каком бы они роде ни были.
Поступки его были медленно-тихи, как род и действие пружины необходимой, может быть, все
управляющей, но глубоко сокровенной. Была ли то врожденная или рассчитанная скромность,
склонность к тишине и уединению, размышление души, в себя углубленной, или боязнь ропотной
совести – как знать? Аракчеев не был балагуром и, сколько известно, крепко недолюбливал
людей этого рода, крайне докучающих своим франпарлерствомxxi i[i ], на которое нельзя серьезно
сердиться. Впрочем, с ним и шутить было не совсем удобно или ловко: и все эти умники
тогдашнего времени, не щадившие, как говорится, для острого словца ни матери ни отца,
делались, если верить рассказам, замечательно тупы и теряли дар слова, свыше ниспосланный,
не только в присутствии сурового временщика, но даже при одном его имени. Странно, и здесь
кстати будет, кажется, заметить, что подобные противоречия самим себе господ острословов
встречаются и не раз в истории, – и до сих пор не отмечено в множестве памфлетов и сатир
времен Ришелье и Мазариниxxiv[i i] ни одного с подписью собственного имени автора! Граф
Аракчеев, как рассказывают современники его, не дозволял будто бы никогда гравирования своего
портретаxxv[iv]. В самом деле, редкость их на станциях в трактирах и постоялых дворах {я не видал
ни одного, кроме снятого с мертвого, можно сказать, – на эстампе, изображающем коронование
благополучно царствующего Государя Императора Николая Павловича и супруги его) делает
довольно вероятными подобные рассказы. Несмотря на то, в народной памяти живет холодный и
строгий его образ; эти выразительные, крупные, как бы из камня иссеченные черты лица, седая,
гладко выстриженная голова; гнусливое произношение речи и самая речь грубая, отрывистая,
металлическая. В частых своих путешествиях с нашим ангеломxxvi[v] неразлучный его спутник
аггел xxvii[vi] не старался быть любезным ни с кем и явно говорил неприятные часто вещи как лицам,
так и толпе. У меня еще теперь свежа в памяти сцена, происходившая у графа Аракчеева с одной
из просительниц, осаждавших Государя в проезд его чрез Серпухов в 1823 годуxxvii [vii]. Графу
поручено было отобрать от нее нужные указания и сведения о ее деле. Выслушав рассказ, может
быть, довольно несвязный, граф с нетерпением закричал на нее: «Стыдно вам, сударыня,
беспокоить Государя такими пустяками. Вы должны идти и просить по порядку». На это неробкая,
как видно, просительница отвечала ему: «Ваше сиятельство. Я шла по порядку, но меня принудили
к беспорядку». Сцена эта происходила на крыльце Государевой квартиры при многочисленном
стечении верноподданных.
Дошла до нас память о непреклонности его воли, неутомимости нрава и ничем не подкупной
строгости правил. В самом семействе моем был случай, который довольно резко обрисовывает
одну из сторон этого замечательного в современной нашей истории характера. Брат мой,
служивший, как говорили тогда, на поселениях Аракчеева, имел неосторожность впасть в дело,
могшее иметь весьма важные последствия. За подачу рапорта баталионному командиру с
дерзкими будто выражениями он был арестован и предан военному суду. Все считали погибшим
моего брата. Батальонный командир имел связи и могущественное покровительство.
Правительство, напуганное сколько заграничными, столько и домашними событиями подобного
рода (это было в 1823 году)xxix[vii ], смотрело с крайнею неприязненностию и предубеждением на
происшествие этого свойства в гвардии и армии, и нельзя было ожидать какого-либо снисхождения
со стороны графа Аракчеева, считавшегося как бы воплощенным началом, руководившим тогда
действиями правительства. Несмотря на все это, материнское сердце, не знакомое с расчетами
политической, государственной необходимости, изыскивало все возможные средства к спасению
сына от неминуемой гибели. В числе средств, большею частию химерических, безрассудных,
слабых, народилась и надежда на заступничество и ходатайство довольно, впрочем, в то время
сильной графини A.A. Орловой, по некоторым отношениям покровительствовавшей нашему
семейству. Она обещала сделать все, что было в ее возможности, и сдержала свое слово. В
приезд, едва ли не последний, покойного Государя в Москву в августе 1824 года графиня Анна
Алексеевна давала огромный для него бал в своем доме за Москвой-рекою, ныне обращенном в
Александрийский дворецxxx[ix].
Улучив минуту возможности, графиня отозвала графа Алексея Андреевича в одну из дальних
комнат и там, передав ему коротко историю моего брата, умоляла его о пощаде. К большему
убеждению она сочла нужным тут же представить ему расстроенную сильно мать нашу, не
могшую, разумеется, сказать от слез, и этим чуть было не испортила всего дела. Граф, не
любитель, как видно, мелодраматических сцен, нахмурил более обыкновенного свои седые брови,
взял записку о деле и сухо отвечал как графине, так и матери, что «это дело не его, а военного
суда и будет рассмотрено в свое время и своим порядком». Надежд было мало. Прошло несколько
месяцев ожиданий, для матери весьма мучительных, и вдруг, к крайнему всех удивлению,
получается посредством почты на имя моей матери пакет за печатью штаба графа Аракчеева, в
котором заключал ось извещение о решении дела моего брата. Приговор военного суда о
разжаловании в солдаты без выслуги смягчен был графом в шестимесячное крепостное
заключение, и он спешил известить о том мать, помня как говорилось и бумаге, «ее ходатайство,
столь хорошо рекомендующее сына». Этот ответ жестокосердого и неумолимого временщика
хранится у матери моей в месте подле дедовского благословения, образов, с письмами сыновей.
Но простите за отступление. Обратимся к нашему рассказу.
Рассказ этот предпринят, могу уверить, мною не для того, чтобы втеснить в него, как нынче,
впрочем, принято, свою жалкую личность, а единственно, чтоб сохранить один замечательный,
если он справедлив, случай, относящийся некоторым образом к частной, домашней жизни графа
Аракчеева, если только люди этого разряда могут сходить в нее, забываться, так сказать, от
ежечасного повторения своей роли. Вот этот случай, рассказанный мне особою весьма почтенною
и заслуживающею доверия.
«Ты знаешь, – говорила мне эта особа, – что молодые лета мои я провел большею частию в
доме князя П.В. Лопухина, покровительствовавшего еще и отцу моему и заботившегося о моем
воспитании. Вероятно, известно тебе также как о важности мест, занимавшихся князем, о
могущественных его связях со всем, что называется у нас аристократиею, и милостивом к нему
всегда расположении двора. Князь Петр Владимирович, не имевший, конечно, как у вас нынче
говорится, всеобъемлющих способностей, имел много светского толку, такту и уживался со всеми








