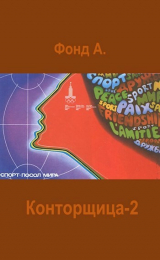
Текст книги "Конторщица-2 (СИ)"
Автор книги: А. Фонд
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 13
– Узнала-таки, – прищурилась Римма Марковна. – Далеко пойдешь, Лида.
– Зачем вы соврали мне, Римма Марковна? – мне стало неприятно, – Я же вам верила! Доверяла!
– Так, – по морщинистому лбу Риммы Марковны пролегли две глубокие вертикальные борозды. – Где именно я тебе соврала, Лида?
– Еще и цирк вчера устроили! С корвалолом! – я никак не могла успокоиться.
– Лида, следи за словами, – укоризненно покачала головой Римма Марковна, – Со старшими так разговаривать нельзя. Даже если они полностью не правы по твоему мнению. Есть такие понятия, как «воспитанный человек» и «уважение к старшим».
– Не вам о воспитанности говорить, – тихо обронила я, сквозь зубы. – И уважение вы больше не заслуживаете.
Мир рушился на глазах.
– Еще раз, Лида, – нахмурилась Римма Марковна, – ты сейчас меня обвиняешь в чем? Прошлый раз винила за Светочку. Но мы же вчера вроде решили, что она пока побудет эти двадцать дней здесь. Я сама с ней сидеть буду, тебе вообще ничего делать не надо. Она себя тихо ведет, не балуется. Не объест. Что не так?
– Не так всё! Вы попрали мое доверие. Соврали! Покусились на самое святое – соврали о ребенке, которого у вас никогда не было! – меня уже понесло. – Ложь! Сплошная ложь!
– А с чего ты взяла, что не было?
– А я у Симы Васильевны спросила! У нее связи везде есть, она у вас в медицинской карточке посмотрела, что вы никогда никого не рожали!
– Не рожала, – кивнула Римма Марковна.
И я окончательно поняла, что это всё, конец.
– Но Басечка у меня была, – продолжила Римма Марковна и добавила, укоризненно. – Эх, Лида, Лида, собирала ты на меняе досье, да недособирала. Так вот, знай: Басечка – дочь брата моего мужа. Моя племянница. Вот как тебе – Света. У него тогда все нехорошо закрутилось, времена такие… и муж мой тоже пострадал… в общем, остались только мы, я и Бася. А дальше ты знаешь…. Так что не имеет значения – рожала ты или нет. Вон Ольга Свету родила и что?
Я покраснела. Горели уши, щеки, лицо. Было стыдно. Очень стыдно. Так, что, казалось, я сейчас сгорю от стыда.
– Если тебе не сложно – потерпи нас, – безжалостно продолжила Римма Марковна, – я верну Свету Василию Павловичу и через двадцать дней уйду отсюда. Я не верю, что Светин отец настолько плохой человек. А я вернусь обратно в Дворище, в богадельню эту. Мне уже без разницы. И там люди живут. Да и сколько мне жить-то осталось.
Она вздохнула и продолжила:
– И, кстати, Лида, я же тебя не просила меня к себе оттуда забирать. А ты теперь попрекаешь. Если ты сама решила меня забрать, то я тебе кем теперь должна быть? Прислугой? Так я же и стараюсь: готовлю, убираю, стираю. Но то, что мне нельзя даже рот открыть – это уже предел всему.
Я молчала.
– Я ради ребенка тебя прошу, Лида, – давай эти двадцать дней без вот этого всего. – опять вздохнула Римма Марковна, – А потом поступай, как знаешь. Ради Светочки, подожди немножко. Слишком мало у нее в жизни было хорошего. Пусть хоть эти дни останутся светлым пятном в ее памяти…
От жгучего стыда мне хотелось провалиться сквозь землю.
В общем, Римма Марковна обиделась, а Светка осталась на две недели.
Да уж. Облом капитальный.
Если честно, я расстроилась. Из-за своего поведения.
В этот раз я ошиблась. Сильно ошиблась.
Моя ошибка в том, что я во всем пытаюсь оперировать мерками двадцать первого века, когда за любым чихом стоит только выгода. А в это время люди могли что-то делать просто так, по зову сердца. Или из чувства долга. И это было нормально. Даже не так: это было вполне обычной обыденностью. Подвигом не считалось.
Как же мы оскотинились в моем времени, что даже обычные человеческие поступки воспринимаем как меркантильную далеко идущую стратегию! И во всем видим только выгоду и двойное дно.
Стыдно… как же стыдно…
Конфликты дома, суета на работе не отменяли того, что сегодня я должна поступить (или не поступить) в институт.
Собеседование началось ровно в двенадцать.
В свежевыкрашенной аудитории пахло дрянной пудрой производства фабрики «Свобода», нафталином и знаниями. За длинным-длинным столом сидело пятеро: интеллигентные дамы разного, но неопределенного возраста, и плешивый мужчина с зачесанными кверху полужидкими прядями цыплячьих волос.
Чуть в стороне пристроилась знакомая ревнительница статистики из секретариата. На меня она взглянула вполне благосклонно.
Ну что ж, будем считать это вполне себе хорошим знаком.
Я устроилась напротив экзаменационной комиссии и приготовилась биться до последней капли крови или умереть, не опозорив профрепутацию депо «Монорельс».
– Ну-с, милочка, приступим, – изобразил улыбку плешивый, после того, как секретарь зачитала мое фамилиё-имя-отчество-и-все-остальное.
И мы приступили.
Первый вопрос задала винтажная дама в накинутом на плечи ажурном палантине, сколотом у горла огромной камеей:
– Аллитерация, ирония, эпитет – какое из этих средств выразительности не является лексическим?
Я ответила, пока вроде нетрудно.
Затем вторая, в бархатном платье с рюшевым кипенно-белым воротником предложила проанализировать выражение «солнце улыбается».
Я проанализировала. Дамы переглянулись, но вроде вполне благосклонно.
Пока все идет хорошо.
А потом, третья дама, во взбитом, как безе, парике и в перламутровых бусиках, спросила:
– А скажите, Горшкова, к какому функциональному стилю речи, на ваш взгляд, принадлежит этот текст? – она открыла толстую чуть потрепанную книгу и хорошо поставленным голосом выразительно зачитала: «…Настоящий политработник в армии – это тот человек, вокруг которого группируются люди, он доподлинно знает их настроения, нужды, надежды, мечты, он ведет их на самопожертвование, на подвиг…».
Кончики пальцев у меня онемели. Блин, надо как-то выкручиваться.
А дама тем временем читала дальше: «…Большинство наших политотдельцев, политруки, комсорги, агитаторы умели найти верный тон, пользовались авторитетом среди солдат, и важно было, что люди знали: в трудный момент тот, кто призывал их выстоять, будет рядом с ними, останется вместе с ними, пойдет с оружием в руках впереди них. Стало быть, главным нашим оружием было страстное партийное слово, подкрепленное делом – личным примером в бою…».
Что делать?
Что, мать вашу, делать?! Откуда я знаю, куда эта идеологическая писанина принадлежит?!
Дама закончила читать, аккуратно поместила ажурную закладку, вырезанную из новогодней открытки, между страниц, отложила книгу и, наконец, воззрилась на меня.
Повисла тишина. Где-то сзади, в оконное стекло с тихим истерическим жужжанием билась муха.
Нужно было что-то отвечать и быстро.
И я ответила так:
– Сложность данного текста в том, что семантика его неоднозначна. И делать какие-то определенные выводы крайне сложно.
Дама изумленно вскинула тонко выщипанную бровь, остальные нервно зашушукались.
– Поясню, – смело продолжила я (терять-то мне уже было нечего), – для иллюстрации моего тезиса давайте возьмем на пример… эмммм…. ну, хотя бы поэзию… или прозу, без разницы, того же Бальмонта. С одной стороны, бытует мнение, что его риторика семантически неприглядна, вот послушайте: "завес пурпурных трепет издавал как будто лепет, трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне...".
Я остановилась, вдохнула воздух и продолжила в притихшей аудитории:
– Другие же, и вполне небезосновательно, трактуют семантические границы его риторики как «превосходно», что наглядно показывает вот эта строка: "звук зурны звенит, звенит, звенит, звенит...".
– Но это же Леонид Ильич Брежнев! – назидательно и слегка нервно прервала меня дама, сердито потрясая книжкой, из которой вывалилась закладка и шлепнулась на пол.
Капец.
– Я знаю, – нагло соврала я и выкрутилась, – поэтому и позволила себе сравнение с текстами символистов Серебряного века. К сожалению, в наше время уровень писателей еще не достиг того мастерства, чтобы сравнивать их с произведениями самого Леонида Ильича!
(именно сейчас я, как никогда, ясно понимала, что чувствовал Ипполит Матвеевич, когда они с Остапом Бендером устроились на пароход художниками, и нужно было рисовать сеятеля).
Тем не менее высокая комиссия переглянулась и все глубокомысленно покивали головами, дескать, да, конечно, только с символистами Серебренного века и можно сравнивать, а с остальными – ни-ни.
– А скажите,… эммм… – другая, винтажная дама заглянула в мои бумаги, – здесь упоминается, что вы составили анкету профессионального выгорания работников?
– Именно так, – подтвердила я.
– А почему вы решили заняться этим вопросом?
Я оседлала моего любимого конька о том, как это важно, и понеслось.
– Спасибо, с этим понятно, – резко перебила меня дама в парике и вытащила из папки кучку вырезанных моих газетных заметок, – смотрю, вы ведете рубрику для женщин.
Я кивнула.
– Но это же писачество какое-то! – возмутилась она, недовольно позвякивая бусиками. – Низкопробная беллетристика, которая к филологии не имеет никакого отношения!
– Главное здесь не форма, а содержание, – ответила я и пояснила, – в этом случае Слово как раз и является инструментом воздействия на человека, а в моем случае – на женщин, чрез средства массовой информации. Слово – это мощное страстное оружие, как правильно написал Леонид Ильич!
Комиссия подзависла. С Брежневым спорить не хотел никто.
Пауза затягивалась, и лишь глупая муха продолжала настойчиво и тщетно биться в окно. Я ее прекрасно понимала.
– Замечательно, – кивнула винтажная дама, – эту студентку я забираю к себе, в моей научно-поисковой группе найдется место для темы, посвященной изучению профессионального выгорания рабочих.
– Но позвольте, … – возмутилась дама в рюшах, – анализ семантических критериев в текстах должен быть в приоритете для филологов, и в моей группе студентов еще есть одно место!
– А мне кажется, что ей нужно еще поготовиться, и мы рассмотрим ее кандидатуру на следующий год, – мстительно ввернула дама в парике, недовольно на меня зыркнув.
– Давайте не будем спорить, товарищи, – примиряюще похлопал в ладоши цыплячьеволосый мужчинка и все моментально примирились и умолкли, сверля друг друга взглядами. – Давайте послушаем, что скажет Лидя.. эммм.. Степановна?
– Мне интересны все эти направления, – изобразила я лучезарный восторг, проигнорировав даму в парике. – К сожалению, работа в депо «Монорельс» отнимает все мое время, кроме того, у меня еще и общественная деятельность, мы читаем под руководством Симы Васильевны лекции для работников, в том числе в домах престарелых. А также проводим другие благотворительные акции.
– Как вы сказали? – заинтересовалась ранее дремавшая сухонькая старушка, – Акции? Благотворительные? Прэлестно, прэлестно!
Блин, надо действительно следить за языком.
Секретарь торопливо подсунула мою папку председателю.
– Ааа, вы входите во Всероссийское общество охраны природы! Ясно, ясно, – пробормотал он, впрочем, без особого интереса.
– Но это не помешает исследовать семантику… – предприняла еще одну попытку дама в рюшиках.
– К сожалению, я взяла из детского дома ребенка, сиротку, и ей нужно уделять много времени, вы же понимаете, – сказала я с извиняющейся улыбкой.
Комиссия умилилась и поняла.
В общем, в институт меня приняли!
Во всяком случае, в списках я себя сразу нашла.
Глава 14
Противный металлический скрежет острым штырем жахнул по барабанным перепонкам, аж зубы заныли – сегодня в ремонтном цехе депо «Монорельс» готовили сразу несколько составов. Перепрыгнув через просыпанную белесую хрень, то ли соль, то ли известь какая, я вытянула шею, вглядываясь в воняющий запахами жженной резины и мазута полумрак: где-то там должен быть Иваныч, но заходить не хотелось – я сегодня сдуру надела белую блузку, совсем забыла, что подписи придется по всем цехам бегать собирать.
Поиски успехом не увенчались: Иваныч как сквозь землю провалился; поминая его недобрым словом, я мысленно сплюнула и вернулась в родную контору. Здесь пахло привычно – «Красной Москвой», слежавшимися бумагами и свежими сплетнями.
– Горшкова! Лидка! – меня догнал рыжий Севка, сегодня он был особо растрепан и лохмат.
– Чего тебе? – буркнула я, недобро.
– Говорят, ты в институт поступила? – хитро прищурился Севка и подмигнул, со значением. – С тебя причитается! Так что накрывай поляну! Будем в студенты тебя посвящать.
– Вот еще! – попыталась отмахнуться я.
– Да ты чё, Горшкова, совсем забурела, от коллектива отрываешься! – возмутился он, и хаотичная россыпь веснушек на его бледном лице стала еще ярче, – правду, значит, говорят – гордая стала, с начальством якшаешься, с Мунтяну вон задружилась. Зря ты так. Смотри, Лидка, допрыгаешься ты с этим Мунтяну, я тебе серьезно говорю…
Я не успела ответить, как на горизонте нарисовалась Машенька, мать ее, Мария Олеговна. Узрев наше милое пати с Севкой, Машенька помрачнела, нахмурилась и внезапно разразилась обличающей речью:
– Горшкова! Тебе заняться, смотрю, нечем! Ты отчет на четвертый цех уже подготовила?
– Нет еще, – ответила я, сдержанно (пока сдержанно).
– Так какого хрена ты тут прохлаждаешься? – начала наливаться краской Машенька.
– А что такое? – изумилась я, – Мария Олеговна, вам что, покомандовать больше некем? Попрятались от вас все?
– Да ты! – задохнулась от возмущения Машенька, – Я все Ивану Аркадьевичу расскажу! Ты еще пожалеешь!
– Это правильно, – покачала головой я. – Если регулярно не наушничать руководству, то иначе как карьеру строить, да, Мария Олеговна?
Машенька возмущенно фыркнула и ретировалась, гневно цокая каблучками.
– Зря ты с ней так, – упрекнул Севка, задумчиво глядя ей вслед, – Это тебе не Щука, эта рыбка всяко пожирнее будет.
– Ничего, перетопчемся, – беспечно отмахнулась я.
– Ой, зря ты так, ой, зря… – вздохнул Севка, – Смотри, Лидка, как нажалуется Аркадьевичу, мигом тебя с Олимпа на землю сбросят. Будешь опять от Щуки поджопники получать.
– Посмотрим, – задумчиво кивнула я.
Севка как в воду глядел.
Только-только я вернулась с ремонтного цеха, еще даже подписанные акты подшить не успела, как вбежала запыхавшаяся Аллочка:
– Тебя там… Иван Аркадьевич вызывает, – выдала она, и добавила. – Ругается.
Я педантично закончила подшивать акты.
– Да что ты копаешься?! – заволновалась Аллочка, – Он злой. Сильно злой.
Я пожала плечами и поместила папку на место, в шкаф.
– Что ты уже там натворила? – не унималась Аллочка, заглядывая мне в лицо.
– Не уважила Машеньку, – ответила я, и Аллочка нахмурилась. – Общалась без должного почтения, ну и так, по мелочи.
– Это она, да?
– Точно не знаю, но минут десять назад она прилюдно обещала, что я пожалею, – ответила я и вышла в коридор. В спину мне доносилось возмущенное сопение Аллочки.
Знакомый прокуренный кабинет… В воздухе напряжение аж потрескивает.
Иван Аркадьевич сидел хмурый, рядом примостилась Машенька. Глаза ее торжествующе сверкнули, с предвкушением.
Она с таким неприкрытым злорадством посмотрела на меня, что захотелось ее пнуть.
Так, Ира, возьми себя в руки!
Черт, впервые за эти дни я назвала себя не Лидой, а Ирой.
Надо будет это обдумать.
Но потом, всё потом…
Тем временем хозяин кабинета, чуть нахмурившись, сказал:
– Лидия Степановна, а почему вы стали так прохладно относиться к работе? Говорят, вы теперь себя на особом положении считаете, и работа для вас больше не в приоритете? Это правда?
– Грязные наветы завистников, – решительно отвергла злобные инсинуации я и, с кривоватой усмешкой поддала сарказма. – Нет более преданного работника в депо «Монорельс», чем Лидия Горшкова!
Лицо Ивана Аркадьевича передернулось, не любил он ехидства, ой, не любил.
– Мне казалось, вы давно уже в этом убедились, Иван Аркадьевич, – сказала я очень тихо, но он аж поперхнулся заготовленной речью. – И что доказывать мне ничего не надо. А если что-то в вашем отношении изменилось – то я обратно не просилась. Могу теперь пойти в школу работать, или в газету. Мне не принципиально.
Машенька тут же вспыхнула:
– Вот видите, Иван Аркадьевич, – обличительно воскликнула она, некрасиво тыкая в меня пальцем, – еще и паясничает.
– Лида, – устало поморщился хозяин кабинета, – что там у вас произошло?
– Долго рассказывать.
– А ты в двух словах, – вздохнул хозяин кабинета.
– Если в двух – то Мария Олеговна приревновала меня к Севке из ремонтного цеха, ну, рыжий такой, вечно растрепанный, – предположила я и для убедительности похлопала глазами.
Иван Аркадьевич приглушенно хрюкнул, а Машенька аж подпрыгнула от возмущения.
– Так, всё! – Иван Аркадьевич решительно остановил Машеньку, которая уже приготовилась излить свое возмущение. – Мария, свободна. Лидия, останься, есть разговор.
Машенька хотела что-то возразить, но бросив взгляд на Ивана Аркадьевича, торопливо ретировалась, негромко, но очень выразительно (с подтекстом) хлопнув дверью.
А мы остались наедине.
– Ну вот, зачем ты ее провоцируешь? – устало потер виски Иван Аркадьевич и укоризненно взглянул на меня.
– Она Аллочку сильно обижает, – пояснила я. – Незаслуженно причем.
Иван Аркадьевич вздохнул и покачал головой, мол, заколебали эти бабские разборки.
– Как продвигается работа по общему отделу? – задал вопрос он.
Я принялась детально рассказывать, Иван Аркадьевич внимательно слушал, изредка задавал уточняющие вопросы и вдруг вывалил в лоб:
– Ты ничего не хочешь рассказать, Лида?
Я хотела.
Очень детально, очень подробно я рассказала ему о странных безликих людях, о моем похищении, о деревенской резиденции, о запахе кофе и даже о шубертовской Ave Maria в исполнении Робертино Лоретти.
Ивана Аркадьевича особо заинтересовали синие папки с номерами 34 и 36.
– А что там за папки? – удивился он.
– Насколько я поняла, в них должны быть протоколы каких-то совещаний от декабря 1979 года, – пожав плечами, ответила я.
Иван Аркадьевич побледнел и быстренько отпустил меня работать.
И да, похоже первоначально спрашивал он меня о чем-то другом…
В этот рабочий день произошло еще одно, совсем незначительное на первый взгляд событие, которое послужило спусковым крючком ля всей последующей истории: в коридоре, у кабинета, меня дожидался Роман Мунтяну.
С папкой в руках.
– Лида! – сказал он.
–Я! – ответила я.
– Вот, – протянул он мне папку.
– Это что? – спросила я.
– Манифест, – прошептал он, оглядываясь. – Вычитай и напечатай в шести экземплярах. Срок – неделя.
Меня аж в пот бросило.
– А то Олимпиада уже скоро, – добавил он и ушел, не оглядываясь.
Я возвращалась с работы, уставшая, злая, как чёрт.
Возле подъезда сегодня дежурила баба Варя. Увидев меня, она как-то странно хмыкнула и вытянула цыплячью морщинистую шею в мою сторону.
Я поздоровалась:
– Лида! – всплеснула она руками, – Лида, стой, а ты знаешь…
Она заговорщицки потянулась ко мне, желая нечто эдакое рассказать, но тут вдруг дверь подъезда открылась и оттуда арктическим ледоколом выплыла Нора Георгиевна. По общей растрепанности, сбитым на сторону очкам и небрежно наброшенной мятой (!) кофте, было ясно, что ей сильно не по себе. Странно, но Лёли с ней не было (обычно в это время она ее выгуливала, и по педантичности этих прогулок можно было сверять часы).
– Лидия! – вместо приветствия пригвоздила меня к месту Нора Георгиевна. – Хочу заметить! И это притом, что лично к вам я претензий не имею! Но! Ваша эта соседка, Римма Марковна!
– Что Римма Марковна? – мои руки похолодели.
– Это просто безобразие, как она себя ведет! – возмущенным голосом сообщила Нора Георгиевна, дрожащими руками поправляя очки, – шумит, нарушает общественный порядок!
– В смысле нарушает?
– Представьте себе, она открывает окно и громко разучивает со Светланой стихи Бальмонта. А я же их терпеть не могу. Органически! И вы знаете это! И она знает! Ладно, я свое окно закрыла, хоть и жарко. Но и этого оказалось мало этой ужасной женщине! Понимаете, Лидия, ведь Светочка еще ребенок, она же еще не понимает! А теперь представьте только, вот сегодня все утро она играет во дворе, а когда я иду в химчистку – начинает мне декламировать Бальмонта! Потом я иду на рынок – и опять Светочка мне декламирует Бальмонта! Громко. На весь двор!
– Эммм… – пролепетала я, не зная, смеяться или плакать. – Извините.
– Но это еще не все, – продолжала жаловаться Нора Георгиевна, – сегодня Римма Марковна, прямо с утра, прошлась по всем соседям и получила их письменное согласие, что Света теперь будет заниматься музыкой по полтора часа в день и они претензий иметь не будут. Ну, все подписали. И я тоже подписала! Понимаете, я тоже! Музыка – это же хорошо. Моцарт, Вивальди… Так можете себе представить, Лида, мы же все думали, что будет фортепиано, или виолончель, ну, пусть даже скрипка. Но! Она купила Светлане барабан!
– Как барабан? –сдерживая рвущийся хохот, спросила я.
– Да, барабан! – ноздри Норы Георгиевны гневно раздулись. – И теперь каждый день, ровно с 13.30 до 15.00, когда у меня дневной сон, этот ребенок будет греметь в барабан. Сегодня уже гремел! Целых полтора часа подряд! Лидия, поймите, я же не могу так отдыхать, у меня нервы!
– Ох, – только и смогла сказать я.
– Но этого ей тоже мало! Мало! – всплеснула руками Нора Георгиевна. – Лёля, как оказалось, очень нервно реагирует на барабан. И вот все эти полтора часа, с 13.30 до 15.00, Светочка марширует по квартире, стучит в барабан и громко декламирует Бальмонта, а моя Лёля истошно воет. Целых полтора часа. Я думала, что сойду с ума!
– Нора Георгиевна… – осторожно начала я, пытаясь сформулировать подходящие извинения, но была решительно перебита возмущенной соседкой.
– А потом! Потом она подговорила Светочку, и та выкрасила всю Лёлю зеленкой! – глаза Норы Георгиевны налились слезами, – Мне теперь выгуливать ее перед соседями неудобно. Приходится ждать темноты. У Лёли истерика!
Всё! Капец!
Я решительно шагнула в подъезд. Ну, Римма Марковна, ну, погоди!








