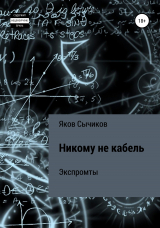
Текст книги "Никому не кабель"
Автор книги: Яков Сычиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Развенчание культа трезвости
В одной жилой комнате помирал человек, и, сам стыдясь, что помирает, укрылся с головой одеялом, дав волю лишь тихим стенаньям – а не воплям во всё горло о горькой своей участи, – и пусть скромно, а всё же высунул наружу хоть и слабую, но в любую секунду готовую урвать кусок жалости руку.
– Мать, помирать я собрался, слышь?! – жалобно не утерпел голос.
– Ишь, чё удумал! Помирать! Я тебе!.. – пригрозила мать дрожащей конечности. – Лапу протянул ишо, бесстыдник какой! Не изжалобишь – не надейси!..
– Да-а, кончусь! Будь покойна – не затяну… Ни на чуточку.
Ну вот, в общем, и всё. Больше мы к этому человеку возвращаться не станем; разве на поминках только сплясать пригласят, а так – какое дело нам до смертной этой серости? Был человек – нет человека… Тьфу! Одна радость – за него водки хряпнуть да баб пощипать. А остальное – пыль.
– Ась!
Нет-нет, уважаемая, я не к вам, – занимайтесь, пожалуйста, упокоенным.
С чего бы начать? А начну-ка я с сегодня. Мотался я по центру целый день, и видел такую штуку. Президент-то наш – молоток: правильно всё делает: штрафами их, блядей, надо, штрафами! А то ишь, разъездились, ити их в душу мать!
О чём это я? Да вот о том: троллейбусы с трамваями-то снова заходили по-человечески, как только цены на хамскую стоянку поднялись. А то, бывало, едешь себе преспокойненько, вокруг шум машин, рёв, а ты схватился за поручни и в троллейбусике сидишь. Вдруг – бац! – падла какая-нибудь раскорячится на дороге, – и стой, сынок, жди её выдру. Троллейбус-то далеко без проводов не объедет, – вот и стоишь, посвистываешь.
Порой до комедии доходило: бабки как начнут в транспорте панику наводить да к бунту подбивать – чудь, а не сказка!
– Машину, давайте перевернём! – кричат они. – Мужики-то?! Мужики-то есть?!
Один раз пошли уже переворачивать, как одна заводила орёт такая:
– Стойте, гниды, у неё на лобовом телефон есть, «для идиотов» – написано!
Стали звонить – прибегает, лицом – невинная овечка; скромная женщина, мать-одиночка и бизнес-вуман в одном лице. Старухи ей чуть шею не свернули. Та сумочкой их, сумочкой – и нырк в машину.
– Сука! – провожали мы все её дружно.
Вот так оно и было. А сейчас – нормалёк всё.
– Ась?!
Нет-нет, мать, к упокоенному! Ради Бога, к упокоенному! О смерти в моём рассказе не будет – я уже предупреждал. Вот! Забыл сказать, что и всевозможных бродяг мы отменяем с самого начало, – ну, а больше уж я ни за кого поручиться не могу: вдруг просочится нежданно в повесть мою печальный чей-нибудь образ, – как Дон Кихот в «Петрове и Васечкине». Так что с ограничениями пока ограничимся – посмотрим, что из них выйдет, – и перейдём уже к нашим малышам, к нашим тварям, ибо и дети – Божьи творения тоже, как и любая ныне живущая и ползущая по свету разнесчастная иль развесёлая гада. Итак!
А, впрочем, о каких таких детях, я рассказать хотел, как не о тех самых, что меня прямо касались. Вот к ним и приступим.
Что помню я из детства? Да вот, как с лучшим поссорился, например, другом. Так это было склизко, противно, запашище такой стоял – врагу не пожелаешь. В дворике гуляли мы; там во дворике была железяка такая, для лазанья стояла, ну вы знаете наверняка: четыре столбика, а на них – перекладины – круглые такие, чтоб можно было, подтянувшись, забраться и как в кишке глистом пролезть. Ну, вот в такую я и прыгнул лазейку, и, руками перехватывая, по железкам, значит, зашуровал, но только вот чувствую сразу – не то что-то, что-то не то явно. Спрыгиваю – ба! – рука-то в говне, понимаешь!
Сволочь какая-то говном всю лазейку измазала. И вот не знаю уж как мысль-то такая нашла на меня, – видать, механически чисто, ни как иначе не могло, чтоб злостно так подумать пришлось мне. Друг возьми да подвернись мне под руку в минуту ту, а я, значит, возьми да об куртку его рукою своей и проведи, вытер, то есть, – от души так, с размаху. Он – в слёзы, и на меня бросаться, а я – бегать от него да смеяться – нервозно так, вроде как в шутку перевести всё желая. Да какая там шутка, когда остервенение такое в глазах его и руки за хвост меня цап-цап норовят. На силу убежал. Так и не встретились никогда больше.
Вру. Опять вру. Встретились, но это не важно.
Был во дворе у нас Сафон – его боялись дети. Появлялся он всегда неожиданно, нелепо как-то и во всех отношениях неприлично: то из-под скамейки вылезет, то за деревом подстережёт, исподтишка набросится в конце концов, а дети что – а дети его боялись. На голове он носил круглый год модную по тем временам американскую шапку-бомжовку, и натягивал её на глаза так, что и сам не видел ничего из-под неё. Рукава его грязной засаленной ветровки с тремя полосками всегда болтались, как у обиженного Пьеро. В них он обычно прятал целлофановые пакеты, залитые под завязку клеем «Моментом». Этот доходяга Сафон, вероятно, думал, что это классная конспирация и так никто не видит, чем он постоянно занимается и от чего такой весёлый. После втягивания в лёгкие ядовитых паров, Сафон шлялся по улицам, приплясывая на одну кривую ногу, а то и на две сразу, и рукава его мотались тогда, как у растрёпанного Петрушки, а высунутый наружу изо рта зелёный язык, казалось, хотел извлечь из души лихие песни, но заплетался и завязывался. Глаза Сафона тогда вылезали из-под шапки и выражали как будто бы счастье, а как будто бы и нет. В общем, неизвестно было, что от него ожидать. Но заснувшего на лужайке Сафона дети уже не страшились, да и вообще не так он был опасен для них, как друг его – Тужик: двухметровый детина в такой же шапке-бомжовке круглый год и дутой синей куртке с металлическими кнопками.
Обычно всё происходило так: Сафон подходил к детишкам и ласково требовал у них деньжат, а Тужик стоял молча и придавал уверенности словам Сафона. Иногда, обнаглев, Сафон подходил и один («А то Тужика щас позову!») – и бил, если «Чё непонятно?!», под дых. Он инстинктивно чуял, что синяк на лице был бы явной уликой против него и выбирал для удара мягкие, пружинистые места.
А Тужик клея не нюхал – он любил выпускать газы и выковыривать «динозавров» из носа. В школе редко беспокоились по случаю его отсутствия…
Школа, школа! Ох, с детства ненавижу я всё это шкодство: детсады, диспансеры и всевозможные комнатки милиции…
Техника пения
Сначала я был один – совсем один. Я забился в свою комнату и только и делал, что пытался научиться петь. В школе меня не любили за то, что я всех презирал. Я терпеть не мог этих мелкособственнических паразитов, этих сельскохозяйственных клопов. Вечерами они ходили в колхоз пиздить помидоры с картошкой, а я забивался в свой угол дома. Правда, иногда и мне приходилось с ними идти, когда мать просила и дома жрать было нечего, но все равно я не был таким же. Я балдел от хулиганских песен Ивана Дудко и его манеры их исполнения. Я подражал ему: отрастил на макушке хвостик, одевался с ног до головы последним рваньем, а главное – все время и то и дело орал, – орал, как бог и как мог, – во всю глотку и на всю квартиру, соседи которой сходили за умных, помалкивая и только косились на меня при встречи.
Когда я пытался пропеть что-нибудь знакомое, получалось очень плохо, если не сказать хуже, и я стал искать радикальных методов, заставивших бы освободить то, что давно внутри меня жаждало выпуска и скреблось в душе. Я пытался голосом изобразить звуки пилы, электропилы, я лаял, как пес, и выл, как сука. Я выходил на балкон и имитировал пулеметные очереди: та-та-та-та-та!
Люди пугались, бросались прятаться, потом вылезали и грозили кулаком, – люди от моего ора забывали забрать детей из детского сада, забывали поужинать перед сном и побриться перед работой, надевали на ноги разные носки и ботинки; люди угрожали мне, но я не боялся. Но для себя все-таки я решил, что для пения мне понадобиться инструмент и слова.
Сестринский любовник пришел ко мне поутру в печали и с гитарой (и в тапочках) – и сыграл мне «Ди Пёрпл». Ушел он в тапочках и без гитары, а через три месяца я мог исполнять уже «Отель Калифорния» и несколько солдатских и дворовых песен, с которыми можно вписаться на халяву в любой кабак города.
Дело оставалось за словами. Я достал с полки сборник нашего местного поэта Анатоля Скукоженного, и стал постигать основы рифмоплетства. Усвоив, что рифма должна быть в конце строки через строчку, я написал:
Наварила мамка щи,
Нажравшись, я бегу дристать!
Отец, сильно не хлещи:
Тебе завтра воевать!
Так я обнаружил свою многоталанность, но потерял девушку – единственную идиотку, которая решилась завести отношения с таким долбаебом. Я встречал ее лаем, провожал кукареканьем; разрабатывая голосовые связки, специально несколько раз в день ходил в туалет блевать, издавая при этом такой рев, что соседи на толчках подпрыгивали и бились лбами в потолок, а потом бежали ко мне колотить в дверь. Я же только хохотал в ответ мефистофельским парадным смехом, но ее все это не смущало: с самого начала она знала, что я болен, но ей нравилось, как я дрался. Увидев один раз, как меня отпиздили на школьном дворике и как все разбежались, когда я передавил одному горло так, что кровь брызнула из его ебучей глотки, она заприметила меня и больше не покидала, даже если я ее гнал от себя.
А теперь вот я перестал с ней гулять так часто, и она сказала: либо я, либо твоя балалайка. И, конечно, ушла из моей жизни она, потому что пение я ни на что не променяю.
Потом прибавился Мишаня, он заявил желание, и мы сделали у меня в комнате маленькую студию: раздолбанный магнитофон с микрофоном для записи, пару гитар, годных разве что на дрова в походе, а главное его музыкальность и моя башка, издающая крики.
Как-то мы репетировали: Мишаня играл, я стучал по кастрюле и орал, – в комнату ворвалась сестра и завизжала, нацеливая на меня когти. Я вскочил, прикрываясь кастрюлей:
– Это тебе не любовникам юбку задирать, мы здесь искусство творим!
После этого я потерял два зуба, и к пению моему прибавился превосходный разбойничий посвист. Я был благодарен судьбе…
Поп Арсений
Важно гремел главный колокол – на обе Хомутовки слышно. И тонко позванивали ему остальные, не менее важные в колокольном деде колокольцы. Услышишь, бывало, такой колокольный перезвон с утра, сразу на душе как-то… Впрочем, это у кого как. У кого что наболело на душе, о том звон этот и поет. Кому в сердце самое, будто тонкую-тонкую иголочку вводит, да и не больно даже, а только грусть такая сладкая растекается по всему нутру, а тело и вовсе не чувствуешь. А кому – радость откроется, и сразу стыдно как-то, страшно, что и жалеешь уже, что счастья такого причастился, а тут и грех рядом…
У попа Арсения остов с рожденья крепкий вышел, и для такой оправы душа подходящая оказалась – только держи, того и гляди через край перельет. Вот и стала его матушка с младенчества к смирению приучать – богомолка была истовая. Никто ее веру не пошатнул, – так и муж ее из дома вылетел, только вздумал бунт на Бога чинить.
Мать сухожильная была, хоть и худая, и на душу не слабее Арсения, только душа-то ее иного свойства была – вся она, как комочек, сжималась и веру всю в себя вбирала; никому в пример ее на ставила. Редко, бывало, только на службе раскроется душа ее, как цветок, и на всю церкву верой тогда тянет.
Дело ей до других с их душами не было. Это Арсений вот иной вышел, в кого уж неизвестно, в себе он не держал ничего и сколько б не брал он, а все равно мало выходило, а вот отдать если все, тогда и хорошо душе, тогда-то и ладно жить.
Так держал Арсений во власти души своей, считай что, две деревни. Хомутовку 1-ю и Хомутовку 2-ю. Одна от дороги на город слева, другая – справа. А раньше-то давно и вовсе одна была деревня, потом, вот, разделилась. И так уважали Арсения в деревнях тех, и не за силу столько, сколько за доброту, что лишь завидят мужики на завалинке его, как в раз самогонку прячут. А теперь вовсе и пить бояться стали: стыд, бывает, мучает горше похмелья, когда поп Арсений завидит.
А когда без похмелья, так просто – по-хорошему сидят, то и прятать-то перестали. Ведь когда прилично все, то можно и Арсения угостить, он-то уж человек добрый, не обидит. Да и при нем не хмелеет никто, а сам он уж и подавно, щеки только забуреют – из румянца сделаются свекольными. А так – что пил, что не пил Арсений-поп, – все одно.
Но вот прошли времена великого смирения обоих омутовок, а для Арсения настало время великого искушения…
О Янкеле
Хоть и давно разваливаются кости мои и суставы скрипят, как у старой пушки колеса, еще осилил я бокальчик привезенного с Кавказа вина сорта Изабелла, а посему сердце мое размягчилось, мозг потек в известном направлении и вспомнил я и решил рассказать вам старую совсем, почти как я сам, историю. Жил когда-то, во времена дремучие и имперские, один не совсем обычный еврей. И звали его Янкель. Была у него одна странность, а, точнее сказать, одержимость: страстно он желал прослыть великим изобретателем, впрочем, сам-то он об этом не говорил, но люди, зная о его страсти, думали, что так оно все: непременно за славой гонится Янкель, известным, знаменитым и богатым норовит стать. Никто не думал, что может двигать человеком аскетическая жажда науки.
Вырос Янкель в обширной еврейской семье, где за обедом за одним столом собирались не только многочисленные братья и сестры, но и всевозможные безженушные дядьки, вдовые тетки, беспризорные двоюродные детки, несколько внучатых племянников подкидного свойства и общие от разных семей домашние животные. Все мяукали, жрали, чавкая, бросались в истерики и крайности, плакали и гоготали, паслись и спивались, но главным оставалось одно: никому и в голову не приходило думать, что все может быть иначе.
Бабка, умирая, говорила Янкелю: «Смотри, не растеряй семя семьи своей, только блудные и непутевые ищут одиноких дорог, мы евреи, выбираем дороги пошире, и идем по ним огромной многоротной семьей, поем песни и сыпим цимбалами гуттаперчевый перезвон по округе, и вскоре завоевываем народ властвующий». Так и сказала бабка Янкелю, – и, двинув копытом, отбросила вниз челюсть и померла. Янкель все понял и заснул, а потом проснулся и передумал еще раз все. И решил дело по-своему: наоборот.
Увидел, что великую беду испытывают гои от человеческой этой необходимости: спать вместе, от которой то и дело дерзают вылезти на свет божий новые рты. А что для крестьянина значит новый роток, этого объяснять никому не надо, хотя для этого давно и надолго придумал народ пословицы, вроде: в большой семье клювом не щелкают. Или: скоту приплод, а семье недород; или: сыпь семя в темя, не нужон еще Емеля. Впрочем, слышал я их все давно, могу и наврать, но смысл тот же.
Кто-то, конечно, лил семя на растянутый дряблый бабий живот, уподобляясь неугодному богу Онану, кто-то ходил к ведьмам – сам нарождающийся плод в темя вязальной булавкой колоть, а кто и просто от зверости своей раскачивал готового ребенка и головой о косяк бил, или топил в пруду, как щенка. Но все это молва народная разносила по городам и весям, и люди приличные давно порицали все эти методы и изобличали их в своих дотошных до чужого горя рассказовых произведениях. Но сами творители дел сих рассказов этих не читали и продолжали зверствовать: пить, баб бить да совокупляться с ними как по большим праздникам, так и по малым, да и вовсе без наличия оных на календаре, что в доме старосты всегда висел, – на краю сел, деревень и становищ всея Руси.
Русский человек бережно относился к деянию рук своих: либо он клал жизнь свою на чашу весов, отдавая все силы без остатка в рост детей своих, на вскормление их тратя время жизни своей, либо так же решительно расправлялся с собственным детищем, беря на душу грех детоубийства. Еврей или цыган же рожал посредством женщины все, что могло бы только вылупиться, выгнездиться и вылезти из животины женской на свет Саваофов, разрывая криком молчание равнодушного к комку слизи неба. Еврей или цыган пускал семя, как пшено, по ветру, зная точно, что дни жатвы настанут, и возвестят о том еще, и вострубят о том еще серые кардиналы и ангелы в кружевных дамских подвязках с эротическими медными завитыми тромбонами в розовых пухлых пальчиках. Фантастический розовый блеск румянцев их, белые, как куриные яйца, зубы, и золотые кудри на рождественских открытках славян говорили о многом им, вечным странникам сорокавековой затяжной пустыни.
Поэтому и решил Янкель изобрести первый в истории человечества контрацептив; много дней и ночей проводил он над этим занятием, наматывая кудри волос своих на пальцы, вцепившиеся в крайнюю плоть головы, будто жажда вырвать из подкорки мозга месиво разноцветных идей. Руки его обычно в этом положении протирали локти на рубахе, упершиеся в стол, а ноги под столом отбивали чечетку изобретательского невроза; на столе под трепетным светом свечи сохли от чернил свежие чертежи чудодейственных схем и безумные формулы голодного Янкельского ума.
В такие часы домашние животные вползали в покой Янкеля и гадко тяфкали и мяукали, будто специально; будто презирая его за вздорность, заходили чинно дядья, стреляя денег на опохмелку или курево; жена залетала со сковородкой с шипящей на ней яичницей с клецками; дети малым воробьиным скопищем влетали в клетку и набрасывались клевать его и цапать за полы лакейского его сюртука, как черти, и гадко и истошно смеяться с призвуком перемалывающихся на зубах рыбьих косточек.
Думая, каким должен быть семязадерживатель (рабочее название прожекта), начал Янкель свои опыты с изделий из кожи; сшивал он из говяжьих обрезков разных размеров чехольчики, потом подзывал местного дурачка с женским именем Аксютка, который за пирожок или за баранку испытывал аппарат на козах, овцах и даже, бывало, на курах. Аксютке все сходило с рук, поскольку дурак он, и взять с него нечего, а вот перед домом Янкеля люди проходящие крестились и плевались и, как от нечистой силы, отворачивались, да и сами родные Янкеля вертели возле виска пальцем на нелепые занятия родственничка. Сам Янкель сносил все с истинным стоицизмом и неуклонно записывал в худую замызганную тетрадь результаты опытов, исходя из которых вносил поправки в проектирование спасительного средства для гоев.
Изделия из кожи потерпели фиаско, нужно было что-то эластичнее; это понял Янкель, когда смотрел, как дети стреляют из рогатки, нужно было что-то тянущееся и не рвущееся. Впрочем, он понял это и без рогатки, исходя из того, что уд имел свойство меняться в размерах. И кожаный чехольчик при эрекции превращался лишь в колпачок и слетал при жаркой работе. Выбор пал на внутренние органы животных. Как падальщик, Янкель шастал то возле скотобойни, то возле кладбища, – рва посередине поля, откуда за километр ветром разносило запах тухлятины, – и вырезал себе мочевые пузыри и кишки.
Особенно хорошо шла двенадцатиперстная кишка и другой материал из тонкого кишечника. Но и мочевой пузырь не уступал в податливости при натяжении. Янкель так обрадовался, понаделав кучу экземпляров, что не стал испытывать на дурачке Аксютке, а сразу втюхал свой продукт нескольким местным крестьянам. Первым пришел бить морду Янкелю кузнец Рубило, его чехлы полопались при надевании, а один наделся, но слетел во время соития и застрял в нутре жены, откуда вынимать его привили бабку повитуху, и ей еще пришлось отдать горстку медных грошей.
…
Экстремисткая ночь
– А-а-а! Сука, блядь!! – кричал молодой повешенный, снятый чудом с того света. Петля еще моталась на шее, как не своя. Он вышел из подъезда в тёмную дождливую ночь и кричал, рычал и выл. – Ай, бля! Ай, бля! А-а-а! Р-р-р!! – визги и рыки сотрясали воздух и воду, давились соплями и всхлипами. Девушка бегала из стороны в сторону, повизгивала.
Другой грубый голос кричал: – Не тронь, ебаный рот! – Ноги его переплетались, как коса в траве, и синюшное лицо маячило несуществующим пятном на глазу, как галлюцинация, или соринка.
Мимо пробежал трезвый молодой человек; ему некогда было обращать внимание на безумцев, он куда-то, видимо, очень сильно спешил, даже на лица не взглянул ни разу, так – плюнул в сторону, попав повешенному на санный ботинок, и скрылся. В темноту ночи под завесу дождя. Был таков.
Отгрохотав и отстреляв молниями, небо теперь поливало спокойно и размеренно, не торопясь. Ноги то и дело вязли в грязи, ныряли в лужи, – человек бежал. Вдали по-прежнему маячили три красных огонька, зазывали, манили и ждали. Добравшись до моста, он взбежал по лестнице, и пошёл шагом, чтобы отдышаться: на той стороне стояло нужное здание.
«Говоря: «Так вот в каком городе ты живёшь!» – они имеют в виду тех, кто расположился в уютных пентхаусах по берегам реки и каждое утро, просыпаясь, глядят на воду, пьют кофе и проклинают всё живое», – подумал он мельком, осматриваясь в темноте. Проезжающие машина обливали его с ног до головы; из одной по пояс высунулась пьяная блядь и завизжала что-то матом, – больше от радости, чем от горя, – махая руками кому-то. Может и ему – единственному пешеходу.
Подойдя к будке сторожа, он достал сигареты, и они, мокрые, развалились прямо в руке, все, кроме одной. С одного боку только подмокла. Закурил. Сторож, который очень обиделся на то, что назвали его сторожем, возмущённо плюнул, крякнул, но пошёл выполнять свою работу. Потому что она есть она – работа. Скоро он вернулся и повел человека за собой. Этот человек был ночной курьер.
В холле было светло, тепло и как-то заманчиво-приглашающе. Лифт опускался настолько бесшумно, что человек так долго нажимал и тыкал кнопку, что даже охранники начали поглядывать: а не затеял ли чего этот броский юноша, не хочет ли он подкинуть им работёнки. Впрочем, и они обижались, когда их именовали охранниками и предпочитали носить имя сотрудников безопасности здания и гаража, в то время как сторож по-тутошнему именовался сотрудником круглосуточной разведки объекта.
В лифте на каждом этаже при остановке – а останавливался он на каждом, будто какой-то негодник потехи ради, спускаясь вниз, понажимал, зараза, все кнопки – некое автоматическое устройство включало цветомузыку.
«Дурацкая китайская мелодия» – подумал, ухмыльнувшись своей догадке, курьер.
– А вот и наш дорогой курьер! – первое, что услышал он, когда двери распахнулись на последнем этаже и в поле зрения появился взъерошенный нервный человек, который, рассекая воздух и нарезая прямые линии быстрым хождением туда-сюда, успокаивал себя. При этом руки он держал строго за спиной, как заключённый, а туловище наклонял в направлении движения. Очки были даже треснуты чуть-чуть в уголке оправы. Видимо, от служебного напряжения.
«Этот, наверное, не спал больше суток», – посетила вновь догадка человека пришлого.
– Ну, вот и хорошо, что вернулись, – начал тутошний человек, бросаясь навстречу и протягивая обе руки сразу.
«Как будто я здесь уже был», – подумал курьер.
– Ну так вот… и сразу бы… – запинаясь, объяснялся взъерошенный.
– Ах да, конечно, – письмо! Держите, вот, кажется, даже не намочил ничуть. Наличие можете проверить при мне.
– Да Господи, какое наличие! Письмо?! Причём здесь?!.. А впрочем, я начинаю понимать… – тут он особенно противно улыбнулся во весь рот, расплылся, как говорится, в пахабной улыбке. – Вы, в общем, садись…А да!.. А нет… Вот да, вот ваша комната на ночь – здесь и переночуете, вот ваш кров, так сказать… В общем, однозначно разберётесь без меня. Простите, очень спешу. Отдыхайте. – Отбарабанив он захлопнул дверь за собой, и быстрые нервные шаги застукали уже за стенкой – побежали прочь и скоро стихли.
Курьер, опомнившись, оглядел комнату, которую ему предоставили на ближайшее время в личное пользование, – сел на кровать и размял лицо руками. Оно было мокрое и грязное, как и руки.
«Странно, – снова подумал ночной курьер, – хоть умыться пригласил бы для начала, а то сразу вот ваша комната… Да и какая может быть, к чёртовой матери, комната, кода у меня ещё рабочая ночь не кончилась и три халтуры висят?!»
Он потрогал наплечную сумку, проверив таким образом её на сохранность доверенных ему хозяином вещей, и прошёлся по комнате. В углу он обнаружил внутреннюю дверь, а за ней – уборную с раковиной для умываний и даже подмываний.
«Очень уместненько, даже превосходно, – подумал он. – Вот и замечательно, в самый раз!»
Снял отяжелевшие сапоги, обстучал о притолоку – комья грязи осыпались наполовину, оставшаяся – продолжала утяжелять его лёгкую прежде, беговую обувь.
«В сапогах нестись очень удобно; напрасно многие считают, что нет, – напрасно».
Это снова его мысли, к сожалению нельзя параллельно моему взвешенному комментарию вести полную перепись его мыслей, поскольку многое интересное пропадает безвозмездно. К сожалению.








