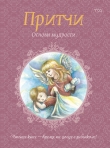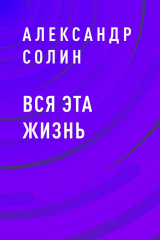
Текст книги "Вся эта жизнь"
Автор книги: Солин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Вместо предисловия
Что задумался, мой добрый придирчивый читатель? Пристраиваешь остро наточенный глаз к незащищенному горлу моей фантазии? Рассчитываешь с одного взгляда решить, стоит ли терять со мной время? Надеешься с двух слов угадать, что я такое? С убийственной усмешкой подыскиваешь фразу-гильотину?
Будет тебе, дорогой друг, не усердствуй. Литература, какого бы качества она ни была, всего лишь игра в покер писателя с читателем. Стоит ли так неистово предаваться игре, где ты постоянно в проигрыше уже оттого, что дал себя в нее втянуть?
Однако прежде чем ты решишь, пристроишь, подыщешь, прежде чем примешь или отвергнешь, позволь задать тебе глупый вопрос – для чего ты играешь, то бишь, читаешь?
Может, оттого вникает в строчки пристальный твой взор, что ты не теряешь надежды обрести способность, которая не дана тебе с рождения? Тогда я тебя понимаю.
Или пытливая твоя натура, влекомая силой погибельного притяжения, тщится уловить между строк некую темную праматерию смысла? Тогда я тебе сочувствую.
Или наивно полагаешь, что смешеньем слов возможно открытье совершить? Тогда я с тобой: будем обманываться вместе.
А может, желаешь достичь вершины, чтобы одним махом сбросить оттуда всех идолов? Тогда возьми и меня – вдвоем это делать веселее.
Возможно, твои предпочтения не идут дальше неловких фэнтэзийных упражнений, где подавляющее число авторов, не мудрствуя лукаво, населяет механический мир диковинных сущностей земными пружинами, но тогда ты похож на впечатлительного ребенка, способного увлечься багровыми шрамами и черной повязкой неопрятного пирата.
Возможно, тебя влекут детективные перипетии расчетливого лабиринта, что начинается бутафорским трупом и кончается поцелуем и жидким стулом, но тогда в тебе подспудно живет неосуществленная детская мечта стать ловким, мужественным и неуязвимым.
Вполне возможно, что спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь вместе с чужим мелодраматическим счастьем, тебе нравится обнаруживать себя в финале среди растроганной толпы родственников и друзей новобрачных, и тогда ты похож на ребенка, подглядывающего через щелочку спальной на взрослую жизнь.
Возможно, твое имя – скандал, ты несдержан, похотлив и нетребователен, тебе нравится психоделический стеб, и тогда тебе попросту недостает острых ощущений, и ты читаешь, чтобы разнообразить их арсенал.
Но скорее всего, ты – благоразумный обыватель, и тебе нравятся поучительные житейские истории, веками не меняющие свои нехитрые рецепты.
И это правильно: не следует требовать от чтения больше, чем оно может дать своей способностью неотвратимого и добровольного погружения в иллюзию. Никому еще неумеренное чтение не осчастливило судьбу, зато испортило ее многим.
Все это было бы также очевидно, как и старо, если бы не порушенные новым временем шлюзы, по которым несметные нынешние сочинения, словно бродячие баржи, несутся от писателя к читателю, минуя покореженные затворы художественного отбора, отчего большая их часть лишена эстетического чувства, как искусственная роза запаха. Дело зашло так далеко, что искушенный читатель, наткнувшись в их завалах на это самое эстетическое чувство, своим радостным изумлением напоминает гражданина, который пришел в баню помыться и приятно удивлен тем, что там есть горячая вода.
Стало правилом выставлять сочинение на всеобщее обозрение голым, косноязычным и дурно пахнущим, чего сам автор по отношению к своей персоне никогда бы не позволил, но не стесняется наделять этим продукт своей сублимации. При этом образность мышления усилиями «творцов» заменяется мутным потоком их сиюминутного сознания, ошалевшего от собственной вседоступности. Не мудрено, что такие творения тут же становятся бомжами, сделав перед этим свое грязное дело – добавив тусовочной гнильцы в общую атмосферу и в твой вкус.
Можно, конечно, укрыться от современной пошлости в верных объятиях классики, но классика, как бы хороша она ни была, страдает годами, провалами памяти и чопорностью, хотя одна владеет тайнами тонкого вкуса и хороших манер.
Литература нынче не есть привилегия бытия, она – молот, вбивающий клин отпущенного на свободу любопытства в глыбу жизни, с целью отколоть от нее наиболее лакомые куски. Только как бы ни был на первый взгляд убедителен их вкус, он не позволит большинству тех, кто его смакует взрастить внутри себя древо искусства. Причина – скудость современной художественной почвы, условием питательности и плодородия которой является понимание того, что если в нашей жизни мы продавливаем диван, то в литературе – диван продавливает нас. Или выражаясь словами В.Набокова: «Литература – это выдумка. Вымысел есть вымысел. Назвать рассказ правдивым значит оскорбить и искусство, и правду».
Именно этого не хотят замечать многочисленные нынешние авторы, кряхтящие под грузом так называемой жизненной правды. Разумеется, жанр фэнтэзи при этом положения не спасает, а лишь усугубляет.
Однако каким бы опустошительным ни был нынешний процесс, изгнавший из современной прозы эстетику образа и заменивший ее тухлой словесной жвачкой, ему не отменить фундаментального значения метафоры, являющейся не каким-то там бантиком на скучной ткани повествования, а фактом универсального подобия и единства мира, бликом единого источника света, помещенного в центр мироздания. Метафора есть та метаодежда, в которую одет наш мир – мир, где неподвижный лед подобен тишине, а лунный свет состоит в двоюродном родстве с солнечным, как привидение – с живым человеком. Подметить это ускользающее подобие мира и судеб – вот суть художественного метода. И если художественный метод кому-то не дается, не стоит насмехаться над ним, как лиса над виноградом.
А потому вот тебе совет, мой добрый неизвестный читатель: остановись, тряхни головой, сбрось с себя тот сброд корявых фантомов, тот блеф, который под видом современной литературы навязывают тебе бойкие борзописцы подножного быта. Выйди на улицу, где заморские облака-посредники, ссылаясь на тесное знакомство с солнцем, набивают цену на свое контрабандное молоко, где режиссер-ветер, прижав к горизонту кордебалет облаков, расчищает место для светлой примы-луны. Вдохни полной грудью все запахи вселенной, оглядись вокруг и помести в себя этот мир, который без твоего чувства – ничто. Пересекая метеоритные потоки улиц и перекидывая мосты между галактиками островов, доберись до звездного скопления площадей и проложи там свою орбиту среди таких же планет, как ты сам, не отклоняя возможности попасть в поле притяжения другой планеты, если ваши орбиты совпадут.
А когда вернешься, начни читать то, что ты заслуживаешь – некое сочинение, где чрезвычайным и полномочным послом животворящей истины живет метафора, где слова-щупальцы подбираются к сущности вещей, оставляя впечатление удивительной и необъяснимой связи явлений, где из союза хрупких слов и твоего настроения рождается дивная дрожь соавторства.
Могу так говорить, потому что никому ничего не должен – ни издателям, ни писателям, а только тебе одному, мой добрый доверчивый друг.
Забытое завтра
Утро началось, как в сказке – с огня сбежала каша. Не успел я открыть глаза, как кипучие мысли мои переполнили котелок и устремились туда, откуда я вчера вечером с большим трудом их отодрал.
Ходы и лазейки, по которым наши мысли имеют обыкновение шнырять, похожи на гибкие пищеводы, облицованные умственной мускулатурой и слизистой логики, под чьим глотательным влиянием они, глупые, циркулируют, завиваясь в многозначительные переплеты и цепляясь к чему-то не хуже осьминога, пока не устанут или не найдут запасного выхода. А еще они – птицы, порхающие с ветки на ветку в поисках червей сомнения, непоседливые цыгане, кочующие пестрым табором из чистого уважения к гордыне, а также дисбактериоз мозга, периодически усаживающий нас на роденовский стульчак.
Один мой начитанный друг открыл мне, что мы с ним, явившись на свет, какое-то время видели мир вверх тормашками, пока на противоположном конце не возник мыльный пузырь мыслей и не перевернул нас. И что когда мы бессмысленно таращились на мир, это и было, мол, наше первозданное, божье состояние – та пора, когда мир еще не мыслим, и перевертыш дьявольского перевоплощения не обуял его. Выходит, поначалу мы – вроде безмятежных поплавков, которые баюкает тихая заводь, пока рыба-мысль намертво не заглотит наживку любопытства и не пойдет таскать нас по реке жизни, не разбирая глубины и дороги.
Мой сон – моя крепость, если бы вчера вечером не позвонила моя бывшая и не объявила, что в понедельник утром их с Алешкой вызывают в наркоконтроль. На все вопросы отвечала сбивчиво, а мне велела быть вместо нее по указанному ниже адресу.
«Он что, употребляет?..» – спросил я прямым текстом, сам испугавшись своих слов.
«Нет, но его могут подставить. А это, сам понимаешь, еще хуже».
Понимаю. Еще бы не понимать. Время нынче такое – время подстав.
Пятнадцать лет назад мы познакомились с ней на свадьбе моего друга, и через некоторое время сами поженились. Есть у нас в стране такой широко распространенный способ остепениться. Только он оказался не про меня.
Я помню ее отца: худой, пожилой человек с издерганным лицом – учитель. Вот по его стопам она и пошла. Русский язык, литература. И тут мы с ней не сошлись. Для нее любовь – высокая поэзия, для меня – дерзкая частушка, то есть, мы заведомо не совпадали ни размером, ни слогом. Она постель сочиняла, как поэму, я же был готов заниматься ЭТИМ, где придется. Ничего удивительного, что через шесть лет она застукала меня с ее подругой среди бела дня, после чего голую подругу выставили за дверь сразу же, а мне дали полчаса и, показав на прощание серое застывшее лицо, отправили к разэтакой матери, с которой я и прожил следующие пять лет, пока не обзавелся скромным жильем.
С тех пор вот уже четыре года я сам себе народ. По моему усмотрению выбираю и назначаю себе правительство. Оно поселяется у меня, и некоторое время меня обслуживает, пока я не решаю его сменить. И мне плевать, кто там у нас наверху рулит. И нет на свете человека, чьи несчастья казались бы мне меньше моих.
Хотите знать, чем я занимаюсь? У старого друга на подхвате. Командую поставками. Какая разница, какими! Хватит с вас – я и так много сказал. Добавлю только, что волка ноги кормят, а человека – поставки. И кормят так, что одну зарплату моей бывшей жене платит родина, а две другие – я. Надеюсь, теперь вам понятно, куда девался сон, и откуда взялись мысли.
Первыми увидели солнце высокие трубы и крыши. Малиновая, незахватанная красота с несказанной приветливостью пролилась на город. Свет – милосердный поводырь наш, наш радостный гид, извлекающий из тьмы нашу разлинованную жизнь! Ты румянишь тонкую кожу красавиц и грустишь, оскверненный, на расплывшейся стерне старух. Не твоих ли это углов следы на моем потрепанном прошлом?
С моей бывшей мы, худо-бедно, поладили. Злобных побуждений с ее стороны я не наблюдал, и сына она от меня не прятала. Ну и я, само собой, когда был свободен, чем мог, помогал. О ее личной жизни мне ничего неизвестно, кроме того, что она не замужем. Предпринимал ли я попытки вернуться? Нет. Ведь жизнь – бесплатный театральный абонемент: когда едешь в автобусе, все хорошенькие девочки идут по улице. Когда идешь по улице – они едут в автобусе. Ну, как тут не взалкать, как не амурничать! Ах, мой неисправимо похотливый мир, ты – мой кумир!
И потом, куда мне возвращаться? В свое время для меня там развесили фонарики с теплым нежным светом – я их оборвал. Мой путь усыпали лепестками первого чувства – я их растоптал. Мне доверили на сохранение лучшие годы – правильно: я их промотал. И к кому мне после этого проситься? Когда светофор превращает зеленую ягоду в желтую, а желтую в красную – это нормально. И запустить процесс распада вспять ему тоже по силам. В жизни же это заканчивается красно-желто-зеленым отвращением…
Но сына я вам в обиду не дам. Разнесу к чертовой матери весь ваш наркоконтроль, но вы его не получите! Вот только оденусь, попью чайку – и не получите.
«Ах, Леха, Леха!.. – думал я, шагая через мост. – Вот ты и дорос до государственного к тебе интереса. Я в твои четырнадцать о таком и не мечтал…»
Вчера была Пасха. Река – небо, небо – река. Облака по голубому, словно льдины. Льдины по синему, как облака. Радуйтесь, блики ликования, распевайте акафисты, аллилуйствуете! Христос добирался до нас восемьсот лет, а мы сейчас к нему за четыре с половиной часа, после чего жалуемся, что благополучно добрались…
К половине одиннадцатого я был на месте. Пришел пораньше, как договорились, чтобы заранее обсудить с сыном ситуацию.
– Ну, пойдем на улицу, – обнял я его, уводя от казенного аскетизма. – Рассказывай, что почем и как дело было.
Достал сигарету и закурил. Сын поморщился.
– Что, неужели не куришь? – поддел я его.
– Не дождешься.
И это мне знакомо. Сигарета – первый знак мужского значения. Для многих часто и последний. Может, курит, да не хочет расстраивать?
– Как мама?
– Похудела.
– Не мама похудела – платье поправилось! – нравоучительно сообщил я. – А чего похудела?
– Не знаю.
– Ну, значит, весна. Я тоже, брат, похудел, – предъявил я лопающийся пояс брюк. – Ладно, давай рассказывай.
Выяснилось, что сын поперек отца и божьего духа влез в историю с тремя неизвестными. Были два его одноклассника, которым Ванька Сомов, шустрый молодой человек четырнадцати лет из их же класса, предлагал таблетки. Какие и зачем – все, само собой разумеется, знали. Какие же еще таблетки могут предлагать в школе? Это, знаете ли, и первокласснику известно. Так вот, они сообщили об этом Лехе, а тот, в свою очередь, поделился с классной. А та, не будь дура, доложила директору. А тот, не будь дурак, накатал заяву в этот самый наркоконтроль. Когда стали разбираться, то те двое, кому это предлагалось, от всего отбоярились, и оказался мой сын рыжим и честным, а таких, как известно, правосудие любит пользовать и сзади, и спереди. Кроме того, взбеленилась успешная, горластая мамашка Ваньки Сомова, грозя затаскать нас по судам за поруганную честь своего недоноска. Ну, не суки ли?
Телефон в кармане попросился наружу по нужде.
– Вы уже встретились? – спросила нас мать моего сына.
– Все в порядке, не волнуйся.
– Он тебе все рассказал?
– Да, во всех подробностях.
– Ну, и что ты думаешь?
– Вот дырку они от бублика получат, а не Шарапова! – от все души пообещал я и показал телефону руками, как это будет делаться.
– Хорошо, спасибо, – культурно поблагодарила жена. – Побудь с ним потом, если сможешь.
– Обязательно смогу, не волнуйся.
И мы двинулись на допрос. Сунулись было в кабинет, но там было занято, и нас попросили подождать. Пока ждали, я косился на сына, украдкой разглядывая его упрямый профиль. Весь в мать. Моего ничего не проглядывает. Может, и хорошо. Бог даст, не будет кобелизмом мучаться. Как быстро и бурно он меняется! Грядущее возмужание гонит с лица остатки ребячества, последние следы сказки пасуют перед застывшей наготове усмешкой. Прыщики на щеках у носа, черная пушистая полоска над губой. Дорогой ты мой, куда же ты так спешишь!
Я вдруг вспомнил его маленького, радостно-косноязычного, одолеваемого непослушными словами.
"Очень больно болит!" – жаловался он мне, показывая на сбитую коленку.
"Мы его сделали, мы его стукнули 400 раз!" – хвастался он, победив мальчишку со своего двора.
"У меня так температуры много!.." – говорил он мне по телефону, болея гриппом.
"Сегодня холодно градусов!" – заглядывал он в зимнее окно.
"Этот шум мне даже в ухо попадает!" – рассказывал он про ремонт в соседней квартире.
"Почему ты так долго проснулся?" – спросил он как-то раз, дозвонившись до меня, развратного, в середине дня.
Однажды летом я его спросил:
"Какую ягоду ты ел на даче?"
"Не знаю…" – поник сын.
"Ну, какую? Ну, черную смо…"
"Смалину!" – подхватил он…
Я вспомнил, как мне его вручили на выходе из роддома – белый конверт с неведомым посланием внутри. Жена откинула накидку, и мне предстал мой сын – серьезный, спящий, слепой, в истинно первозданном, божьем виде. Моя надежда, мой завтрашний день.
«Боже мой! Да у него через десяток лет свой такой же будет!» – поразился вдруг я.
Мы не замечаем, как стареем, потому что внутри мы все те же.
Дверь нужной комнаты открылась, оттуда выпала такая же пара, как мы с сыном. Скользнув по нам взглядом, которым их снабдили в кабинете, парочка направилась на выход.
– Ванька Сомов с отцом… – сообщил сын, понизив голос.
Через пять минут вызвали нас. Познакомились, и дознаватель в штатском сказал:
– Ну, все в порядке. Парень во всем сознался. Только, говорит, аспирин предлагал, а не то что вы, мол, думаете! Так что, закрываем мы это заявление, а Сомова берем на заметку. Ну, а тебе, Алексей, спасибо, что не побоялся сказать. Пугали, наверное? Нет? Скажи честно!
– Никто меня не пугал, – пробурчал сын.
– Ну, и ладно, не говори. А кончишь школу – приходи к нам. Работы всем хватит.
– Я после школы на юридический пойду, – сообщил вдруг сын.
– Вот это дело! – одобрил хозяин кабинета. – Тогда после института прямо к нам! Идет?
– Посмотрим… – первый раз улыбнулся сын.
Распрощавшись так мило, что мне даже не пришлось поиграть мускулатурой, мы с очевидным облегчением покинули настороженное недоверчивое учреждение.
– Ну что, зайдем чайку попьем? Есть время? – поинтересовался я.
– Есть, – ответил немногословный сын.
Мы поднялись на второй этаж дорогого, еще пустого ресторана, вошли в зал и образовали композицию: в центре сюжета – наше интервью с администратором, на втором плане – столики, круглый спор официантов, глубже – балконная дверь, за ней – линялый ситец небес.
Сговорились на два чая с лимоном и кусок торта.
– Да, Леха, история весьма и весьма поучительная. Хорошо то, что хорошо кончается. А ведь могли подставить по полной программе, – развалившись на диване, приступил я к отцовским комментариям. – Ведь сколько раз я тебя учил: «Ничего не бойся, но ухо держи востро!» Говорил? Говорил! А ты что?
– Я видел вчера ваши фотографии со свадьбы. Пап, почему вы с мамой разошлись? – неожиданно спросил сын.
– Потому что я плохой, а твоя мама хорошая, – не задумываясь, ответил я.
– Это не ответ.
«Прокурором будет…» – подумал я, глядя в его строгие глаза.
– Так бывает в жизни, сынок, – устало ответил я, – так бывает…
– Это не ответ!
– Это ответ. Считай, что я во всем виноват.
– Нет, пап, это, все-таки, не ответ. Ты же знаешь, что она тебя ждет.
– Кто ждет?! Кого?!
– Мама. Тебя.
– Леха, ну что ты, ей-богу!.. – поперхнулся я, почуяв, что мой похотливый мир в большой опасности. – Не можем мы уже с мамой жить вместе! Как ты этого не понимаешь!
– Почему? Ты ее больше не любишь?
– Леша, сынок, ну что ты такое говоришь!.. Конечно, люблю! И тебя люблю, и маму, ты же знаешь!
– Тогда приходи к нам жить. Хотя бы на неделю! Придешь?
«Нет, ну точно, прокурором будет…» – подумал я, поникнув головой.
…Снова мост, снова река.
Кит-теплоход, что блудным островом, белой кувшинкой, звонкой скорлупой, пленной сиреной, умной щепкой плывет наперекор течениям – для кого и зачем твое усердие? Тут одно из двух: либо встать на вечный прикол, либо распустить паруса. Либо сидеть на диете, либо на горшке. Вот такая здесь диагональ диагноза. Все прочее – всего лишь отклонение слова «сын» от его первоначального значения, этакая лихорадочная аберрация смысла под тяжестью и жаром улик.
А что вы на меня так смотрите? Вы лучше посмотрите на меня, когда я спешу по улице – разве я не похож на вас, разве я не такой же, как все?
День грозы
Предсказанная накануне, она соизволила пропустить утро и о своем появлении объявила лишь спустя два часа после полудня. Поначалу ее порицательный, несдержанный бас рокотал где-то за семью дверями, оглашая далекие горизонты тридевятого царства, но по мере того, как двери одна за другой открывались, ее угрозы звучали все ближе и отчетливее. Тучи подбирались исподволь, прячась за сияющими лицами облаков, сдирая по пути синеву, могучим прессом сгущая атмосферу и наполняя ее искристой дерзостью. Полные мрачной решимости, они вырастали вширь, сталкивая за горизонт, как за обочину белые возы облаков. За минуту до штурма притих в запоздалом испуге потный лентяй-воздух. Тяжелые редкие капли предъявили ультиматум сухой горячей земле, и вот уже первые вороненые шпаги дождя пошли полосовать ее тело. С ослепительным треском лопались небеса, заряжая воздух молодым электрическим задором, и пустые гулкие бочки покатились по яростному небу, громыхая и подпрыгивая на спинах туч.
Едва Столетов успел влететь под козырек автобусной остановки, куда последние метров сто уже бежал, смешно выбрасывая отвыкшие от подобной резвости ноги, как вчерашний прогноз подтвердился самым свирепым образом: впереди него, стерев шоссе, стеной встал ливень – отвесный, шумный, злой. Струи дождя, похожие на стальные стержни, вонзались в асфальт, и в том месте, где они вонзались, вскипали и лопались волдыри. Смешавшись с пылью, они грязными брызгами обдали Столетова до колен и загнали в глубину, оставив там восхищаться первобытным буйством стихии.
О том, что приблизительно так все и будет, Столетов догадался еще час назад, когда с мальчишеским озорством взобрался на шиферную крышу своей дачи и глянул окрест. Деревья зеленой зоны присели, шевеля трепещущей роскошью шевелюр, и поверх их голов обнаружился угрюмый, налитый фиолетовой неприязнью горизонт. Тут и пришла ему мысль воспользоваться подступающей грозой с непременным отключением электричества, чтобы прервать сельский отпуск и побывать в городе, где он уже неделю не был. Он позвонил и предупредил жену, вымыл и составил в шкаф посуду, убрал в холодильник продукты, проверил свет и форточки, взял зонтик, махнул на прощание соседу и отбыл налегке в сторону большой дороги. К этому времени тьма под куполом неба уже сгустилась до предпотопной. На ближних подступах сверкало и гремело, низкие птицы будоражили густой воздух, и многорукий разведчик-ветер метался от дерева к дереву, рывком задирая их одежду и обыскивая их. Столетов, было, заколебался, но вспомнив, что следующий автобус только через час, колебания отбросил и со всех ног припустился к остановке. Вот так он и оказался под ее лихо заломленным временем козырьком, и как только оказался, тут все и началось, потому что гроза – не человек и привычек своих никогда не меняет.
Замечательное действо, напоминающее расправу и исцеление одновременно, мог он теперь наблюдать, одинокий запыхавшийся зритель. Живительная обильная влага доставлялась на землю с каким-то болезненно-хлестким остервенением и вводилась в нее с пузырями и пеной на губах. Лечение вершилось с самым мрачным видом и монотонной мощью, под перекаты небесных басов и фотовспышки молний. Ливень принес с собой прохладу и запах пресной воды. Столетов прикрыл глаза и несколько раз глубоко втянул носом воздух, торопясь привязать беглый запах к чему-то ужасно знакомому и незаслуженно забытому. Ранние смутные воспоминания колыхнулись в глубине заболоченных вод памяти, но на поверхность не всплыли. Столетов попробовал еще и еще раз, но запах притупился и потерял живительную силу. Однако и смутного колыхания оказалось достаточно, чтобы смягчить его душу.
Через неровное возвышение, на котором располагалась остановка, хлынула с дороги под откос вода, и ему пришлось перейти в другой конец. Едва он там уместился, как с другого ее края под козырек метнулась сгорбленная фигурка под зонтом. По-птичьи взъерошенная, в мокрых выше колен джинсах и с небольшой спортивной сумкой, она забилась вглубь, сложила зонтик и обратилась в девушку. Стоя в воде и виновато улыбаясь, она быстро взглянула под ноги Столетову, желая и не решаясь потеснить его – там, где он находился, можно было мечтать лишь о тесном соседстве на двоих.
– Идите, идите, места хватит! – заторопился Столетов, поймав ее взгляд.
Девушка, продолжая виновато улыбаться, подошла, встала боком к изо всех сил потеснившемуся Столетову и принялась стесненной рукой взбивать сначала на затылке, а затем возле ушей прическу коротко стриженых волос, смущенно бормоча: «Фу, какой ливень! Какой ужасный ливень! Я вся промокла!»
Уже когда она направлялась к нему, он успел разглядеть ее достаточно, чтобы всполошиться и подтянуться. Росту она была на полголовы ниже него, с милым добрым лицом, выраженной талией и соблазнительными бедрами. Может, слегка не дотянула до нормы и портила пропорции длина ног, но, без сомнения, каблуки в нужный момент были способны исправить этот недостаток. Только все это было вторичным: дождь лупил по козырьку, девушка согнутой рукой вскидывала волосы, а Столетов не мог оторвать скошенных глаз от волнующей игры ее груди.
В то лето женская грудь рвалась наружу. Носились узкие эластичные маечки с обширным вырезом, где и помещалась эта выдающаяся часть женского тела, открыто демонстрируя порой до трех четвертей своего объема. Оказалось вдруг, что грудь есть у многих женщин. Правда, носили они ее все по-разному: одни – как награду, другие – как украшение, третьи – пугливо сложив плечи и согнувшись, будто ждали окрика. И еще оказалось, что в отличие от других сезонов летнее разглядывание встречных женщин начинается с груди и начинать лучше издалека, потому что о качестве груди, а, стало быть, претензиях ее носительницы точнее всего судить во время ходьбы. Тут важна, во-первых, амплитуда колыханий, из которой можно вывести представление о начинке: едва сдерживаемое ли это бретельками ораторское красноречие или суетливый тренькающий говорок, воплощение плоских истин или скованное молчание околпаченных пленниц. Во-вторых, важно понять, следует ли грудь за строгим маршем каблуков, и если да, то тогда перед нами приструненная, залифтованная часть целого. Если же она волнуется сама по себе, ведет собственную, голосистую, свободную от тесемок и оков мелодию, то тогда мы имеем дело с грудью, живущей в пятом измерении, таким же загадочным и непонятным, как и четыре других.
Разумеется, маленькие хитрости женской компании не миновали внимания Столетова, который воспринимал их игру на обнажение скорее с усмешкой, чем с вожделением, забавляясь их милыми очевидными страхами выйти за рамки приличий и обнажить лишнее, ибо, что ни говорите, а женщина, публично обнажившая грудь, лишается тайны и окончательно теряет невинность.
Но это если смотреть абстрактно. Чисто же конкретно перед его взором в сей момент цвели два невыразимо свежих бутона, два прекрасных создания, берущие силу от ключиц, как от чистых ключей и ниспадающие золотисто-кремовым водопадом в бежевую пропасть эластичной маечки. Два расчетливо драпированные оазиса, две уложенные в треугольные колыбельки полупланеты, обладающие особого рода формой и притяжением, не поддающимся вычислению ни по каким формулам.
Над ними раскололось небо, и в образовавшуюся трещину покатились трескучие шары. Девушка вжала голову, невольно подалась к Столетову и сдавлено ойкнула.
Столетов важно расправил плечи и сказал:
– Ого! Где-то рядом пробило!
И завел руки за спину. Девушка испуганно ему улыбнулась.
– Электричество! – снисходительно пояснил Столетов.
У нее по две тесемочки на загорелых округлых плечах: от маечки – мягкая, снисходительная, от лифчика – врезалась в нежную кожу под грузом отягчающих обстоятельств. Столетов почти физически ощутил их налитую упругую тяжесть. Девушка шевельнулась, маечка отстала от тела, и Столетов скользнул взглядом сверху вниз туда, где сливочной белизной расцвела потайная часть.
«Классная грудь! – вздохнул Столетов. – Есть еще, оказывается, красота на белом свете…»
Шоссе оживилось, мимо них один за другим проследовали несколько автомобилей.
– В город? – поинтересовался он.
– Да, я сюда к подруге приезжала, жила здесь два дня, – охотно поделилась девушка.
– Ну, и как?
– Хорошо!
– Да, у нас здесь хорошо! – откликнулся Столетов. И, скосив глаза на ее грудь, добавил: – Особенно, когда гроза…
Гроза меж тем слабела, перебрасывала силы на другой фронт. Арьергард ее, в меру бестолковый, как и все тылы, отстал от основных сил, образовав разрывы, и заоблачная жизнь голубыми глазами глядела оттуда на тонущую землю. С тыловых повозок капало, капли сверкали на лету, и казалось, что обоз теряет на ходу бриллианты.
Вода сошла, и стало возможным отодвинуться друг от друга. Оба это понимали, однако положение не меняли. Наверное, чтобы не обидеть один другого, а может, из предусмотрительности – вдруг, ливень припустит с новой силой. Так и стояли, смущенные странно возникшей близостью, дающей право на короткие реплики, которыми два незнакомых человека никогда не посмели бы обменяться при обычных обстоятельствах.
Наконец подплыл автобус. Открылась передняя дверь, и Столетов пропустил девушку, держа над ней зонт. «Спасибо…» – улыбнулась она. В салоне были свободные двухместные сидения. Девушка, не глядя на спутника, опустилась на одно из них и подвинулась вплотную к окну, оставив справа от себя красноречивое пространство для Столетова. Тот стоял в нерешительности, и тогда девушка повернула к нему лицо и молча улыбнулась. Столетов замешкался и, не разобрав природы улыбки – то ли приглашение, то ли прощание – смущенно в ответ улыбнулся и на всякий случай прошел дальше. Усевшись, он обнаружил у себя приподнятое настроение и нежелающую сходить с лица улыбку. Чтобы унять смущение, он повернул голову к окну и принялся глядеть сквозь струи воды туда, где на горизонте расправляли плечи белые бастионы облаков. Мысли его были заняты незнакомкой. Ему вдруг стало казаться, что не приняв приглашение, он ее обидел или, в лучшем случае, разочаровал. Ему захотелось подойти и объясниться. Сказать, что он не посмел воспользоваться ее вынужденной вежливостью, что навязываться к красивым девушкам не в его правилах и что редкий случай с ароматом озона не дает ему никакого права на ее ответную доброту. Но он тут же подумал, как глупо будет выглядеть, если молодая (лет двадцать пять, не более) девушка скажет ему, сорокалетнему, что ее улыбка – всего лишь благодарность за его галантность и ничего сверх того не подразумевала. И тогда он, чуть подавшись вбок, с грустной улыбкой стал поглядывать туда, где вырисовывались плечи и голова незнакомки. Девушка с четырьмя тесемочками на загорелых округлых плечах, одиноко покачиваясь вместе с автобусом, смотрела в окно, и от ключиц ее, как от чистых ключей в бежевую пропасть эластичной маечки низвергался, распадаясь надвое, золотисто-кремовый водопад.
Когда автобус прибыл на конечную, Столетов сделал так, чтобы оказаться позади нее и добродушно сказать: