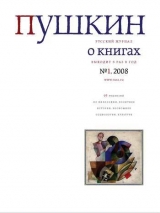
Текст книги "Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008"
Автор книги: Русский Журнал
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
ИСТОРИЯ
Работа подлинного историка
Игорь Дубровский

Солонин М. С. 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война. М.: Эксмо, Яуза, 2005. 512 с.

Солонин М. С. На мирно спящих аэродромах…: 22 июня 1941 года. М.: Эксмо, Яуза, 2006. 576 с.

Солонин М. С. 23 июня: «День М». М.: Эксмо, Яуза, 2007. 512 с.
Сколько историков в нашей стране? Если судить по количеству диссертаций и других «научных работ» или по числу сотрудников институтов исторического профиля в системе Академии наук, а также количеству исторических факультетов и кафедр вузов, историков у нас легион. Они живут тихими сообществами и почти не дают о себе знать. Чем все-таки они заняты? Над чем, так сказать, работают?
Дело ученого – открывать новое. Врач лечит больных. Космонавт летает в космос. Дворник подметает улицу. Ученый делает открытия. Никто не говорит, что это просто, но это его работа. Наука и ученые в нашей культуре существуют, чтобы вносить в жизнь новые идеи, помогающие лучше видеть и понимать мир. Так думают об ученых врачи и писатели, инженеры и футболисты. Высказать эту мысль в обществе историков значит нарваться на скандал. На вопрос о том, что нового сделано, открыто, описано в нашей историографии, к примеру, за последние десять или двадцать лет, они недоумевают, раздражаются и в огорчении отходят от тебя как от человека, ничего не понимающего в их жизни и занятиях. Господствующая сегодня среди наших историков идеология профессионализма ждет своих исследователей. Один мой знакомый член-корреспондент на просьбу назвать плоды трудов возглавляемого им научного отдела отвечает афоризмом Монтеня: «„Я сегодня ничего не совершил». – Как? А разве ты не жил? Просто жить – не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел». Аргумент сделанного дела, таким образом, подменяется парадоксальным аргументом личной идентичности.[23]23
Об этой метаморфозе см.: Копосов Н. Е. Эпистемология доверия, или Девиантная совокупность // Одиссей – 2007. M., 2007, с. 466–489.
[Закрыть]
Выпускнику Куйбышевского авиационного института простительно этого не знать. Инженер из Самары Марк Солонин принадлежит к числу тех, кто честно недоумевает, где у нас историки и если они где-то есть, то чем они занимаются. Выражения «профессиональные историки» и «историческая наука» он ставит в кавычках не потому, что считает работу с историческими свидетельствами пустым и ненужным делом, а потому, что не видит вокруг себя настоящей работы, и у меня не повернется язык сказать, что он не прав.
Книги Солонина о поражениях Красной Армии в первые дни и недели Великой Отечественной войны стали для меня одним из самых запоминающихся книжных открытий последнего времени. Трагедию лета 1941 года с советских пор окружает плотная завеса лжи. Засекреченные поражения 1941 года в каком-то смысле, конечно, секрет полишинеля. Благодаря внимательному чтению юношеского журнала «Техника – молодежи», много лет подряд публиковавшего статьи по истории военной техники, со школьной скамьи я знал или догадывался, что наши танки «устаревших моделей», на самом деле, были новее и лучше немецких. Нигде не называвшееся число советских танков накануне войны по ряду косвенных данных я вычислил для себя, также будучи школьником, и как сейчас выясняется, вычислил довольно точно. Такие «тайны» могут существовать разве что в приказном порядке. Потому сокрытие документов о начале войны в форме засекреченных архивов МО и других ведомств дополнялось в Советском Союзе фактическим запретом на исследования, а историки, посмевшие нарушить этот запрет, подвергались гонениям. Такие исследования по сути приравнивались к антисоветской деятельности и имели соответствующие последствия. Не совсем понятно, почему писателям позволялось больше, чем историкам. В этой логике запретов вообще много неясного. Главные идеи советского мифа об июне 1941 года были сформулированы Сталиным. Эти идеи о катастрофических последствиях внезапного нападения, численном и техническом превосходстве противника, героическом отпоре Красной Армии в начале войны были призваны обелить военно-политическое руководство, спасали его авторитет, без которого была бы невозможна победа. Но зачем было скрывать правду о разгроме 1941 года потом? И было ли это следствием какого-то решения или просто инерцией? Правда ли то, что советские руководители во времена Хрущева или Брежнева «боялись» обнародовать какие-то данные или они просто не хотели «волновать народ» подобно тому, как в Советском Союзе старались не сообщать об авариях и катастрофах? Я напомню для сравнения, сколь поздно и неполно советские граждане были проинформированы об аварии на Чернобыльской АС. Что переменилось с тех пор? В начале 1990-х было опубликовано немало ценных сведений и документов, но сами архивы не распахнули свои двери. В лучшем случае важные архивные фонды остаются в пользовании проверенных «ведомственных» историков МО. Самое важное открытие, которое сделает для себя читатель Солонина, состоит в том, что проблема находится в другом месте. Проблема не в архивах и не в документах, а в людях, которые могут и хотят с ними работать. Марк Солонин показывает пример работы историка. Он не рыщет в поисках сногсшибательных документов, а демонстрирует возможности, которые открывает внимательное прочтение известных и опубликованных сведений. Закрытые или малодоступные архивы – конечно, беда. Но не такая страшная, как можно подумать.
ТРАГЕДИЮ ЛЕТА 1941 ГОДА С СОВЕТСКИХ ПОР ОКРУЖАЕТ ПЛОТНАЯ ЗАВЕСА ЛЖИ
Мне бы хотелось показать на нескольких примерах, как работает Солонин. Что мы знаем о действиях советских механизированных корпусов, составлявших летом 1941 года главную ударную силу Красной Армии? Если судить о боеспособности частей по количеству и качеству боевой техники, таких мощных танковых группировок в нашей стране больше не было до конца войны. Один из парадоксальных мифов сталинского времени гласил, что «история отпустила нам слишком мало времени» для того, чтобы подготовиться к войне. Солонин резонно замечает, что это определение скорее приложимо к гитлеровской Германии. Разработка и производство современной боевой техники там начались всего за несколько лет до мировой войны. Гражданская война в Испании с очевидностью показала полное превосходство всех видов советской техники над немецкой. Уже к началу Великой Отечественной войны по техническим характеристикам многих видов вооружений Германия догнала и опередила Советский Союз. В действительности, время работало против нас. Отчасти Сталина и его генералов подвела гигантомания, сам размах военных приготовлений. Гигантские танковые соединения РККА летом 1941 года находились в процессе формирования, что явно снижало их боеспособность. Вопрос в том, куда они пропали, едва начались военные действия? Куда пропали 20 механизированных корпусов с 13 тысячами танков, брошенные в бой в первые две-три недели войны?
Наш читатель что-то слышал о «контрударах механизированных корпусов», пытавшихся остановить лавину гитлеровского наступления, но здесь интересны подробности. Подробности обескураживают. Боевой путь огромного танкового соединения, называвшегося у нас механизированным корпусом, мог начаться и закончиться одной нестройной атакой. Потом корпус вдруг начинает отступать и через три дня, бросив технику, расходится по лесам. Марк Солонин с документами в руках показывает, что большинство частей и соединений механизированных корпусов вообще не принимало участия ни в каких боях, а просто растаяло в ходе «передислокаций». Танки ломаются, техника выходит из строя. Советские танки от немецких в этом смысле ничем не отличаются. Но немецкие части почему-то не бросают дорогостоящую военную технику, а стремятся вернуть ее в строй. Из сухих сводок потерь Солонин вытаскивает красноречивые цифры. Так, в 10-й танковой дивизии 15-го механизированного корпуса, одной из лучших в Красной Армии, из 318 исправных танков к исходу дня 26 июня в строю осталось 39. Согласно отчету, подписанному командиром корпуса, за это время в боях было подбито 53 машины. Иными словами, три четверти танковых потерь дивизии – это танки, потерянные в буквальном смысле слова, брошенные как ненужный хлам и помеха в «передислокации». Эту ситуацию автор считает типичной для других танковых частей РККА. Далее, потери танков Солонин предлагает сравнить с потерями автомобилей. Три четверти автомобилей той же 10-й танковой дивизии, оказывается, были целы и исправны еще месяц спустя. В отличие от танков, для грузовичков всегда находились и горючее, и запчасти. Всего до конца 1941 года, согласно опубликованным данным, Красная Армия потеряла 73% танков и лишь 33% автомашин. Что может сломаться в миномете, если миномет – это просто труба? Но наши потери минометов за тот период почему-то составили 61%. Объяснить эту кричащую диспропорцию потерь, по мнению Марка Солонина, можно только назначением военной техники. Танки, пушки, минометы нужны воюющей армии, А автомобиль при отступлении позволяет оторваться от врага.
Другая тема и пример исследовательской работы Солонина – война в воздухе. Один из устойчивых мифов касается эффективности действия авиации против наземных войск. На этот счет у летчиков существуют нормативы, установленные в ходе полигонных испытаний, В распоряжении Солонина есть документы полигонных испытаний, удостоверяющие, к примеру, что для уничтожения одного немецкого легкого танка требуется дюжина самолетовылетов штурмовика Ил-2. В условиях реального боя, то есть под огнем противника, реальная отдача штурмовой и бомбардировочной авиации снижается еще значительнее. В наши дни существуют управляемые бомбы и ракеты, резко повышающие огневую мощь авиации, но в годы Второй мировой войны для уничтожения цели требовалось огромное число самолетовылетов и истраченных боеприпасов. Рассмотрение Солониным боевых возможностей нашей и немецкой авиации убеждает в том, что летом 1941 года она не могла решать задачу разгрома частей и соединений противника. Массированные налеты советских бомбардировщиков, которые немцы сравнивали с Верденом, тем не менее, ни на один день не задержали движения немецких моторизованных колон, и так же мало немецкие летчики могли помешать атакам механизированных корпусов Красной Армии. То, что ни своя, ни вражеская авиация с такой эффективностью действовать просто не в состоянии, порой не понимало даже высшее советское военное командование. Здесь автор проницательно указывает на парадоксальную роль, которую сыграла довоенная пропаганда. Довоенные книги и фильмы внушили представления о чудодейственной силе бомбового удара. Вывод о неудачах нашей авиации в начале войны во многом основывался на неадекватном понимании ее боевых возможностей.

Н. А. Шифрин. Москва строится. Публикуется впервые
Распространенный тезис гласит, что с начала войны немцы сумели захватить «господство в воздухе». Само это понятие автор называет весьма сомнительным, мало что говорящим по существу. Настоящего «господства в воздухе» почти всю войну не было ни у одной из сторон. Более того, за всю войну только в один из месяцев 1941 года немцам удалось сравняться с нашей авиацией по количеству самолетовылетов. По этому важному показателю советские ВВС всегда лидировали. Единственной внятной информацией о катастрофических последствиях внезапного нападения немцев в советской историографии было утверждение об «уничтожении в первый день войны 1200 самолетов, в том числе 800 на земле». Даже если допустить, что это правда, авиация Красной Армии должна была сохранить существенное численное превосходство над противником (мы умышленно не приводим здесь некоторых арифметических данных, которые присутствуют в книгах Солонина, предоставляя читателю возможность самостоятельно последовать за расчетами автора, чтобы согласиться с ними или их опровергнуть). Впрочем, сама эта цифра внушает сомнения. Она была названа не сразу. Марк Солонин сумел дать ей истолкование. Дело в том, что едва ли не все самолеты, которые считаются потерянными на земле в результате немецких бомбардировок в первый день войны, относятся только к трем авиационным дивизиям Западного фронта, дислоцированным в районе Белостокского выступа. Потери других авиационных частей, понесенные 22 июня 1941 года, не так велики. Остается понять, что стало с этими тремя дивизиями. Солонин выясняет, что эти части погибли вследствие «перебазирования», больше походившего на массовое дезертирство. Летчики, получавшие задание штурмовать передний край, летели в другую сторону и сажали свои самолеты на тыловых аэродромах. Командиры авиационных полков и дивизий пытались придать процессу элементы организованности и смысла. Он получает название «выведение из-под удара». «Выведенные из-под удара» самолеты оказываются в глубоком тылу, а армии, сражающиеся на границе, – безо всякого авиационного прикрытия. Это «перебазирование» практически заключалось в том, что летчики садились в самолеты и улетали. Без инженеров и техников на новом аэродроме спасенные от врага боевые машины, естественно, больше не могли подняться в воздух. Развал и гибель трех авиационных дивизий Белостокского выступа в ходе «перебазирования» были затем списаны на действия вражеской авиации.
Разумеется, я могу привести лишь некоторые примеры цепкой наблюдательности автора. Из них вырастают впечатляющие картины разгрома частей и соединений Красной Армии летом 1941 года. Начиная с речи Сталина к «братьям и сестрам» советская пропаганда стремилась представить поражения Красной Армии как некое трагическое стечение обстоятельств, не ставящее под сомнение мощь Советского государства. Главным стал тезис о «внезапном нападении» врага. Можно согласиться с Солониным в том, что все эти аргументы шиты белыми нитками. В первые часы или даже в первый день или два боев не то что разгромить, но даже нанести Красной Армии ощутимый урон было за гранью технических возможностей вермахта. О том, что Красная Армия была разгромлена 22 июня, не заявлял даже Геббельс. Катастрофа случилась в следующие дни и недели, когда о начале войны уже знали оленеводы Чукотки.
Дальше все не так здорово. В полемике с хрупкими мифами советской идеологии автор заражается ее философией истории. По этой логике у каждого события есть отделимое основание в виде его причины. Тем самым событие перестает быть событием, а становится действием чего-то или кого-то, какой-то причины. Мы говорим себе: «Красная Армия была разбита на границе, потому что Гитлер напал слишком неожиданно». Потом спохватываемся и говорим: «Да, нет. Конечно, не в этом дело. Так сказать нельзя, потому что это ничего как следует не объясняет. У поражения Красной Армии, наверное, были другие причины. Ну, например, то-то и то-то». И так до бесконечности. Идеалом такого рассуждения является открытие неких причин, а еще лучше – систематического повторения одних и тех же причин в разных ситуациях. Это страшно удобно, поскольку освобождает от необходимости вникать в каждую жизненную ситуацию отдельно. Нечего говорить, как это отвечает желанному идеалу научности и помогает переживать себя подлинным ученым. Речь, повторяю, идет не о том, что мы хотим сказать, а о самой системе рассуждения. Объявление коммунизма исторической девиацией утверждает от обратного мысль о существовании магистрального пути развития общества. По выражению Ницше, такая история остается замаскированной теологией.
НЕМЕЦКИЕ И СОВЕТСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ, КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЛИ РАЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ РУКОВОДИТЬ БОЕМ
Марк Солонин изначально видит свою задачу в том, чтобы заменить плохое объяснение причин лучшим. Это другое объяснение зеркально повторяет тезисы, кажущиеся автору ошибочными или лживыми. Солонин проводит мысль, что настоящей причиной разгрома лета 1941 года был глубокий внутренний конфликт, поразивший государство рабочих и крестьян. По мнению автора, безудержные репрессии, коллективизация и другие формы советского руководства привели к молчаливому разобщению общества и государства накануне войны. Первая книга Марка Солонина называлась «Бочка и обручи». Такое сравнение он находит для советской власти, которая, по его мнению, была только насилием над собственным народом или выродилась в простое насилие. Потому летом 1941 года хватило несколько решительных ударов врага, чтобы Красная Армия стала неумолимо разваливаться, как бочка, с которой сбили обручи. Памятуя жизнь при Сталине, рабочие и колхозники не захотели ее защищать. Доказательством этой мысли Солонин считает огромный массив данных о сотрудничестве с врагом в плену и на оккупированных территориях. Из 1941 года читатель вдруг переносится в 1942, 1943, 1944 год. То, что в годы войны на одного партизана приходилось десяток полицаев и власовцев, – это факт, как факт и то, что идеологической основой коллаборационизма вполне логично было отвержение Советского государства. Спрашивается, что это объясняет или доказывает? Мнение о том, что наши мысли и желания и наши поступки соотносятся как причины и следствия, многократно и убедительно оспорено. «Воля ничем не двигает, а, следовательно, ничего не объясняет – она только сопровождает какое-то явление, но может и не сопровождать».[24]24
Ницше Ф, Сумерки кумиров. «Четыре крупные заблуждения», «Неверное понятие о причинности».
[Закрыть] Если же говорить о войне и армии, то армия – это вообще мир механических действий, следования чужой воле, именуемой уставом и приказом. Речь идет о ложном пути понимания жизни, ошибочном в принципе.
Как тут быть? Как выкинуть из головы эти глупости? Всем читать Ницше, Витгенштейна? – Боже упаси! Разве что для своего удовольствия. Работа историка не зависит ни от каких философских аргументов. История есть описание. Надо просто описывать то, что ты видишь, и не примешивать к этому посторонних мыслей. Это трудно, но когда это получается, ты действительно можешь что-то узнать, что-то новое для тебя и окружающих. Во второй книге Марк Солонин словно спохватывается. Он с беспокойством признается себе в том, что пухлый том оканчивается констатацией, известной заранее. В своей третьей книге он начинает спорить с самим собой. Превращение многих частей Красной Армии в неуправляемую толпу, массовую сдачу в плен и массовое дезертирство Солонин больше не хочет объяснять карикатурной формулой «Армия отказалась воевать за Сталина». Автор вдруг сознается, что боеспособность войск создают не политруки и стенгазеты, а дисциплина и организация. Он подчеркивает огромную роль и ответственность командиров. Немецкие и советские генералы, как выясняется, действительно имели разные представления о том, как следует руководить боем. Марк Солонин проводит красноречивые параллели. Генерал Болдин, имея приказ организовать наступление трех советских корпусов из района Гродно, просиживает в своем штабе за десятки километров от вверенных ему войск и жалуется на отсутствие связи. Командир немецкой танковой группы Гудериан, рвущийся к Минску, по нескольку раз в день на танке прорывается в каждую из своих дивизий и отдает приказы в нескольких сотнях метрах от линии огня. Наконец, Солонин справедливо вспоминает другие позорные поражения русской армии в Первую мировую или русско-японскую войну и находит это сравнение уместным.
СОЦИОЛОГИЯ
Дрессировка для порока, сообразно с требованиями развратных посетителей»
Александр Бикбов

Ильюхов А. А. Проституция в России с XVII века до 1917 года. М.: Новый хронограф, 2008. 558 с.

Адлер Л. Повседневная жизнь публичных домов во времена Золя и Мопассана. М.: Молодая Гвардия, 2005. 272 с.
ЛАВИНУ внимания к женской проституции сорвало в 1986 году: журналисты, режиссеры, социологи спешили донести до наэлектризованной публики подробности нового явления. В напряженной полупустоте грядущего издательского бума появлялись первые переиздания дореволюционных монографий, дерзящие с обложек еще недавно запретным словом.[25]25
Как текст д-ра Дюпуи «Проституция в Древности» 1907 года, переизданный в 1990 комплексным кооперативом «Рось» под мягкой ярко-желтой с черным обложкой в 100 тысячах экземпляров.
[Закрыть] Десятки студентов тогда же создаваемых социологических факультетов избирали проституток объектом учебного исследования, впрочем, редко доводимого до конца. Закипали политические страсти о легализации.
К середине 1990-х вышла череда изданий и переизданий, претендующих на сенсационность. Но иной стала прагматика понятия. Оно больше не будоражило новизной и не травмировало вкусы (бывших) советских обывателей. В конце 1980-х у фигуры «интердевочки» был шанс стать частью культурной истории: она была символом высокого ремесла в сфере запретных связей, в равной мере продажных сексуальных и опасных – с иностранцами. Очень быстро, однако, и проститутки, и иностранцы, и местные потребители банализировались. Как многие молчаливо принятые явления Перехода, платные сексуальные услуги были ассимилированы новыми стилями жизни, меняя организацию под милицейскими «крышами» и в сетях международного трафика. В противовес создавались ассоциации помощи и центры предотвращения – обладатели минимального публичного веса в новом социальном порядке. Между впечатляюще рутинным расширением рынка и попытками профессионально снизить его социальные издержки, тема проституции получила выражение в нишевых публикациях и эпизодических киноперсонажах. Еще несколько лет спустя после 1991 года в опросах о престижной и предпочтительной профессии российские школьницы порой указывали «проститутка» (а школьники – «киллер»). К концу 1990-х декларируемые вкусы окончательно утратили бандитскую бесшабашность и сместились к офисной респектабельности. Не став приемлемой, тема проституции не превратилась во вновь запретную, но несомненно – в социально и интеллектуально маргинальную.
Выход в свет российского исторического исследования о проституции в 2008 г. – симптоматичное событие, которое, возможно, отмечает новый период умеренного интереса к теме. В последние годы нечастое к ней обращение происходит с нескольких, не вполне тривиальных позиций. Сотрудники милиции[26]26
Станская А. А. Проституция несовершеннолетних – социальная и правовая проблема общества. СПб: Юридический центр-пресс, 2005.
[Закрыть] и неправительственных ассоциаций[27]27
Ходырева Н. Б. Современные дебаты о проституции. Тендерный подход. СПб: Алетейя, 2006, Уже нормативные аллюзии предыдущего заглавия и экспертные данного отчетливо маркируют зоны компетенции авторов.
[Закрыть] – в качестве узких специалистов. Медики в костюмах светских беллетристов.[28]28
Князькин И. Б. Всемирная история проституции СПб.: Сова – ACT, 2006, 928 стр. 5000 экз. Книга, предназначенная служить подарком любознательному холостяку.
[Закрыть] Предприниматели в роли социальных исследователей. Историки в облачении моральных наставников.
Безотносительно к российской специфике, анализ и критику проституции можно в самом общем виде разделить на две стратегии, в зависимости от взгляда, который порой ясно артикулируют сами авторы: мужскую и женскую – при этом не обязательно феминистскую. Базовые очевидности преобладающего мужского взгляда служат основой всех культурных кодов, сохраняя непрозрачность для самих мужчин. Женщины-авторы нередко острее рефлексируют тендерную специфику как своей, так и чужой точки зрения, критикуя частичность мужского определения (гетеро) сексуальных практик, с его претензией на универсализм. Частичного при любой тендерной принадлежности как в силу явных табу, так и по причине ангажированного интереса к истинам сексуальности. Впрочем, по той же причине восстановление полной и объективной истины – как утверждает Лора Адлер (о ее книге речь пойдет далее) – неосуществимая задача. Следует добавить: неосуществимая и потому, что, несмотря на свою частичность, мужское оказывается исторически всеобщим, и критический женский взгляд на проституцию не имеет иного исходного горизонта, помимо мужского языка. В результате, женская и мужская стратегии расходятся не в наборе тем и понятий, так или иначе генетически обязанных буржуазному и мужскому XIX веку, а, прежде всего, в характере связи между двумя основополагающими предметами описания: проституции как обмена и свойствами проституирующей женщины. Мужская стратегия склонна к явному (моралистскому) или неявному (через систему умолчаний) признанию этого обмена постыдным, проститутку же она делает орудием внешних сил и обстоятельств, включая желание потребителя-мужчины. Женская стратегия уделяет больше внимания насильственному характеру обмена, при этом рассматривая женщину-проститутку как субъект чувственности. Иными словами, мужская и женская стратегии несимметричны: первая склонна к вытеснению чувственности, разворачиваясь на линии принуждение/стыд, вторая, сколь удивительным это ни покажется, избавлена от стыда и выстраивается на линии насилие/чувственность. Рассматривая каждую из этих линий как результат работы различающихся процедур самоцензуры, мы можем получить более ясную картину представлений о проституции. Вместе с тем я далек от утверждения, что спектр недавних публикаций сводится к этому элементарному различию.
Упомянутая историческая работа – монография «Проституция в России с XVII века до 1917 года» (2008) Александра Ильюхова, которая обладает признаками мужского взгляда, увязшего в беспорядочных тематических связях. Несмотря на объем и многообещающее заглавие, книгу можно охарактеризовать кратко: попытка бессодержательной систематизации. С первых же страниц текст не позволяет заподозрить его автора ни в намерении описать феномен в тщательно сконструированной перспективе, ни в готовности представить выверенное собрание фактов. В композиционном и жанровом отношении книга точнее всего распознается как мятый галстук в глубине забитого вещами шкафа.
Следует сразу принять в расчет, что монография избавлена от какой-либо исследовательской концепции и внятной структуры. Она изобилует содержательными повторами и постоянным возвратом к темам заболевания сифилисом, завлечения девушек в профессию обманом или силой, социального неблагополучия как основной причины проституции. Формально монография поделена на главы, но одни и те же «постыдные» сюжеты, обильно воспроизводятся в каждой из них. Неупорядоченность текста выражается и в произвольной рубрикации: например, история и стиль жизни публичных домов бегло прослежены в недрах безразмерной главы «Политика государства в отношении проституции», а формы полицейского надзора в главе «Моральный и социальный облик проституток».
Кроме того, авторский текст тотально зависим от публикаций второй половины XIX в. – начала XX в., сведения и цитаты из которых дают основной объем книги. Срастание языка автора с источниками лишь усиливает консервативный легитимизм мужского взгляда на проституцию как зло, государственное сознание которого, согласно А. Ильюхову, непрерывно возрастает на протяжении российской истории. На деле текст пестрит свидетельствами использования проституции, например, для удовлетворения нужд военных и разведки или конструирования самой фигуры проститутки врачебно-полицейскими комитетами. Однако в общем виде вопрос о государстве XIX в. как своеобразном инженере, который проектирует категорию «проституция» и наполняет ее человеческим материалом, так и не звучит. Согласно автору, с XVII в. попытки высшей государственной власти контролировать занятия проституцией делались все жестче, но регулярно терпели фиаско, не в последнюю очередь из-за коррумпированности низших полицейских чинов. К слову, упоминание XVII (а также, по умолчанию, XVIII) века в заглавии оказывается недоразумением, вряд ли оправданным десятком страниц разрозненных данных. Не упорядочивая хаоса слабо соотнесенных друг с другом сведений и обширных цитат, неудовлетворительный в своей линейности образ государства-праведника обязан банальному невниманию к деталям.
Полный отказ историка от работы с архивами удивляет, но не так сильно, как уход от периодизации и от критики источников. В окружении заемных идей и фактов концепция истории исчерпывается одной формулой предисловия: «Поразительно, но за прошедшие полтора столетия характер проституции не изменился». О столь парадоксальной модели исторического безвременья автор регу лярно напоминает восклицаниями в конце параграфов: «Это утверждение актуально и сегодня». Типы и практики проституции даны таким же бессвязным списком, который поглощает любые даты и ориентиры. В итоге, приемлемым вариантом использования книги представляется отбор источников на основе цитат – для последующего чтения. Этнографически любопытны тексты Н. Б-ского «Очерк проституции в Петербурге» (1868), А. Шнейдера-Тагильца «Жертвы разврата. Мои воспоминания из жизни женщин-проституток» (1908), «Труды первого всероссийского съезда по борьбе с торгом женщинами и его причинами» 1911–1912).
Наконец, отсутствие аналитической модели компенсируется монотонным морализерством, в котором автор далеко превосходит своих предшественников рубежа веков. Бесконечно возвращаясь к определению проституции как общественного порока, он выстраивает весь текст словно грандиозное оправдание тому, как у него, порядочного мужчины, возник интерес к подобной теме, а книжки «об этом», может быть, даже попали в его домашнюю библиотеку. «Падшие женщины», «эти отверженные», – сострадательная линия того же самого морализма, который со страниц исторической монографии клеймит проституток как «промышляющих девиц», «воровок», «подобных „дам”», «это зло», а в содержателях публичных домов усматривает «как правило порочных людей». Снисхождение к проституирующим из бедности сопровождается у историка 2000-х архетипическим для XIX в. восприятием низших классов как опасных. Цитируя пассаж о работе шайки отравителей в одном из нижегородских публичных домов и вспоминая о романе Л. Толстого «Воскресение», автор сообщает: «Таким образом, можно констатировать, что существование публичных домов часто провоцировало преступность» (с. 128).[29]29
Не менее хлестко звучит: «Приобщению к проституции способствовало слабое умственное и нравственное развитие женщин» (с. 217).
[Закрыть] Спонтанный космический вывод характеризует социальное бессознательное автора лучше его обобщений, вполне осознанно сомкнутых с вековой давности разбором классового характера и самой проституции, и врачебно-полицейского надзора над ней (с. 169).
Обесценивают ли перечисленные особенности многостраничный труд? По меньшей мере, в авторском исполнении. Его может спасти только самостоятельная реконструкция читателем ряда проблем для дальнейшей разработки.

С. М. Эйзенштейн. Рисунок. Публикуется впервые
Прежде всего, является ли верхний, в некотором смысле, «благополучный» сегмент проституции в российском XIX в. экспериментальной площадкой форм чувственности и удовольствия, которые встраиваются в социальный порядок, отчасти противостоя практикам семейного воспроизводства, но скорее их дополняя? Можно было бы сослаться на крайнюю ограниченность этого сегмента: возможно, он не вносил весомого вклада в разнообразие сексуального и социального опыта младокапиталистической России. Подобное предположение противоречит простым цифрам. В 1867 г. в Петербурге официально действовало 90 публичных домов первого разряда и только 60 простонародных (с. 101). На деле, огромное число и неожиданная пропорция – 90 специализированных мест трансгрессивной коррекции опыта состоятельных посетителей. Цитируемые Ильюховым тексты указывают на привлекательность антуража публичного дома для «гуляющих» купцов (с. 131), существование шикарных заведений с «особенно бесстыдными зеркальными спальнями» (с. 114–115), переодевание проституток в невест, рыбачек или курсисток (с. иг), наличие «особых приспособлений [утонченного разврата]… всегда находящих себе покупателей» (с. 113). Но их авторы, при посредничестве Ильюхова, с нервной поспешностью восстанавливают моральный порядок, маскируя субъективную реальность подобных мест и инструментов: «Эта особая роскошь для развращенных до мозга костей мужчин, которые не жалеют десятки рублей потратить на разные напитки, вроде коньяку, рябины, шампанского и пр., чтобы удостоиться созерцанием своей собственной персоны, совершающей пошлый безнравственный поступок при свете электрической лампочки».[30]30
Квалификация зеркальной комнаты в тексте 1908 г. (с. 115).
[Закрыть] Из такой квалификации можно «вытянуть» разве что нетривиальный сегодня факт сексуальной притягательности (аморальности) электрического освещения, усиленного зеркалами. Является ли этот зеркально-электрический соблазн социально универсальным на рубеже XIX–XX вв.? Как притягательность зеркальной комнаты соотносится с моделями семейной и холостяцкой чувственности? Каким социальным стилям и ритмам соответствует этот инструмент возбуждения и с какими иными инструментами, помимо коньяка и рябиновки, сопряжен? Эти вопросы вызваны лишь одним свидетельством. Критический пересмотр источников в срезе удовольствия привел бы к рекомпозиции всей российской истории проституции.








