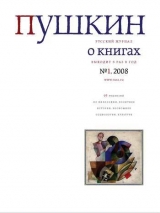
Текст книги "Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008"
Автор книги: Русский Журнал
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Полустертая цепочка следов ведет к разработанным в этот период стилям «веселой» жизни, которые обеспечены специфической дисциплиной работниц заведений высшей и средней руки. Начиная с ломки господствующей модели «скромного» женского поведения у новых работниц (c.211), включая тренинг обольщения для приходящих гостиничных проституток (с. 184), заканчивая техниками кокетства при сохранении девственности – для привлечения в заведения богатой купеческой клиентуры (с. 127). «Дрессировка… для порока, сообразно с требованиями развратных посетителей» (с. 117) – формула автора конца XIX в., отсылающая к производству форм чувственности, пока никак не представленных в истории российского общества. Активность «приличных» проституток, живущих семейной жизнью, имеющих положение в обществе и время от времени проституирующих в кабинетах, чью клиентуру составляли мужчины из той же благополучной среды, лишь усложняет общую картину. Резонерство Ильюхова, столь же охотно, сколь некритически цитирующего предшественников, являет собой образец моральной позы, которая отрицает существование российского «полусвета» вместе с более тонкими и диффузными формами чувственности. Этим образцово моральным восприятием проституции XIX в., сохранившим силу в 2000-х, невозможно пренебречь как историческим фактом. Но точно так же нельзя уклониться от вопроса о том, какие формы удовольствия, встроенные в благопристойный социальный порядок, он маскирует. Критическая версия истории могла бы ответить на вопрос: становится ли проституция, как это можно наблюдать во французском «полусвете», социальным местом складывания стилей жизни, не просто допускающих, но культивирующих одновременно опасное, странное и беззаботное? И как эти локальные стили жизни или их элементы соотносятся с «большим» социальным порядком?
Следующий вопрос дополняет предыдущие: становится ли прямое физическое насилие над женщинами-проститутками неотъемлемой характеристикой жизни в российском публичном доме и на улице? И далее: не является ли это насилие ключевым элементом чувственности, формируемой российской проституцией? Судя по множеству примеров и повторов в книге А. Ильюхова, сексуальная коммерция российского XIX в. основана на репрессивной схеме: повседневном принуждении со стороны хозяев и клиентов, а также всеобщей алкоголизации проституток, призванной это принуждение компенсировать. Согласно свидетельствам, содержатели заведений опаивают и насилуют девушек, похищают на улицах бедных приезжих, регулярно избивают проституток в публичных домах, лишают пищи и снова опаивают. Клиенты систематически издеваются над женщинами и избивают их. Сам сексуальный акт, особенно в дешевых заведениях и с уличными проститутками, происходит в темных углах, «на куче вонючих лохмотьев» – в условиях, почти исключающих удовольствие. В заведениях царит надзор и физическое наказание: «В большинстве публичных домов наружная дверь так устроена, что, свободно открываясь с улицы, она изнутри не может быть открыта без ключа, который обыкновенно хранится у „хозяйки” или „гувернантки”» (с. 385). Полиция регулярно возвращает беглянок обратно, где их жестоко избивают. Публичные дома представляют собой форму социальной изоляции, подобную тюремной – что согласуется с наблюдениями Л. Адлер над аналогичными французскими заведениями.[31]31
Прямые соответствия между Россией и Францией одного периода прослеживаются также в регламентации порядка в заведениях, в запрете на музыку и шум, в предписанном экстерьере домов терпимости. Кроме того, как и во французском, в русском языке XIX в, вступление женщины в публичный дом называется «подчинением».
[Закрыть] Между тем содержательницы французских публичных домов, как и большинство российских – бывшие проститутки, отнюдь не столь жестоки в обращении с работницами. Если, согласно А. Ильюхову, прямое принуждение и подавление удовольствия в России повсеместны, не реабилитирует ли это отчасти моральную объяснительную модель, которая возникает там, где чувственность замещается насилием или «голым» физиологическим проникновением вкупе с унижением? Но, возможно, правильнее будет считать, что сама моральная модель редуцирует чувственность к пытке и «постыдной» физиологии?

С. М. Эйзенштейн. Рисунок. Публикуется впервые
Очевидно, что уровень физического насилия в целом привязан к социальной шкале: в нижнем сегменте дешевых заведений и уличной проституции оно регламентирует отношения плотнее, нежели в роскошном верхнем. Однако каковы его формы на разных уровнях и какое место оно занимает в чувственности проститутки, содержательницы заведения, клиента? Уже вступление в профессию представляется с этой точки зрения не столь однозначным, как его определяет автор, сделавший принуждение универсальной схемой. Оставим в стороне фантазмы XIX – начала XX вв. о массовых похищениях девушек из хороших семей для сексуальной эксплуатации. В приложениях к книге воспроизводятся полные данные опросов 56 и 143 проституток конца XIX в. Свободный выбор: отказ «служить на местах», привлекательность «веселой жизни», «избалованность», – фигурирует примерно в 40% ответов о мотивах занятия проституцией. Если изъять из их числа случаи насильственной дефлорации, по отношению к которым «собственное желание», вполне вероятно, рационализирует травму, остается около 30%. Причем только половина из них – женщины крестьянского происхождения и солдатки, другая половина – мещанки, с незначительной долей дворянок. Помимо прочего, А. Ильюхов цитирует рассказы служащих врачебно-полицейских комитетов о девушках, которые горячо желают поступить в публичные дома еще до совершеннолетия. Иными словами, вхождение в профессию и отношения с содержателями заведений сопровождается не только жестким физическим или экономическим принуждением, но и не менее сильным социальным влечением. Эти свидетельства и цифры ставят под вопрос безупречную работу механики универсальной морали, с которой принято отождествлять XIX в. Они не устраняют вопроса о прямом или опосредованном насилии в поддержании сексуального порядка. Однако уже в части начального этапа ремесла репрессивная модель российской проституции нуждается в коррективах.
Столь же неочевиден финал карьеры и ведущие к нему обстоятельства. Неизбежное «скатывание» проститутки на социальное дно, даже с ирреального заработка юоо рублей в месяц (при плате ярмарочной проститутке 25 рублей в месяц) – еще один конек моралистов XIX-начала XX вв., повторно седлаемый А. Ильюховым. На деле, этос растраты, свойственный «веселой» среде – новое свидетельство специфически «полусветских» стилей жизни, вопрос о которых совершенно вытеснен из монографии моральным усилием автора. Иное возможное объяснение – тотальная социальная незащищенность проституток. Автор настаивает на том, что хозяйки заведений обирают и обманывают работниц, подсовывают им дешевую одежду и пищу за огромные деньги, штрафуют за мельчайшие проступки, что сами проститутки слишком много тратят на алкоголь и т. д. Но как объяснить тот факт, что немки, приезжающие в российские публичные дома, за два-три года делают себе состояние достаточное, чтобы заключить выгодный брак на родине (с. 119)? Какие стратегии накопления позволяют работницам заведений высшего класса впоследствии пополнять ряды содержательниц заведений? Какую роль в карьере проститутки играют формы страхования, подобные минскому фонду, куда хозяева заведений ежедневно вносят небольшую сумму на выходное пособие работницы (с. 106)?
HE СТОЛЬ РЕДКИ СЛУЧАИ, КОГДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ АГЕНТЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ЖЕНЩИН КАК ПРОСТИТУТОК, С ПОСЛЕДУЮЩИМ, УЖЕ ОФИЦИАЛЬНЫМ, ОФОРМЛЕНИЕМ ЭТОГО СТАТУСА ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКИМ КОМИТЕТОМ
Наконец, поистине ключевой вопрос – это роль государства XIX в. в создании и переопределении фигуры проститутки. А. Ильюхов касается смежных тем широкими неровными кругами, раздувая объем монографии и взбучивая ее рубрикацию. Но, как я вынужден был отметить, явный результат этих маневров крайне неудовлетворителен и парадоксально линеен. Наблюдения некоторых авторов XIX в. более точны и современны. Ключевой здесь предстает связка врачебно-полицейского контроля и публичного дома со второй половины XIX в., когда заведение становится «последним узлом прикрепления женщины к проституции», препятствующим какой-либо иной деятельности (с. 167). Как и в европейских буржуазных обществах, российское государство, по сути, пытается переопределить и переприсвоить преступную карьеру проститутки во имя общественного здоровья и спокойствия.[32]32
Поворот в государственном управлении рисками проституции отмечен коллизией частичной легализации в 1843–45 гг., при продолжающемся судебном преследовании за «торг телом» (с. 48).
[Закрыть] Инструментализация женского тела и формирование слоя профессиональных парий во многом направляется государственными попытками снизить распространение сифилиса среди населения. Эта политика неожиданно совпадает с далекой исторической параллелью, открытием во Франции XIV–XV вв. муниципальных борделей, миссией которых было предотвращение нередких групповых изнасилований добропорядочных горожанок горожанами-мужчинами – т. е. схожая забота об общественном спокойствии[33]33
Brigitte Rochelandet, Histoire de la prostitution du Moyen Age au XXe siècle. Yens sur Morges / Divonne-les-Bains: Cabédita, 2007, C. 30–35.
[Закрыть] обоих случаях публичные дома не просто легализуются, а становятся частью системы управления обществом, где телу проституирующей женщины отведена роль опасного, но неустранимого орудия. Конвульсивное продвижение к полной легализации второй половины XIX в. вводит меру обязательного обмена паспорта на «желтый билет». В результате, проститутка оказывается «публично» изолирована не только в стенах заведения, устройство и распорядок которого становится предметом официальной регламентации, но и в системе медицинской и полицейской власти города, равно как в заново удостоверенной власти городского обывателя-мужчины. Клиентура сексуальной коммерции становится все более массовой. А международная торговля женщинами и, в целом, нелегальные формы проституции предстают особенно заметными и грозными явлениями именно в свете нового государственного утилитаризма, который привязывает проституцию к «своей» территории и «своему» населению.
Утилитарный поворот в государственном управлении проституцией не просто использует, но заново создает тело проститутки через процедуры наблюдения, освидетельствования, регистрации. Запуск этого механизма с особой остротой ставит проблему строгой классификации, в т. ч. выявления тайных проституток в массе «порядочных женщин». В городском пространстве имеется ряд мест, где замужние женщины не могут появиться, не рискуя своей репутацией. Но во множестве мест и случаев налицо опасное смешение, которое делает ясное разграничение невозможным. Поэтому государство вменяет своим агентам разузнавать, отслеживать, запугивать в целях выявления и легализации «тайного зла». Статус предлагающей свои услуги женщины остается зыбок. В 1889–93 гг. от 30% до 40% учтенных в Петербурге случаев – это женщины, арестованные по подозрению в тайной проституции (с. 134). Важную роль в проведении границы играет презумпция женского одиночества. Не столь редки случаи, когда полицейские агенты квалифицируют одиноко проживающих или бродячих женщин как проституток, с последующим, уже официальным, оформлением этого статуса врачебно-полицейским комитетом. Схожий метонимический принцип классификации воспроизводится и при новом политическом порядке (1919 г.), когда проститутками записывают всех одиноких женщин, попадающих в ночные облавы на вокзалах.[34]34
Левина Н. Б. Повседневная жизнь советского города 1920–1930 гг. СПб: Летний Сад, 1999. С. 84.
[Закрыть] Зыбкость границ сексуальной коммерции рождает множество двусмысленных фигур, роднящих российскую и европейскую историю: служанки, прачки, кондитерши, швеи, актрисы, посетительницы танцзалов, музыкантки, – представленные в коллективном воображении, вероятно, гораздо полнее, нежели в статистических сводках полиции. Если государственная регламентация проституции, затрудняя работницам выход из профессии, делает возможным, по меньшей мере, их учет, то о характере и длительности карьер, степени их криминализации или изобретении новых форм чувственности на полюсе, постоянно ускользающем от официального контроля, известно гораздо меньше.
Соотношение этих двух полюсов и эволюция форм проституции в связи с государственным утилитаризмом и техниками управления рисками – еще одна ненаписанная глава российской истории. В этом контексте упадок публичных домов к концу XIX в. можно анализировать не только как момент истории нравов, но и как факт политической истории, вписанный в свертывание местных реформ и трансформацию инструментов контроля над населением. В любом случае, линейная схема «осуждаемый порок – распространение венерических заболеваний – государственные ограничения» требует самого решительного пересмотра.
КНИГА Лоры Адлер «Повседневная жизнь публичных домов»[35]35
При переводе издательство расцветило и заглавие, заменив хронологическую метку в «Повседневной жизни публичных домов 1830–1930» на «… во времена Золя и Мопассана», и имя автора, превратив Лору в Лауру.
[Закрыть] захватывает принципиально тот же период, что и монография Ильюхова. Однако в отличие от последней, она доказывает, что история проституции – это не только моральная или криминальная история, но также история культуры, которую в XIX в. вместе со своднями и полицейскими делают знаменитые писатели и бонвиваны. Не ограничиваясь картинами анонимной проституции, автор считает нужным уточнить социальное происхождение известных гетер, чьи имена, вероятно, еще о чем-то говоря т образованному (французскому) читателю, продемонстрировать связь между проституцией и театральным миром, проанализировать растущую захваченность XIX в. вуайеризмом, сопровождающим и отчасти замещающим физическое проникновение, описать «полусветский» ужин как ритуал «веселого» и «странного». Иными словами, книге свойственно внимание к проституции как к звену культурного механизма, который на пике своей продуктивности выводит в свет литературные произведения, впоследствии освященные школьной программой.

С. М. Эйзенштейн. Рисунок. Публикуется впервые
Методологическая программа исследования – история повседневности «женщин, которые в конечном счете ничем не отличаются от нас». Насыщенный фактурой текст включает фоновый анализ капиллярной механики власти в духе Мишеля Фуко. В работе присутствует и критика источников – не традиционно исторического, но феминистского толка. Адлер указывает, что большинство письменных свидетельств XIX в. о жизни проституток, включая литературные – это слова мужчин, чей познавательный интерес с трудом отделим от поиска удовольствия в стенах заведений. Действительно, мужская чувственность служит посредником в присвоении и перекодировании мира на языке порядка в гораздо более тонких сферах, подобных институциализированному научному воображению. Подозрение в тендерной предвзятости тем более оправдано в восприятии проституции, напрямую обязанной мужскому желанию.
Но критика автора адресована не только и не столько двусмысленному взгляду писателей, сколько схемам воинствующего морализма, которые воскрешает и Ильюхов. Видя в проститутке источник разврата, пожирательницу состояний, «гнойную язву» или «помойку», мужчина на деле сам порождает эту фигуру своим желанием и способом это желание удовлетворять. Та же система власти, которая вершит суд над развратом, предварительно формирует опасно-притягательную нишу платного удовольствия, где устанавливает широкую кровать, поместив на нее экзальтированное женское тело в полупрозрачных одеждах. В течение XIX в. публичный дом становится привычным регулятором отношений в городе, через который проходят потоки мужчин. Автора интересует прежде всего это место пересечения различных форм принуждения и желания, предусмотренных ритуалов и импровизации соблазна, оттенков удовольствия и страдания. В 1920-х г. публичные дома переживают упадок, за которым следует официальный запрет (1949). Это приводит к исчезновению чувственного, отчасти неторопливого и самозабвенного стиля жизни, уступающего место, с одной стороны, рутинной коммерции сексуальных услуг, тарифицируемых поминутно, с другой, растущей свободе паритетных связей. Двойственный интерес автора к борделю как месту упорядоченного насилия над женщиной и источнику неповторимой, чувственной и социальной, фактуры направляет все исследование.
Критический взгляд на мужскую власть не избавляет работу от традиционно репрессивной модели контроля за проституцией. Далекие во многих иных отношениях тексты французского и российского авторов одинаково склонны избегать вопроса о государственном утилитаризме при столкновении со сходными и неизменно шокирующими фактами злоупотребления силой. В версии Адлер государство, чей регламентаризм – неоспоримое зло,[36]36
В отличие от версии А. Ильюхова, для которого государственная регламентация проституции и ее рисков, напротив, располагается в перспективе благотворного окончательного искоренения.
[Закрыть] воплощается прежде всего в фигуре полицейского, который делает жизнь проституирующей женщины особенно постыдной и невыносимой. Другой фигурой становится даже не врач, а кабинет частично платного медицинского осмотра и больница как место заточения проституток, больных сифилисом. И обескураживающая процедура врачебного осмотра, и сцены уличного задержания девушек полицией, и условия содержания в участке описаны в мельчайших подробностях. Наряду с прочим, автор указывает, что для обеспечения норм контроля регулярно производились аресты женщин, появившихся на улице в одиночестве – вплоть до жен банкиров. Не менее подробно описана двусмысленность больницы как места излечения/наказания и пытки, специфика которого склоняет девушек объявлять себя воровками скорее, чем проститутками. В этих описаниях трудно не заметить своеобразный антигосударственный морализм на стороне преследуемых, противостоящий официальному морализму регламентаристов.
Однако этический пафос текста и обращение к репрессивной модели уравновешиваются исторической добросовестностью Адлер, которая уделяет внимание публичному дому как месту изоляции общественной опасности и прослеживает ряд поворотных моментов в официальной политике проституции. Речь идет о перипетиях несостоявшегося превращения борделя в единственную, в совершенстве замкнутую и контролируемую, форму сексуальной коммерции. Попытки парижских властей 1829–30 гг. запретить появление одиночек на бульварах, локализовать проституцию исключительно в домах терпимости, препятствовать переходу работниц из одного заведения в другое, не допускать их появления в окнах и дверях домов были направлены на облегчение доступа к проституткам врачей и полиции, призванных проверять и карать, а также на геттоизацию порока в городском пространстве. Под давлением противников эти меры сменились более либеральным законодательством 1843 г. об изоляции публичных женщин лишь при угрозе общественному порядку, дополненным в 1881 г. циркуляром о неправомочности ареста женщины, пристающей к мужчине (если только она не посягает на его личность, хватая за руку).

С. М. Эйзенштейн. Рисунок. Публикуется впервые
Сделав типы проституции (изящной, бордельной, уличной) и персонажей этого универсума (куртизанки, бандерши, певицы, полицейские и т. д.) основой рубрикации книги, Адлер создает с очевидностью не полный, но рельефно сработанный словарь социальных ситуаций и обстоятельств. Его рельеф – результат не одного только обращения к литературным источникам, но и достройки собственного текста в чувственных кодах, призванных впечатлять и шокировать. Это еще раз позволяет оценить, насколько каждая версия истории «одного и того же явления» зависит от избранной точки зрения. Набор ингредиентов исторического труда о проституции в любой стране на деле не столь уж широк: проза мужчин-посетителей публичных домов, официальные постановления, одни и те же медицинские и полемические трактаты XIX-начала XX вв., газетные заметки, данные опросов проституток и их редкие беллетризованные свидетельства. Это хорошо видно по российским публикациям, с общим ядром источников у «серьезной» версии А. Ильюхова, беллетристики светского доктора,[37]37
Упомянутая книга И. Князькина «Всемирная история проституции».
[Закрыть] вышедшей ранее обзорной работы соавторов-социологов[38]38
Голосенко И. А., Голод С. И. Социологические исследования проституции в России. СПб.: Петрополис, 1998.
[Закрыть] и еще более раннего сборника статей соавторов-историков.[39]39
Левина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. – 40-е гг. XX в.). М.: Прогресс-Академия, 1994.
[Закрыть] Познавательная ценность каждой из этих версий определяется способом (и способностью) выстроить общую картину, критически препарировав во многом совпадающий корпус данных или, как это сделала Адлер, прибавив тексту выразительности за счет архивных материалов: официального документооборота, корреспонденции участников рынка проституции, дневников.
В целом, книга Адлер может служить удачным примером найденного в калейдоскопе подробностей структурного рисунка. Следуя ему, можно обнаружить, что в высшем сегменте проституция смыкается с миром света, где промискуитет отличается от продажи услуг за деньги едва заметными нюансами и где сопоставимые с крупнобуржуазными состояния и изысканный стиль жизни куртизанок на пике карьеры рискованно усложняют систему социальных различий, маскируя разрыв между благородным и постыдным. Если роскошная проституция – такой же сектор рынка наследств и браков, как массовая проституция – рынка профессионального труда, то наличие постоянной оплаченной любовницы, отношения с которой воспроизводят семейную модель, предстает институтом мелко– и среднебуржуазного быта. В свою очередь, проституция публичного дома – образец во многом нормализованной и нередко желанной профессиональной карьеры. Отлаженная механика заведений далека от внешнего принуждения и представляет собой скрупулезно выверенную систему соблазнения: возможностью заработка для девушек, послушными телами и тщательно стилизованной атмосферой заведений для клиентов. Если рутинное физическое насилие процветает в заведениях низшего уровня, оно характеризует, согласно описаниям Л. Адлер, скорее отношения между клиентами, чем отношение к женщинам. Это не делает их жизнь более сносной. Но оставляет вопрос о насилии и его соотношении с чувственностью открытым в отношении обеих структурно близких ситуаций российской и французской проституции XIX в.








