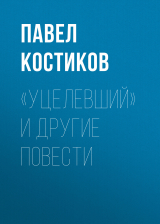
Текст книги "«Уцелевший» и другие повести"
Автор книги: Павел Костиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Думаю, знал Юрий, что и посольство наше татары перебьют, и помощи нам Чернигов с Владимиром не дадут. В Чернигов он послал тогда брата своего бестолкового Ингваря Ингваревича, Евпатия Коловрата да меня. Подать еще надо было к тому же с черниговцев собрать, которая к военному времени особливо как нужна была. Так-то на людях Михаил Черниговский сказал, будто оттого нам отказывает, что мы на Калк с ними не пошли, да только я понимал, что уж давно обида его на рязанцев прошла. Что войска он не даст, как и владимирский князь, ибо чует, что не выстоит Рязань. Да и то, что Чернигов не выстоит, тоже, поди, знал, только думал, пусть уж лучше люди его головы за родимую землю сложат. Тож и владимирский князь Георгий: не прислал, окаянный, подмоги да из Владимира сам сбежал, но все ж мысль имел знатную: собрал со многих княжеств под Коломной, где горло было узкое, рать какую только смог, рать великую, какую доселе не видала Русь, да бой дал татарам знатный. Не пытали еще иноземцы на себе сечи такой в нашей земле! А только все равно не выстоять нам было противу тьмы монгольской несчетной…
И про Евпатия Коловрата хотел рассказать, как оно было. Знались мы с ним давно, да близко не сходились. Уважали друг друга – да, но не сходились. Злые языки говорили, что приязнь князя Ингваря Игоревича мы промеж себя не поделим, но дело, по моему разумению, было в другом: чего-то Евпатию, как я смыслю, всегда будто бы не хватало, словно хотел он чего-то неведомого, манило его туда, где опасно было, а мне с таким, коль уж правду сказать, боязно было…
Да, и Евпатия старый князь очень любил. Поболе меня, наверно, любил, да только дело не в том. Евпатий – он ведь как? Такого ничего будто и не замечал вовсе, как само собою разумеющееся приязнь других людей принимал. Его же все любили, от мала до велика, от смерда до князя. Было в нем что-то такое, от чего его не любить было нельзя…
Как услышал он тогда в Чернигове, что дошел-таки Батыга до Рязани, хоть и знал, что на родине своей увидит, а все ж не смог сдержаться, помутился мал-мала рассудком. Бывало у него такое иногда – видали те, кто его поближе знал, – будто нападает на него что от негодования сильного. Оттого-то и прозвали его Коловратом, что от гневу в бою крутиться он начинал так быстро, что уследить за ним никак нельзя становилось, будто бес какой в него вселялся. Пропадали разом доброта его и веселый нрав, и одержимым он будто становился. Страшно с ним тогда рядом было, и люди от него старались подальше держаться, да только своим он ни разу зла такой не причинил.
Как увидал Евпатий пепелище, что на месте Рязани осталось, где он каждый дом, каждое местечко укромное знал, как почуял еще витавший запах горелого человечьего мяса, как увидал псов одичалых, что на него огрызались оттого, что он трупы мешает им рвать, что на мерзлом ковыле лежат, снегом занесенные, – так и вышел разум его. Жену свою нашел – снасильничали ее и убили, как и других, детишек мертвых своих нашел – меньшого прямо в печке, где он хоронился, татары так и сожгли. Стыдно сказать, порадовался я тогда, что семьей так и не обзавелся… Видал я Коловрата один раз таким: глаза у него почернели, лицо, напротив, побелело, кулаки сами собой сжиматься стали, и будто видеть он теперь пред собой не видел, а стал боле как зверь страшный.
Так велика была сила Евпатия, что люди сами на него шли, будто манил он их к себе против их воли. Не раз и не два думал я потом, да и сейчас размышляю, отчего люди за ним пошли. Гнев у него, конечно, великий был, как увидел он город разоренный, да тела жены и детей своих, и что не осталось боле ничего из того, что он любил. Заразил он гневом своим людей и повел за собой. До того уж дошло, что помышляли мы напасть сзади на татар так нежданно и крепко, чтоб самого Батыгу убить – вот как разошлись мы в мыслях своих, как в гневе своем распалились. Помню, блеснуло нам тогда в голову, что, коль удастся убить Батыгу, то все это кончится, пропадет, будто страшный сон…
Не можно, видать, человеку жить с осознанием, что все хорошее в жизни у него уже было, и что до смерти останутся ему из доброго только воспоминания. Не только семьи и быта привычного более не будет – понял Коловрат, что и отчизны его больше нет, потоптал ее сатана Батыга. Навряд теперь Русь в себя придет, а может, и изничтожат ее монголы совсем, без остатка, памяти самой о нас не останется. Страшно тогда нам становилось от мыслей этих. Кто угодно бы испугался – и Евпатий испугался. Стало мне понятно, что умереть он хочет, чем страх такой терпеть, а за ним и люди все, от монголов в лесах упасенные. Оттого-то и ответили пятеро из наших, пойманных тогда татарами на побоище, когда спросили их: «Чего вы хотите?» – «Умереть только хотим!» Не врали они, не лукавили: на тот свет уж давно хотели они, к родным своим, и тут уж делать им было нечего. Достойно лишь уйти хотели да Батыге подлому показать напоследок, какой тут народ исконный жил до него.
Не ждал того Батыга. Полмира уж татары к тому времени захватили, а понял я, что не видал еще хан монгольский такого племени, как русь. Видал он у врагов и разобщенность, и распри свои мелочные, и умение воинское, и храбрость в бою – а вот желание погибнуть вместе с прошлым своим не видал. Не мертвецов воскресших испугался Батыга, а народа неведомого, что на смерть по своей воле идет. А уж как увидал он, что и до того было нас в отряде мало, а теперь в живых осталось и того меньше и не способны мы ему более навредить, так уж решил все в свою пользу обратить. Пороками нас окружил да расстреливал, в живых нескольких оставил да тело Евпатиево нам на погребение отдал только ради пущей своей славы, чтоб пошла молва о нем, новом воителе великом, по всем народам дальше…
…Чую я, что в последние эти дни, как повесть свою дописываю, силы покидают меня. Дописал и все сказал, что хотел, и как будто внутри пусто стало. Будто вылилось все, что внутри держал, и как жбан пустой сделался. Горестно уходить мне, братие, не того я от жизни своей хотел, не такой судьбы отчизне своей желал. Чувствуют иноземцы себя хозяевами земли нашей, жен да сестер наших насильничают, добро отбирают, а мы смотрим и только очи долу опускаем. Горестно и страшно оставлять родину свою татарами поруганной на современников бесхребетных этих, свободы толком не знавших да о ней и не помышляющих, допустивших для нас от иноземцев жизни рабской. Да будет путь их темен и скользок…
Благодаря этой рукописи стало понятно, что история о Евпатии Коловрате происходила в действительности.
Первый вопрос, который возник у ученых, – кто же передал первую, «каноническую», широко известную до рукописи Пафнутия версию о героическом поступке Коловрата в народ? Логично было бы предположить, что историю о рязанском воеводе с восторгом понесли в массы другие соратники Евпатия и Миколы, Миколиного сына, которых Батый отпустил с телом Коловрата. Речи о том, что сам Микола мог поведать об этом подвиге народу, не шло: слишком разнились восторженно-патетическая тональность истории о Евпатии в канонической «Повести о разорении Рязани Батыем» и угрюмое, жесткое, если не сказать мизантропическое настроение рукописи старца Пафнутия. «Пустить историю в народ» могли как воины, которым монгольский хан отдал тело Евпатия, так и те пять «изнемогших от ран» соратников Коловрата, которых монголы сначала захватили в плен в последнем бою отряда (если, конечно, татары решили оставить их в живых). Представляется, что эмоциональный накал битвы маленького отряда с самим правителем Золотой Орды был таков, что очевидцам не терпелось поделиться своей историей с окружающими.
Встречались и сторонники другой версии. Монголы традиционно оставляли в живых только здоровых пленных, которые могли выдержать долгую дорогу и которых потом можно было использовать как рабочую силу или гнать перед собой в битвах. По вполне определенным причинам оставляли в живых и вели с собой привлекательных девушек, не делая скидок в этом даже для монахинь. Плюс к этому, общеизвестна привычка монгольских военачальников по возможности не оставлять у себя в тылу ни одного живого защитника. У пятерых пленных, «изнемогших от великых ран», да еще и так дерзко отвечавших захватчикам, шансы на сохранение жизней были невелики. Оставшихся в живых соратников Евпатия, которым отдали его тело, тоже вряд ли было много, и маловероятно, что их физическое состояние после боя с татарами располагало к активному распространению информации о случившемся. Кроме того, считали приверженцы данной точки зрения, одного только устного пересказа было недостаточно, чтобы эта история так хорошо сохранилась во всех деталях минимум до конца XIV века, когда и могла быть впервые записана. Сторонники этой версии полагали, что «каноническая» история о Коловрате была зафиксирована каким-то другим уцелевшим соратником Евпатия, который в отличие от Миколы сразу же, воодушевленный патриотизмом рязанского воеводы, решил донести эту историю до потомков в письменной форме. Текстов, написанных в соавторстве, литература того времени не знает, да и не так много среди выживших из отряда Евпатия могло оказаться грамотных, способных документально зафиксировать эту историю. В качестве последнего – и главного – довода в пользу этой версии ее сторонники приводят не сразу осмысленный факт, что рукопись Пафнутия фактологически не пересекается с текстом своего возможного коллеги по перу. Так могло быть, только если Пафнутий был знаком с этим текстом и, более того, признавал за ним настолько обоснованное право на существование, чтобы не повторять уже описанные в нем события. Так что, возможно, считают эти ученые, получившая ранее широкую известность история о Коловрате не проникла в поздние списки «Повести о разорении Рязани Батыем» из безымянного народного эпоса, а была намного раньше письменно изложена каким-то другим уцелевшим соратником Миколы и Евпатия.
Третья версия авторства известной ранее «канонической» новеллы о Коловрате представляется наименее доказанной, но и самой интересной. К этой идее пришел автор приведенного в данной статье перевода рукописи Миколы-Пафнутия, молодой сотрудник кафедры русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат филологических наук Глеб Селиванов. Эта идея петербургского лингвиста и историка литературы и стала поводом настоящего переиздания рукописи, приуроченного к годовщине ее открытия.
По собственному признанию, филолог Селиванов, всю сознательную жизнь посвятивший изучению древнерусской литературы и языка, на котором она была написана, «не смог себя заставить поверить, что именно в период самого глубокого упадка в истории средневекового отечественного искусства случилась некая аномалия»35, и подвиг Евпатия Коловрата вызвал к жизни целых два самостоятельных высокохудожественных текста – причем, таких явно взаимоисключающих по содержанию. У Селиванова родилась догадка, но как истинный ученый он не стал ее озвучивать, не имея на руках хоть каких-либо доказательств. Определенная конкретика появилась у филолога только тогда, когда он приступил к художественному переложению рукописи на современный язык. Селиванова смутили некоторые переклички в обоих текстах, и он решил сделать сравнительную таблицу текстологических совпадений в лучших традициях Д. С. Лихачева36. Совпадение в обоих текстах многих, без сомнения, сугубо индивидуальных словесных оборотов казалось тем более странным при явно заметном непересечении фактологическом. «Я и сам прекрасно осознаю, что представленной аргументации более чем недостаточно для доказательства серьезной теории, осознаю, что поддаюсь такому понятному для большинства ученых искушению поскорее выдать громкую гипотезу за доказанный факт, но все же, как минимум, призываю задуматься над тем, что историю о Евпатии Коловрате – безусловно лучшую (и уж точно большую по объему) часть «Повести о разорении Рязани Батыем» – написал сам начальник службы безопасности и контрразведки великого князя рязанского Ингваря Игоревича, а затем и унаследовавшего рязанский престол его сына Юрия, отданный в детстве на Русь в заложники булгарин по происхождению, соратник Евпатия Коловрата Микола, Миколин сын, принявший при принудительном монашеском постриге имя Пафнутий».
«Конечно, указанные литературные заимствования могли быть вызваны и тем, что и автор новеллы о Коловрате в «Повести о разорении Рязани Батыем» в свою очередь мог каким-то образом быть знаком с текстом Миколы-Пафнутия, но вероятность этого представляется крайне низкой. Погружение в данную проблему на каком-то интуитивном уровне родило во мне осознание того, что патриотический «канонический» текст Микола, Миколин сын написал почти сразу же после описываемых событий, а свою мизантропическую повесть заточенный старец Пафнутий создал, уже понимая, что умирает. Возможно, на протяжении многих ночей над обоими текстами у меня родилось ложное чувство отождествления с этим человеком, но…
Во-первых, вспомним, что в профессиональные обязанности Миколы, Миколиного сына входило и формирование общественного мнения согласно актуальной политической ситуации в рязанском княжестве. Несмотря на то что после нашествия татар от княжества практически ничего не осталось, Микола представляется нам прежде всего человеком военным, государственным служащим, если угодно, князевым слугою до мозга костей. Даже в условиях тотального поражения начальник службы безопасности и контрразведки, как это будут делать и после него лучшие представители спецслужб, продолжает сражаться – пусть не мечом, но пером, осознавая, что второй способ в конечном итоге может оказаться действеннее первого.
Во-вторых, взяться за перо и написать антимонгольскую повесть булгарина Миколу могла заставить уже упоминаемая неугасимая ненависть к чингизидам, уничтожившим и его родную страну37, и, с большой долей вероятности, его семью, и в уже зрелом возрасте испугавшим его самого. И если новеллу о Коловрате действительно написал Микола, Миколин сын, то следует отдельно отметить мужество автора, который на фоне общего морального упадка во всем государстве смог найти в себе силы создать произведение с такой верой в дух Руси, которая волею судьбы стала его второй родиной. Справедливости ради не стоит забывать и о схожей роли переписчиков XV-XVI веков, которые также радели о росте российского самосознания накануне решающего похода на оплот бывших врагов-татар – на Казань.
В-третьих, давайте еще раз вспомним о том, что оба текста фактологически не пересекаются. А если принять за объяснение этого не то, что Пафнутий не захотел «заимствовать хлеб» у своего боевого соратника и коллеги по писательскому ремеслу, а то, что он не стал хоть в чем-то повторять свою же ранее написанную повесть? Возможно, даже после разгрома Рязани и смерти Юрия Ингваревича влияние великокняжеского начальника службы безопасности оставалось так велико, что у Миколы, Миколиного сына не оставалось сомнений, что он сумеет создать своей повести такую информационную поддержку, такой, как сейчас бы сказали, пиар, что она наверняка дойдет до потомков. (И старый «пиарщик» оказался прав: история о Коловрате дожила уже до XXI века.)
И последний, четвертый, довод совсем уже не несет под собой никакой фактологической основы, но лично мне он кажется главным: старец Пафнутий и написал свою мизантропическую, направленную против современных ему русичей повесть потому, что сразу же после подвига Коловрата еще молодой Микола, Миколин сын и помыслить не мог ее написать. Создание Пафнутием своей рукописи, возможно, было его попыткой, во-первых, «восстановить баланс правды» и показать и темную сторону истории о Коловрате, а во-вторых, перед своей смертью отомстить тем малодушным потомкам-русичам, которые «прогнулись» под врагом, убивавшим их отцов и матерей, и до конца жизни заточили в монастырь его, булгарина Миколу, которой верой и правдой служил своей новой Отчизне.
И тогда парадоксальным образом круг замыкается. Если историю о Евпатии Коловрате «насадил» в русском фольклоре один-единственный человек – начальник службы безопасности и контрразведки, имевший независимую и ярко выраженную политическую позицию, многие годы занимавшийся в том числе и формированием «правильного» общественного мнения и к тому же обладавший незаурядными литературными способностями, – а не коллективное сознание нескольких поколений людей под воздействием какого-то большого, общеизвестного события, вновь возникает вопрос: а существовал ли Евпатий Коловрат в действительности?»
Пьяные кутёнки
Железнодорожно-провинциальная повесть
…да порою серафимы раскричатся по весне.
Машинист и сам не знает, что везет тебя ко мне.
Борис Гребенщиков. Великая железнодорожная симфония
От редактора
По всей видимости, автор «Пьяных кутенков» не стал раскрывать в той или иной мере скрытые аллюзии, изобилующие в тексте книги, полагая своего читателя человеком, хорошо знакомым с произведениями мировой литературной классики. На наш взгляд, такой подход может лишить широкий круг читателей немаловажных смысловых оттенков повести. Следуя этому убеждению, помимо авторских к тексту добавлены редакторские примечания.
I
По всей Смоленщине нет кокаина – это временный кризис сырья.
Ты не узнаешь тех мест, где ты вырос, когда ты придешь в себя.
«По дороге в Дамаск»
Когда отряд въехал в город, было время людской доброты.
Население ушло в отпуск, на площади томились цветы.
Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня.
Часы на башне давно били полдень какого-то прошедшего дня.
«Капитан Воронин»38
С.Я., когда он еще на вокзале
Лавки реечные пустые, и перрон пустынный. Из розового кирпича здание вокзала тоже казалось, что его полость – серая, огромного объема, с высокими стеклами – тоже нет людей, но С.Я., когда проходил через нее на свой поезд, видел, что всё нормально.
А небо было синее-синее, а все остальное, что под его чертой, подкрашивалось оранжевым – горячим (было 19 августа), добреющим. С.Я., покуривая из тамбура, опершись о стенку тамбура, глядел: а) на лавки, перрон и здание вокзала; б) периодически вбок на воздух перрона, пытаясь разглядеть струящееся кверху марево (как иногда дома над газовой плитой). Но марева не было – ведь было не так жарко…
Уездный город, в котором стоял поезд, из которого курил С.Я., был для С.Я. родным. Июня, 26 отщелкнулся университет – теплая огороженная колыбель в затемненной комнате. На два летних месяца С.Я. пропал из поля нашего зрения, и вот теперь он запрыгнул в него снова, очутившись в плацкартном поезде «… – Москва».
Да, С.Я. ехал именно в Москву, ехал (“O, pardon, c’est…”39) покорять столицу. Журналистом – С.Я. будет журналистом: серого цвета, гибкий и ускользающий. Будет сразу везде, будет знать всё; будет как Домников, Щекочихин и Политковская40 – только живой – и немного как Елена Трегубова41. В результате – неуязвимость и, в разреженной размытой вышине с отключенным звуком, в беззвучном порывистом ветру – слегка высокомерная улыбка сверху на холмы Семи Холмов. И Москва станет безвредной, прирученной и послушной (С.Я. это надо для одного дела ;-))
С.Я. щелбаном запускает окурок кувыркаться (ведь двери совсем уже вскоре закрываются), делает так называемый прощальный взгляд (потом понимает, что это подстава, что ностальгии он не чувствует; «При удачном раскладе я ее потом почувствую», – думает С.Я.) и, преждевременно переваливаясь, идет по узкому проходу к своей плацкартной кабине. «..!» – тихо вырывается у С.Я. и он за что-то хватается, когда поезд через толчок трогается.
На самом деле, С.Я. ничего не забыл с того момента, как…
Серафим. Гамбург
…электричку тряхнуло, и она пошла тише. Серафим подумал, что скоро его станция, достал сверху рюкзак, убрал в него газету и вышел в тамбур. Оказалось, он обманулся: электричка уже долго так медленно катилась, а станции все не было.
Серафим, поставив рюкзак на пол и прислонившись к стенке тамбура, разглядывал проплывавшие в окне деревянные домики. В тамбуре было сумрачно и прохладно, а снаружи светило солнце и проплывали зеленые деревья. «Здесь, наверное, хорошо бы писалось», – подумал Серафим.
Перед самой остановкой перед глазами Серафима проплыли шагающие Кот и Сарыч. Серафим сошел по трапу, они поздоровались, спустились с насыпи и пошли через луг.
Далеко впереди виляла полоса деревьев. «Вероятно, там река», – подумал Серафим. Они шли по тропинке через луг, и Кот рассказывал ему последние новости. Серафим смотрел на высокую колышущуюся траву, щурился от солнца, нюхал теплый, настоянный на травах воздух и думал, что природа, конечно, лучше города.
За деревьями действительно была река. В этом месте она была очень мелкая. Из воды торчали наложенные большие камни, и самодельный поручень – длинная кривая жердь – был только с одной стороны. Они осторожно прошли по камням, чтобы не замочить ноги, поднялись на другой берег, и открылся похожий луг и домики деревни вдалеке. На лугу стоял брошенный комбайн.
– Это Гамбург? – спросил Серафим.
– Да, – ответил Кот.
II
…но мы идем вслепую в странных местах,
И все, что есть у нас – это радость и страх,
Страх, что мы хуже, чем можем,
И радость того, что все в надежных руках…
«Сидя на красивом холме»
Я родился уже помня тебя, просто не знал, как тебя звать.
«Там, где взойдет Луна»
На С.Я. нахлынывают воспоминания детства
«Ну, началось!» – с шумом и грохотом проскакивает в темноте эсъяшной головы и моментально ускакивает, когда поезд через толчок трогается. И сразу проявляется перед глазами лежак напротив, и сеточная полка (о, сеточная полка!), и второй ярус (о, мечта детства!), выкладной столик, белые шторки-ж/д, массивные шпингалеты на окнах; мягкий под самым низом железа проход в вагоне и в конце него, в тупике, – самовар («Не найдется ли у вас свежего кипятку?»).
Воспоминания детства, конечно же, в замершей тишине вдруг сверху обрушиваются на С.Я., как водопад. Второй ярус – и маленький, а на всех сверху; красный самосвал с огромными белыми колесами; молодые мама и папа внизу; а там море; и сахар по два кубика в синей пачке с поездом, и сохранить его обязательно до дома; и проводник, весь в синем, как сахар, и в фуражке; и чай в подстаканнике – горячий, наверное вкусный…
Лежак проявляется в глазах С.Я. С.Я. глядит. Глядит. Немного не понимает. Заглядывает за туда. Железо неновое, нечисто: грязно, обычно. За стенкой впереди женщины увядающие накрашенные целлюлитные громко паскудно разговаривают втроем.
– А сейчас-то что? – задает С.Я. – Что сейчас?
– Выбери главное и бей в лоб, – отвечает себе. – Сегодня первый день твоей оставшейся жизни.
– Стра-ашно! – говорит С.Я.
Еще бы не страшно, С.Я.! А кому не страшно?
«Скорей бы пчелки прилетели!» – думает С.Я. и усмехнулся, отворачивает голову шеей в окно и начинает смотреть на проносящуюся снаружи зеленую жизнь.
Серафим. Баня
Серафим забежал в предбанник и поплотнее прикрыл за собой дверь. Ребята уже раздевались и смеялись. Серафиму тоже было смешно смотреть на чужие неожиданно белые задницы и семейные трусы. Он тоже разделся. Ребята принесли магнитофон, и играло радио.
В самой бане стоял влажный пар. Серафим закрыл за собой дверь, постоял, почесался, протопал ступнями по мокрому полу и сел на лавку. «Что-то тут не очень жарко», – сказал он. «Подожди, сейчас разойдется», – ответил крупный Пух, открыл заслонку и, сощурившись, плеснул в печку холодной воды.
Повалил обжигающий пар. «О-о!» – сказал Серафим. «Ты сначала помойся, – сказал Кот. – А потом я по тебе веничком пройдусь». «Не, я не люблю», – ответил Серафим.
…Серафим лежал на полке и громко весело ругался матом. Кот хлестал его березовым веником и что-то приговаривал. Маленькие березовые листья падали сверху под взглядом Серафима и липли к полу.
Девочки остались в доме делать ужин. Когда ребята уходили, Тёма сказал: «Вы пойдете второй партией. Я для вас все приготовлю».
«А эта Саша ничего», – вспомнилась раскрасневшемуся, распаренному Серафиму одна из девочек в доме, пока Костя «Кот» Харченко хлестал его веником.
Сначала, когда Серафим только приехал, он молча сидел, курил, улыбался и на всех смотрел. Он здесь никого, кроме Кости, не знал. Потом, когда он освоился и втянулся в разговор и веселье, они с этой Сашей несколько раз, вслух, одновременно, совершенно неожиданно продолжали начатые друг другом фразы. От неожиданности даже переглядывались. «К тому же, не каждый может оценить шутку, что оксюморон42 – это когда мило картавят», – втайне самодовольно подумал Серафим.
– Слышишь, Кость, как тебе эта Сашка – ну, одноклассница твоя? – прокрякал Серафим, слегка ошалевший от ударов веником.
– Ганская43 что ли? А, карьеристка… – выдохнул Кот, продолжая методичную экзекуцию. Серафим, будучи в чрезвычайно благостном расположении духа, хотел было что-то по этому поводу подумать, но поленился.
«Сейчас придем, чайку заварим… – сказал Кот, выбивая последние штрихи на Серафимовой спине. – Там Митя Лизкин, вроде, каркаде привез. Ты любишь каркаде?» «Это с лепестками роз, что ли?» – спросил Серафим44. «Да», – ответил Кот. «Я сейчас всех люблю», – сказал раскрасневшийся, вконец разомлевший Серафим.
iii
Я устал пить чай, я устал пить вино,
Я забыл все слова, кроме слова «говно»…
«Немое кино»
В Ипатьевской слободе по улицам водят коня.
На улицах пьяный бардак;
На улицах полный привет.
«Не пей вина, Гертруда»
Автор опускает С.Я из-за девки
Разгорался по небу приятно-марганцовочный закат, а С.Я. летел в поезде все дальше и дальше.
Милая моему сердцу среднерусская полоса, как ты мне дорога! В твоих провалах между двумя безымянными станциями сколько скручено энергии! Люди здесь не видят модноты, а потому живут не прервав старое и не ведают, что творят новое…
Хотя пусть лучше С.Я. расскажет, как он один в купе-то оказался.
– А х… его знает… – отвечает. – От меня часто люди отсаживаются. Зато над душой никто стоять не будет45.
А ту-то, в соседнем кубрике, видал?
Еще бы С.Я. ее не видал! Полулежит, пизденкой лицом к С.Я., книжку читает (С.Я. поглядел на нее, когда из тамбура курить ходил возвращался). «Уж, верно, не Джона Барта46 ты читаешь!» – зло подумал тогда С.Я.
Пизденка-то у нее больно хороша, думает С.Я. Выпуклились две половинки, натянули атласненькие беленькие шортики, а посерединке их шортики врезались. Вот бы рукой забраться под них, потрогать, есть ли под ними белые трусики…
Еще бы нет, думает С.Я. Ведь с ней мамашка и папашка ее. Они не позволят.
А если нет – погладить под ними крепкие бедра, приятную прохладную попу… Соски-то под белой маечкой как глядят… Груди у нее крепкие, как два яблока, упругие. Лежит, сука, скучает. Выебать б ее до полусмерти, тварь, чтоб орала…
Так в чем дело, С.Я.? Сходи к ним, спроси соли или типа того. Скажи, какие вы все тут, бля, загорелые…
– Ага, у нее вон папашка какой – поджарый, в шортах, со щетиной, весь спортивный такой. Он что, дурак что ли? Да и сама она, проститутка… Ей знаешь каких подавай? Чтоб задорого ее купили, чтоб перед подружками потом хвастаться…
Придурок ты, С.Я.
Серафим. Вечеринка
Пух, Тёма и Сарыч решили сфотографироваться голыми. Они обнялись, закрыли срамные места старыми виниловыми пластинками, которые на Тёминой даче валялись во множестве, Пух надел шляпу, и Митя Лизкин их щелкнул. Серафим сидел в голубых джинсах, босой, голый по пояс на древнем диване, прислонившись спиной к стене, потягивал пиво и смеялся, глядя на них.
За окном начался дождь. В дом вбежал Кот и спросил: «Фим, у тебя есть зонт?» «Есть, – ответил Серафим. – А тебе зачем?»
…В темноте, под проливным дождем, Кот, мокрый насквозь, переворачивал шашлыки, а Серафим держал зонт над мангалом, чтобы не залило огонь. Зонт еще долго после этого приятно пах костром. Шашлыки потом ели все вместе, очень весело.
…Серафим сидел со скучающим видом, подыгрывал себе на гитаре и в сотый раз старательно выводил голосом:
Хорошо бродить по свету
С толстым х…ем за щекою,
И еще один для друга
Взять с собою про запас…
Его попросили что-нибудь спеть, а что-то серьезное он петь не хотел, поэтому и вспомнил песню поглупее. Саша встала перед ним – низенькая, раскосая от «Киндзмараули» еще больше, длинные, до поясницы, русые волосы распущены. Смотрит лукаво, улыбается, глаза горят, облизывается от сладкого вина. Зажала струны рукой.
IV
Машинист зарубает Вивальди,
И музыка летит меж дерев.
В синем с золотом тендере вместо угля –
Души тургеневских дев.
«Из Калинина в Тверь»
Екатерина-с-Песков у нас считалась звезда,
Пока заезжий мордвин не перегрыз провода…
«Нога судьбы»
С.Я. глядит на земляков
Как красна Марфуша сидит С.Я. на нижней полке, вставив локоть в выдвижной столик, подперев щеку кулаком, отвернув голову в окно. Зеленый железный «… – Москва» длинно затормозил, встал как вкопанный, сбросил мышечные зажимы и долго выдохнул. Теперь стоял, продыхивался, восстанавливал дыхание. Вот постоит, чуть восстановится – и опять побежит, за собой потащит, профессионально шумно выдыхая. Теперь же стоял, потряхивая мышцами, – самовлюбленный, самоуверенный и недовольный, – но силы копил: был-то ведь опытный…
Сверху-наискосок-вниз лился отзревающий оранжевый свет заката и приземлялся на чужую обычную безымянную станцию. Ранее незнакомые С.Я. люди входили в здание чужого вокзала, выходили из него, проходили под окнами внизу. «Они какие-то другие, – думает С.Я, – не то, что у нас. А ведь тоже, бля, земляки… россияне!»
Серафим лабает
В доме темно. Свет падает сверху в окно от фонаря на улице. Серафим поет серьезные песни, а все его слушают. Хотя почти все уже подремывают.
Серафим пел «Белую гвардию».
Когда ты вернешься, все будет иначе,
И нам не узнать друг друга.
Когда ты вернешься…
А я не жена и даже не подруга.
Когда ты вернешься
Ко мне, так безумно тебя любившей в прошлом…
Когда ты вернешься,
Увидишь, что жребий давно и не нами брошен.
И Серафим увидел, что Саша плачет. И смотрит на него такими глазами… «Вот это я дал…» – подумал Серафим. Он, конечно, знал, что хорошо поет песни, так проникновенно, умеет вживаться – но чтоб заплакать… Такого он еще ни разу не видел. Серафим очень приятно удивился.
V
Я назван в честь цветов Йошивары.
Я был рожден в Валентинов день.
«Цветы Йошивары»
И может быть, город назывался Маль-Пасо,
а может быть, Матренин Посад.
Но из тех, кто попадал туда,
еще никто не возвращался назад.
«Капитан Воронин»
С.Я. задремал
Дрема накатывает на С.Я.... Полки и стенки мешаются, зеленый и блестящий сливаются в третье. Может, укачало, может, колеса настучали. Все равно один в кабинке едет. Переволновался, наверное.







