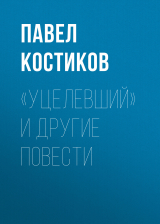
Текст книги "«Уцелевший» и другие повести"
Автор книги: Павел Костиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Уцелевший
19 июля 2018 года в большинстве российских и некоторых зарубежных СМИ появилась новость о том, что при проведении работ по капитальному ремонту в Иоанно-Богословском монастыре в Рязанской области в стене одной из келий был обнаружен тайник. В нем находилась рукопись, предварительно датируемая серединой XIII века, подтверждающая существование Евпатия Коловрата как реального исторического персонажа. Внутри стены чудом сложился благоприятный микроклимат, и текст на одной тетради из подшитых палимпсестов1, для экономии места написанный без полей и не сопровожденный миниатюрами2, удалось восстановить.
Монголо-татары разоряли Рязанское княжество не единожды, но Богословскому монастырю, в котором нашли сенсационную рукопись, каждый раз удавалось уцелеть. Обитель оказалась вдалеке от основных путей передвижения татарских войск, и если первое время монголы еще опасались трогать «шаманов» северной страны в их храмах, то в дальнейшем они благоразумно не стали посылать в нее отряд, чтобы его не перебили скрывавшиеся в лесу ополченцы. Возможно еще и то, что монастырь, построенный в глухом мещерском бору, попросту не стали искать.
Найденная в обители рукопись создана одним из нескольких уцелевших соратников Евпатия, которым татаро-монгольский хан отдал тело убитого Коловрата, по версии древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем», в знак уважения перед мужеством русских воинов, вступивших в схватку с заведомо превосходившими силами противника.
Эпизод о Коловрате входит в «Повесть о разорении Рязани Батыем», которая в свою очередь содержится в единственном сохранившемся от рязанской литературы того времени памятнике – своде относительно самостоятельных произведений, созданном и пополнявшемся при церкви Николы в городе Заразске Рязанского княжества3 с XIV по XVI века. Исследователи, утверждающие, что Евпатий Коловрат – вымышленный фольклорный персонаж, опираются на следующее: история о нем встречается только в «Повести о разорении Рязани Батыем», ни в одном другом древнерусском тексте упоминания о Евпатии нет. Более того, в ранних списках Заразского свода нет и самого эпизода с Коловратом.
Дело в том, что в старину центрами грамотности были церкви и монастыри. Книгопечатания еще не существовало, и, чтобы обитель могла иметь у себя необходимый текст, его переписывали вручную. Как это бывает и при устном пересказе, при переписывании художественного текста монахи часто изменяли его согласно собственным убеждениям и текущей политической ситуации. Последующий переписчик, соответственно, изменял текст, уже «актуализированный» его предшественником. Так, например, житие святых мучеников Бориса и Глеба, одно из наиболее читаемых произведений на Руси, дошло до нас более чем в 250 списках.
На сегодняшний день известно 34 списка «Повести о разорении Рязани Батыем». Первые из них относятся к началу XIV века, и в них нет ни истории о перенесении чудотворной иконы Николы Заразского, ни плача Ингваря Ингваревича, ни вставной новеллы о подвиге Евпатия. К середине XIV века в списках уже встречаем добавленную историю о Заразской иконе, а к рубежу XIV-XV веков впервые появляется история о Коловрате. Этот факт дополнительно подтверждает то, что история о Евпатии, внешне носящая фольклорные элементы, была привнесена в «Повесть…» из устных народных преданий одним из позднейших переписчиков.
Некоторыми исследователями называется и причина внесения патетической истории о мужественном сражении русского православного воина с безбожными татарами. Предполагается, что она как нельзя кстати пришлась именно в XVI веке – времени походов и окончательного завоевания Иваном Грозным Казани. Более того, лишь к этому времени простой русский человек мог в действительности уверовать, что татаро-монгольское иго можно свергнуть. В XIII веке Русь была подавлена, деморализована захватчиками и, как показывает история, не смогла родить ни одного серьезного литературного произведения. Найденная же в рязанском монастыре тетрадь стала весомым доказательством того, что история о Коловрате не была придумана народом, а происходила в действительности: автор этого текста называет себя одним из немногих уцелевших воинов из отряда Евпатия, которым Батый отдал его тело.
Как уже упоминалось выше, на сегодняшний день известно несколько списков «Повести о разорении Рязани Батыем», содержащих «каноническую» истории о Коловрате, однако обнаруженная рукопись – это абсолютно иное по стилю произведение не только о легендарном богатыре, но и для всей древнерусской литературы в целом. Результаты палеографического4 и радиоактивного5 анализов находки были опубликованы почти одновременно – спустя четыре месяца после обнаружения тетради – и подтвердили то, в чем у ученых изначально не было сомнений: текст действительно является памятником середины XIII века, а не более поздней подделкой. Этот факт еще раз доказывает то, что Русь до татаро-монгольского нашествия уже обладала самобытной и высокой культурой. Причинами того, что текст Миколы-Пафнутия по стилю так разительно отличается не только от современных ему, но и от последующих произведений древнерусской литературы, исследователи считают то, что рукопись создана фактически не священнослужителем, всецело зависящим от церковных и светских властей и впитавшим русский литературный канон, а, во-первых, булгарином6 царских кровей, аманатом7, юридически подданным другого государства, а во-вторых, начальником службы безопасности и контрразведки Рязанского княжества, с юных лет привыкшим к самостоятельности и независимости суждений.
Вкратце напомним содержание «Повести о разорении Рязани Батыем». «Въ лето 67458 прииде безбожный царь Батый на Русскую землю» со множеством воинов, встал на реке Воронеже «близ Резанскиа земли» и запросил десятую часть «во князех, и во всяких людех, и во всем». Владимирский князь в помощи рязанцам отказал. Тогда великий рязанский князь Юрий послал к татарам с дарами сына Федора, чтобы Батый «не воевал Резанския земли». Батый «притворно» это пообещал, но стал просить у рязанских князей9 дочерей и сестер «собе на ложе». «Некий от велмож резанских» донес монгольскому хану, что жена Федора «лепотою-телом красна бе зело». Федор от лица христиан водить жен к Батыю отказался, и хан велел перебить рязанское посольство. Жена Федора, услышав об этом, бросилась с сыном с «превысокаго храма». Великий князь Юрий собрал войско, пошел на Батыя и стал мужественно биться с ним около рязанских границ, но погиб вместе с несколькими другими рязанскими князьями. Батый разорил Пронск, Белгород Рязанский, Ижеславец и осадил Рязань. На 6-й день противостояния город пал, и татары не оставили в нем ни одного живого.
Рязанский вельможа Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове. Услышав о нашествии, он с «малою дружиною» помчался в Рязань. Увидев разоренный город, «Еупатий воскрича в горести душа своея и разпалаяся въ сердцы своем», собрал «мало дружины» – 1700 человек, которых «бог соблюл вне града», нагнал татар, внезапно напал на них и начал сечь их «без милости». Татары, помня, что в городе не осталось ни одного живого, решили, что мертвые восстали и мстят им, и запаниковали. Пятеро с трудом захваченных русских пленных, «изнемогших от великых ран», поведали монголам, что они «от полку Еупатиева Коловрата». Батый послал биться с Евпатием один на один богатыря Хостоврула, но Коловрат «рассек его на половины до седла». Тогда татары стали стрелять по Евпатию из камнеметных орудий и едва смогли его убить. Батый отдал «тело Еупатево его дружине останочной, которые поиманы на побоище» и велел их «отпустить, ничем не вредить».
Рукопись, написанная одним из этой «дружины останочной», сначала вызвала большое воодушевление, так как явилась доказательством того, что история о Евпатии не была рождена безымянным коллективным сознанием народа, а происходила в действительности. Однако, когда волнение улеглось и ему на смену пришло планомерное научное изучение литературного памятника, этот факт стал все больше подвергаться сомнению.
Однако обо всем по порядку. Приведем сначала текст найденной рукописи, в современном изложении10.
А повесть сею пишу я, смиренный монах Пафнутий, сидючи в келье своей в Богословском монастыре в княжестве Рязанском в лето 676511. Не ведомо, сколь еще Господь отпустит мне веку, сколь еще землю мне топтать и хлеб монастырский жевать, да только чую я, что конец мой приходит. Привиделось мне намедни странное: будто детство мое, и утро раннее, и играюся я у нас дома во внутреннем дворе у фонтана, а батька мой вышел и смотрит на меня – улыбается, радостный, и солнце ему, радостному, глаза слепит. Никогда такого и не было вовсе: угрюмый он всегда был, никогда дома от дел и не бывал, почитай, а когда и был, не смотрел на меня, лишь изредка. А тут проснулся я утром в келье своей, солнце в глаза бьет, а я радостен, да плачу, слезы ручьями по щекам текут, а мне так легко вдруг на душе стало… Тут и понял я, что это батька покойный меня к себе зовет: заскучал ли, про меня вспомнил… И сделалось сразу мне так легко, и стал я в дорогу собираться. Стал поститься да читать молитвы покаяния. Игумену сказал, что исповедаться хочу. Брехались мы до того с ним нещадно, не терпели друг друга, а тут сошлися, аки братья во Христе, и покаялся я, как полагается, а отец Игнатий покаяние мое принял да грехи мне отпустил.
Причастился я после того, на милостыню оставил хорошо и стал ждать смерти. А она все нейдет. «Дело, может, тебя какое держит?» – спрашивает игумен. Стал я думать. Пожалуй, что и так. Сидит во мне горесть, нет мне покою с того, что сойду я в могилу и унесу с собою то, что собирал с усердием и кропотливостью всю жизнь. Ныне люди живут, как рабы, жизни иной не ведают, а мы жили, как последние свободные люди, о жизни такой собачьей и помыслить не могли. Сейчас каждый стремится угодить татарину, робость пред ним великую имеет, а мы еще сражалися, еще рубили их, окаянных, и была нам в том радость и свобода. Да только кого ж в том винить, что дети наши и внуки живут, как рабы? Сами мы в том и виноваты. Наказание это нам за грехи наши, а всего более – за гордыню. Не захотели сплотиться пред лицом врага единого, каждый свою гордыню лелеял, вот и получили по заслугам. Встанет ли еще Русь, иль вскоре сотрется и сама память о ней?
Об этом, получается, и хотел я поведать, это мне покою и не давало, да только кто ж мне даст? Ингварь12 этот бестолковый как засадил меня сюда, так и сижу тут взаперти уж 18 лет, да и церковники все за князьков этих новых, тож за животы свои трясутся да чтобы хлеб их у них не отымали… Как пришли татарове в лето 674713 опять на Русь и Рязань тож вдругорядь разорили да после того совсем уж нас под пяту взяли, Ингварь этот, как из Орды вернулся14 да как понял, что уж я-то стелиться пред татарвой не буду да и действия свои по-прежнему кой-какие предпринимаю, сам ко мне пришел. Тут уж, поди, вспомнили, что самолично я на Батыгу15 ходил, что видел его пред собой, как вот Ингваря сейчас, и что, если б дали, бросился б из последних сил на эту собаку татарскую и задушил б его своими руками! Ты-то, Ингварь Ингваревич, тогда в Чернигове отсиделся, когда мы с Евпатием кровушку свою в болотах у Плещеева озера проливали, оттого к тебе у татарвы спросу и не было…
Не один – уж надо думать! – Ингварь тогда ко мне пришел, а с охраной своей скромной. Вошел-то ко мне в палаты один, да уж позаботился до того, чтоб я дружинников его увидал. Ну и вроде как по-хорошему попросил меня побыть малость в Богословском монастыре, пока татарове лютовать перестанут. То, что побыть мне в нем придется вовсе не малость, понял я сразу, когда предложили мне принять монашеский постриг. Поползал после того я немного на пузе и стал прозываться Пафнутием16. Знамо дело, не был бы я талем, царских булгарских кровей, со мною бы вообще разговаривать не стали: Ингварь этот осторожный давно б уж приказал меня для верности по-тихому жизни лишить. Недаром, князь, Господь тебе детишек не дал: выстлался ты под иноземцами проклятыми да отчизну свою на разграбление им отдал. В лето 676017 Олега Красного с Орды отпустили; мелькнула у меня тогда мысль к нему на службу попроситься, да плюнул: уж не для того он чрез 14 лет из плена вернулся, чтоб мятежи подымать18. Так и вышло: в этом году, мне уж пересказали, татарские численники у нас перепись учинили, чтоб сподручнее было с нас дань тягать. Церковников вот, правда, считать не стали… Дань-то ладно – ратников у нас стали брать для войска своего поганого! А то, что чернецом да схимником ты стал, Олег, думаешь, поможет тебе пред лицом Господа нашего?!. Тьфу, проклятые! Тошно мне с вас… Так вот 19-й год здесь и сижу…
Как бы там ни было, а решил я, что буду писать, а рукопись прятать буду. Найдут да отымут – так тому и быть: значит, таков промысел Божий, а коль не найдут и успею я изложить все, что хочу, так узнают потомки правду о жизни нашей, о временах минувших. Тех, кто книги богослужебные переписать может, и ране было раз, два и обчелся, а уж с почерком, как у меня, и подавно, а теперь во всем княжестве Рязанском нас по пальцам перечесть можно. Помню, как потешались надо мною княжеские прихвостни, что я, как чернец какой, неделями над книгой сидеть могу, сам ее переписывать, на что я им при Ингваре Игоревиче и ответствовал: «Что ж, стало быть, вы и князя Волынского Владимира Васильевича чернецом назовете? Раз он, глаголящий так ясно от книг, будучи философом великим, не гнушается их собственноручно переписывать да в храмы и монастыри вкладывать, стало быть, и нам не зазорно то должно быть». Вот и вышло, что нужен я игумену оказался. Кто ж ему кроме меня хоть главные книги для богослужения и монашеского делания восполнит? У него ж нет ничего… Вот и переписываю для него, как полагается, по телятине в день, а что кож19 на самом деле больше уходит, чем я назад исписанных отдаю, не говорит мне ничего. Либо не понимает, либо заботами о животе своем боле занят, либо глаза на то закрывает: лишь бы я книги множил. Но и я стараюсь не наглеть – пишу на палимпсестах, без полей и для миниатюр места уж не оставляю: сохранился б труд мой хоть так… Список иконы Николы Заразского разве что вот в келью себе испросил. Поднял на ней руки Никола, будто от врагов меня да и всех людей русских оберегает… Хоть и не проверяют меня, а все ж пишу из опаски все более ночами: все равно сон ко мне, старику, уж давно нейдет – да прячу шкуры в выемку в стене. Не ведомо мне, кто тут до меня обретался, но сделал он хитро так, что кирпич один вынается, а за ним лакуна некая сделана – узкая, но кожи спрятать можно. Так и пишу, ночами, и жизнь моя вся будто проходит предо мною заново…20
Булгарин я по роду-племени, да царских кровей к тому ж. Взял меня о тринадцати годах Юрий Всеволодович Владимирский талем, чтоб булгары на землю русскую войной ходить не помышляли, да передал сразу Ингварю Игоревичу Рязанскому, который о ту пору рядом оказался: говорили, недосуг тогда какой владимирскому князю был. И хоть ходили потом булгаре на Русь, да только русские вперед них на булгар сами ходили, да не единожды. Оттого, думаю, про меня будто бы и забыли. А скорее всего, и впрямь забыли, ибо не нужен я тут был никому. Узнал я потом, что невзлюбил новый царь булгарский отца моего, брата своего двоюродного, и когда запросил владимирский князь, по обычаю, талей из царской семьи, рёк так: «У тебя жена плодовита – молода еще, а уж шестым на сносях – вот и отдай на Русь кого из твоих сыновей». Знаю, что мать плакала, а почему меня из всех братьев отдали, мне не ведомо. Отец с матерью приезжали на Русь после того с послами булгарскими два раза. Виделись мы на пиру, да поговорить толком нельзя было. Отец все сух был, ибо не в стать булгарскому воеводе слабость свою показывать, а мать только плакала, да на меня смотрела, да руки тянула. Она еще потом, после отцовской смерти, умудрилась как-то на Русь попасть, да только меня о ту пору не было: уехал я с Рязани в Киев учиться, а мать про то и не знала…
Владимирский князь так про меня и не вспомнил, а Ингварь Игоревич напоминать ему не стал. Отдали меня мамкам да нянькам, и стал я содержаться вместе с другими детьми у него при дворе. Имя мое спросили, да только выговорить не смогли; показалось кому, будто на Миколу похоже. Оттого плюнули и после крещения стали называть Миколой, Миколиным сыном.
Ничего от меня у князя при дворе не требовалось, да только само как-то вышло, что сызмальства стал я показывать успехи в ратном деле, а более всего в науке книжной. И давалось мне то легко, будто играючи. Заметил то великий князь и послал меня учиться в Киев, а после того еще много куда. Говорили ему еще тогда: зачем ты, князь, пригрел на груди змееныша косоглазого – вражеских он кровей, булгарских, вырастишь татя-шпиона21, пригреешь у себя на груди, а он, гляди, когда меньше всего ждешь, и укусит. Но вера мне отчего-то была от князя великая, не слушал он наветчиков, и возлюбил я его всем сердцем, отцом его вторым почитать стал.
Как отучился я в Киеве да и в других местах побывал, поступил я к князю на службу. Доверял мне князь, и я верой и правдой ему служил, и стал он со временем давать мне такие загадки, которые не каждому боярину иль воеводе даст. А надобно сказать, что было мне о ту пору всего 22 годка. Во внуки я его боярам, воеводам да церковникам брюзглым годился. И косоглазым меня прозывали, и татем, и нехристем – а мне все едино было. Не было во мне тогда страха, будто выжегся он здесь, на чужбине, разом, будто остался там, в моей далекой родине, вместе с родными моими да моим детством. Языков я уж к тому времени порядком знал, с людьми разных племен общался едино, ни пред кем предпочтенья не делал, связей с отчизной булгарской не имел да на Руси интересов ничьих не придерживался. А память имел – что твоя вивлиофика: раз бумагу какую увидал, так и много времени спустя мог сказать, что там написано было. Потому-то и стал я понемногу ведать у Ингваря Игоревича, какие народы могут княжеству нашему угрожать, кто из других князей замыслил противу Рязани чего недоброе да где заговор какой против князя зреет. Жизнь не раз ему спасал. Говорили про меня, что колдую я, а я только загодя ко всему готовился, с людьми разными разговаривать умел да выводы потом верные делал. Доступ к казне, почитай, имел полный да в расходах не скупился, оттого подловить меня пытались не единожды, да только я смеялся: не нужны мне были их деньги.
По моему разумению, первый я тогда во всем княжестве Рязанском понял, какая нам от татар поганых беда придет. Русские же князья да и наш Ингварь Игоревич о ту пору дальше носа своего видеть не хотели: все только о своих престолах пеклись да помышляли, как бы чужой захватить. С половцами кое-как за два века справились и успокоились, в мелочные раздоры свои вступили. Сначала жить особо захотели те, до кого половцы и не докатывались никогда – Новгород да Псков. После того обособились Галич, Волынь и Чернигов, а за ними и все остальные. А я уж задолго до Калка22 про монголов все вызнавать начал да князю нашему докладывать, да только не слушал он меня.
Давно я ему еще говорил, как мне рассказывали пленные половцы и булгаре да доносили купцы азиатские подкупленные, что разрослись да осмелели монголы при своем царе Чагонизе23. Перебил Чагониз в отместку за отца своего всех татар кроме детей, что были ниже тележного колеса, после чего прозванье то перекинулось на самих монголов. После того пошли они войною на китайцев, коих была тьма несметная, как саранчи, да перебили до половины из них, а ремесленников их искусных в плен увели. Монголы тем еще сильны, говорили, что перенимают у племен покоренных лучшие их умения. Пороки те камнеметные24, что они до нас по снегу на полозьях дотащили и страху у нас тут ими навели, они у китайцев взяли. А мы-то в Рязанском княжестве, хоть и громили половцев постоянно, татар этих и в глаза не видели. Ни оружия их не видали да на себе не пробовали, ни повадок их военных не знали, а меж тем они сами у нас тут на Руси 14 лет назад побывали да все высмотрели: Джебе с Себядяем одноглазым по приказу Чагониза25 приходили да на Калке нас разбили26.
Говорил я князю, что выпытал у послов монгольских, что хочет Батыга аж до моря Понтского27 дойти, да чрез наши рязанские земли, да только смеялся князь над моими словами. «Как то может быть – столько верст пройти! Не можно этого одному человеку: уж где-нибудь, а споткнется…» Взяли после того монголы половцев, мордву, булгар, буртасов и аланов. Тут уж сбегов28 много пошло, особливо к князю владимирскому, да только и тут не захотели верить князья угрозе татарской.
Ничему их до того Калк проклятый не научил. Разломали их татарове по отдельности, как прутики от веника, да еще с таким позором! Сколько ж желчи в вас было, когда сек вас враг единый, а вы и пред тем козни друг другу чинили? Не то что договориться и ратью единой на монголов напасть – вы друг другу-то говорить не стали, кто что делать измыслил… Оттого-то и смяли тебя, Мстислав Святославич29, с сыном твоим Дмитрием свои же союзные половцы, когда татары нежданно свежими силами по половцам вдарили и они назад, к переправе, побежали. А тебе, князь киевский, спокойно там, за переправой, в своем стане укрепленном сиделось, когда видел ты все то, а на помощь черниговцам не пришел? Много ль времени прошло, как у самого тебя горло пересохло30 и поверил ты вражеской клятве, что, коль сдадитесь им на милость, крови вашей они не прольют? Как потешалась потом над тобой татарва, что клятву они-де сдержали: ни капли крови из вас не вышло, когда положили они на вас доски и сели на них пировать!
Сколько раз ходил я к тебе, Ингварь Игоревич, на поклон после Калка, просил города княжества Рязанского крепить, заставы ставить, а более того с соседями миритися да объединятися? Отмахивался ты от меня, думал, раз поворотили татары назад после Калка, то не придут вдругорядь? Не верил ты мне, что то лишь разведка была, что вернутся окаянные тьмою бесчисленной да Русь до основания и изничтожат. Так и вышло: пришел Батыга, Чагонизов внук, с Себядяем проклятым и поставил нас на колени.
Забоялся я, чего греха таить, застрашился я монголов, как только стали мне про них вести приносить. Никого я досель в жизни не боялся – а тут застрашился. Чуть не каждого пленного лично допрашивал, что ему о татарах ведомо. Недруги, уж знаю, сами потешаться надо мною начали да пред князем Ингварем Игоревичем на смех подымать, да только не трогало то меня. Зато они же потом и нашептывали Юрию31, будто это я наколдовал-накаркал по-своему, по-булгарски, когда и впрямь пришли татарове на Рязань.
Так не один я монголов боялся так. Как прочел я в одной летописи пред самым заточением своим, людям и хлеб во уста не идет от страха, как представят, что Батыга с повозками да вельбудами32 своими явится да под стенами у них встанет. Серапион Владимирский вон как молит народ покаяться… Да только прав он, нечего и сказать: наказание это Божие – за гордыню нашу, ни за что боле… Моисей, игумен Выдубицкого монастыря, на что уж многоумен был, и тот не сдержался, сам страху волю дал и на других его нагнал: брякнул вслед за Мефодием Патарским, что, по пророчеству Иезекиилеву, пришли последние дни наши, ибо татарове – суть дикий и кровожадный народ Гога и Магога, который заклепал в горах Александр Македонский. Долго я, признаться, думал, но решил-таки послать к нему человечка верного, с уважением превеликим, подарками и гостинцами от рязанского князя, будто бы по делу книжному, а на деле, чтоб не нагонял боле игумен на людей страху, и скончался тот чрез неделю от хвори неведомой, вдруг его охватившей. А все ж, по правде, жалко его: зело учен был игумен…
Много я думал, отчего это монголам уж, почитай, полмира удалось захватить. Каждого сбега, каждого купца, который хоть что-то про них мог знать, лично старался допрашивать. Говорили мне людишки, что родина у монголов зело сурова: морозы покрепче наших будут, а летом жара, напротив, тяжче. Так что зиму неспроста они выбрали, чтоб на нас напасть: реки и озера у нас замерзают, и по льду им легче идти будет, чем вплавь переплывать, нам же рвы пред крепостями в мороз копать сложней станет, да и замерзает потом вода в тех рвах иль снегом их заносит. Одежа же у монголов недоступна для стужи и влаги и состоит из двух сложенных кож, будто чешуя. Шубы еще могут иметь мехом наружу, а бывает и вовнутрь. Коль совсем уж лютый мороз настанет, могут и шубу на шубу надеть. И сапоги у них кожаные, без каблуков, и шлемы все боле тоже из кожи. Хотя многие для защиты себя в сече ничего особого не имеют и надевают на бой ту же одежу, что и всегда. Из оружия держат кривую саблю, лук и стрелы на четыре пальца длиннее наших. При колчане носят напильники для изощрения тех стрел. Некие имеют копья – кто обычные, а кто и с крюками для стаскивания врага с седла.
Домов они не строят, зерно не сажают – более того, презрение к тому имеют, кто, аки крот слепой, в земле роется. Живут же грабежом и насилием – то у них за доблесть почитается. Перекочевывают всю жизнь на лошадях с места на место по степям своим бескрайним, телеги со скарбом за ними едут. Шатры делают из жердей и кроют войлоком, а сверху оставляют дыру для света и дыма, ибо огонь разжигают прямо внутри, и некоторые из тех шатров разбираются, а другие прямо так на телегах за собой и возят, хоть когда и война.
Шатры же ставят редко, ибо все боле в седле находятся. Говорят, на лошади монголы больше времени проводят, чем на земле. Два дня могут в седле скакать, не слезая. Так и спят, и нужду справляют, и пищу приемлют. И делают то на войне иль в обычной жизни равно. Коли реку большую надо преодолеть, надувают свои меховые бурдюки и на них переплывают. Через меньшие же реки переправляются, привязавшись к хвосту своей лошади. Лошади их плавают, как рыбы, наружностью же малы, с головой грубой и растянутым туловищем, с сильно отросшими гривой и хвостом. Кони эти крепки и неприхотливы, часто питаются лишь тем, что сами отыщут: растения какие могут объедать, листья иль жнивье под снегом находят да копытами корни выбивают. Подолгу могут и вовсе оставаться без пищи. Монголы их не подковывают, а ездить могут на них и без седла. По горам лошади эти взбираются и скачут, как дикие козы, в бою же ужасны, ибо рвут зубами и топчут копытами и коней противника, и их седоков.
Хлеба монголы, как мы, не едят вовсе. Питаются боле мясом, кониной вяленой, лисиц, волков да мышей в походах едят, могут вшей с себя наскрести да тож в рот. Пьют молоко лошадей своих да вельбудов, а могут и кровь, если придется. Тело моют редко и вообще неопрятны. К блуду не склонны, бога единого не ведают, но суеверны сильно. Так, грехом большим считают пролить молоко иль другое какое питье на землю или дотронуться бичом до стрел. Когда же помирает один из них, то закапывают его тут же в землю, гроба не сотворив. Воров у них нет, и телеги да шатры не запирают вовсе. Промеж собой незлобивы, и сродственникам у них завсегда помощь. Другие же народы за людей не держат. Не считается у них зазорным обмануть иноплеменника, да чем вероломней то сделал, тем больше, значит, удаль твоя. Убьют чужого – и ничто в них не шелохнется. К женщинам своим уважение имеют, из иных же племен баб да девок унижать любят и насильничают их безбожно – груди им отрезать могут или живот вспороть.
В науке военной многоопытны, мудры и коварны. На вовсе не ведомый им народ нападать не станут – задабривают сначала купцов, которые торгуют с тем народом, и все про него вызнают. Так и с нами, наверно знаю, было. У самих же монголов, говорили мне, отроки идут служить уж в четырнадцать лет, а из армии воина высвобождают, когда настанет ему седьмой десяток. Это при том, что год они себе набавляют, ибо считают возраст человека, как зародился он в утробе матери. Какое место монгол в строю занял, такое уж у него до конца и будет. При том, в сражениях сначала гонят пред собой ясырей33. Коль поубивают всех пленных, вступают тогда уж в бой сами. А коль не рьяно идут ясыри в бой, убивают сами их тут же. Слыхал я, что до трех четвертей их войска пленными доходит. Бывает еще и так, что, ясырей вперед послав с малым числом от своих воинов, монголы обходят врага так далеко справа и слева, чтоб не видно их было, а потом замыкают круг и бьют противника разом со всех сторон. Вообще же честно в лоб всем войском идти не любят: чаще стремление имеют на части рать соперника разделить и превосходящими силами по отдельности их изничтожить. Бывает, что наряжают в доспехи отроков своих да женщин, садят их на коней и держат позади войска, чтоб враг подумал, будто больше у них воинов числом. Для того ж могут из чего попадется людей изобразить да на коней поместить. Бьются монголы в войске на десятки, сотни, тысячи и темены. Убоится же кто из десятка да побежит – вырезают весь десяток; так же весь десяток вырезают, ежели не освободили своего из плена. Сами же ханы монгольские да военачальники в сечу, как наши, нейдут: находятся на лошадях позади войска да управляют битвой, дают наказы войску – дым велят пускать, флагами махать, огни зажигать иль в барабаны бить. Побежать любят ложно, а как устремится за ними враг, растянется в длину, так разворачиваются они, смыкают ряды да растянутое войско и высекают. Сами же у себя за спиной врага оставлять боятся. Как доносили мне сбеги про Себядяя, покорил он в Персии некий город Хамадан. Перебил всех до единого, кого нельзя было в плен взять, а чрез несколько дней велел воинам вернуться и добить тех, кого тогда в городе не было, кто на руины вернулся. Слыхал еще, что, коль долго иной город держит осаду, но имеет внутри себя реку, запруживают монголы ту реку выше по течению, а потом рушат ту запруду и потопляют город. А когда надобно им пожар во вражеском городе произвести, берут жир от людей убитых, растапливают его и льют на дома – так полыхает у них огонь неугасимо. И когда донесли мне, что хочет Батыга докончить то, что дед его Чагониз начал – до самого моря дойти, взяв по пути и Русь, и угров34, и немчуру, – то не засмеялся я от самоуверства его, а напротив, убоялся сильно да Бога нашего единого Иисуса Христа молить впервые стал, хоть и не верил тогда в Него.
Хитрости и коварства татарских я всего более боялся. Ведь сподручнее ж им было сначала на южные княжества напасть! Нет, поняли, что на юге земли послабее, а у нас тут будет время силы собрать да объединиться. Или вообще бы южане с ними боротися не стали, а отступили бы, с нами соединились и мы бы оттого еще сильнее стали. И когда Федора, сына князя Юрия, Батыга убил, понял я, что неспроста то. Не нужна ему была ни Евпраксея, как у нас тогда говорили, ни обиды он не поимел особой на велеречивые слова Федора. Это князя Юрия с войском от Рязани-города он выманивал. И таки выманил, подлый, не сумел Юрий сдержаться да простить ему смерть единого чада своего, хоть и сказал боярам да воеводам, что хочет Батыгу на границе княжества остановить да вглубь не пустить. И коль поверил б мне тогда князь, как быстро может летать по чужим, незнакомым землям татарская конница, глядишь, и успели б к укрепленьям нашим пограничным, а не приняли б на себя в открытом поле удар их нежданный. А еще потому, разумею, Батыга велел посольство наше перебить, что знал, что Юрий нарочно отправил с Федором самых опытных своих воинов, чтоб они у монголов все высмотрели.







