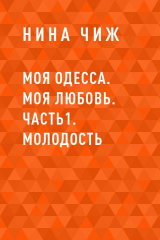
Текст книги "Моя Одесса. Моя Любовь. Часть1. Молодость"
Автор книги: Нина Чиж
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
1.
Дед сидел у стола на деревянном стуле на террасе, поджав ноги в вязанных шерстяных носках. На дворе стояла теплынь, но дедовы кости мерзли даже в жару. Шмыгая простуженным носом, он гнусаво и громко читал:
– Конститу…цио-нальная психопа-тия – вид психического расстройства!
Дед оторвался от большой потрепанной медицинской энциклопедии тридцать восьмого года издания, задумчиво пожевал губами, подозрительным взглядом окинул бабушку, поправил на своем орлином носу очки на потемневшей резинке, трубно отсморкнулся в мятый платок, и продолжил:
– Психопат – это ненормальная личность, которая страдает сама! Ага! – Слышь, сама! – дед укоризненно покачал головой, потом кивнул ею в сторону жены. – И! Главное вот! Слышь! Заставляет страдать других! О как!
Бабушка не замечала или делала вид, что не замечает супружника, занудность которого превосходила все дозволенные границы.
– Столб соляной, а не женщина! – начинал расходиться дед. Ему явно хотелось задеть жену. – Молчит! Все время молчит! Ну, дык, я докопаюсь! Выясню все про тебя! Вот уж тогда и все разрешится!
От злости у деда всегда выпячивалась челюсть вперед. Когда он ругался, начинал шепелявить и брызгать слюной. Виной тому был зубной протез, который держался плохо, доставляя мучения деду, особенно когда тот ел мясо, вернее сказать, пытался есть. Преодолевая боль, он отгрызал куски отварной говядины, перетирал их ставными зубами, поднывая и поскуливая при этом, как больная собака. Смотреть на такие страдания было невыносимо, а потому я старалась не садиться с дедом за стол, если замечала в его тарелке мясные куски.
Дед плюнул на палец, перевернул страницу и прошепелявил:
– Мать моя Рахиль плакала: пожалеефь, Яков, ох пожалеефь!
Бабушка и бровью не повела на выпады старого кровопийцы и продолжала спокойно чистить рыбу. Дед вновь склонился над энциклопедией, как над Торой, и продолжил маниакально выискивать заболевания, подходящие, по его разумению, жене.
Моя фамилия по отцу Чижова. Папа был русским, а вот по венам моей матери текла кровь ортодоксальных евреев и вольных казаков. Мой дед, Яков Штумберг – отец моей матери, являлся ярким представителем еврейского народа, а бабушка Анна Ивановна, в девичестве Шаповалова, была прямым потомком казачьего рода. Родилась моя красавица-бабуля в станице Милютинская Донецкого округа у лихого казачьего атамана Федора Петровича Шаповалова. Прадед мой, как выяснилось совсем недавно, в далекий семнадцатый год прошлого века, воевал на стороне белой гвардии против красных. В Одессе бывал несколько раз: город захватывали то красные, то белые, то немцы, то румыны. В Одессе Федора Петровича и ранили, да так, что два месяца он не узнавал никого вокруг. Как только пришел в себя, послал весть домой. Жена его, Евдокия, приехала к нему с их единственной дочерью Аннушкой семнадцати лет. Обратно в станицу вернуться семья уже не смогла: Милютинскую сожгли красные, мстили за мужиков, вставших на сторону белых.
Говоря откровенно, история появления бабушки в Одессе меня не так сильно интересовала, и только история знакомства Якова Штумберга с Анной Шаповаловой и последующей их женитьбы, меня приводила в замешательство по многим причинам. Главная причина – это личность самого Якова Штумберга. Мне казалось невозможным, что он мог кого-то когда-то любить, но еще более непостижимым для меня было то, что моя бабуля, горделивая красавица-казачка, могла полюбить деда. Я неоднократно приставала к бабушке с этим вопросом, и один раз сделала заход в сторону самого деда. Бабушка только пожимала плечами, мол, ничего тут интересного, все как у всех, а дед моему вопросу удивился страшно, но ничего вразумительного ответить так и не смог. Лишь однажды мне мама рассказала, что на самом деле дед был хорошим и работящим мужчиной, за которого многие девушки мечтали выйти замуж, а он был околдован красавицей Аннушкой. Деду пришлось идти против своей матери, считавшей, что любая, даже самая бестолковая и некрасивая еврейка, будет во сто крат лучше русской. Бабушка моя за всю свою жизнь ни одного худого слова не произнесла в сторону свекрови, хотя, подозреваю я, моя прабабка изрядно попила у нее крови.
Все ли было так, как поведала мне моя мама, до точности не известно. Скорее всего, да. Мама помнила своего отца немногословным, добрым человеком, хоть и вспыльчивым подчас. Десять лет назад произошло несчастье: дед упал со стремянки и раскроил себе череп. С тех пор он изменился до неузнаваемости, а я, по сути, другим его и не знала. Глядя на деда и вспоминая мамины слова, я все время думала: дед и правда стал другим, или он, наконец, стал самим собой?
Дед мог часами измываться над бабушкой, но лишь до тех пор, пока ей это не надоедало. Однако ж он сразу смекал, что у жены лопнуло терпение, если она, выгнув правую бровь, медленно расправляла плечи, чуть задирала подбородок и направлялась в его сторону своей горделивой плавной походкой. Замолкал он мгновенно, втягивал тонкие губы, отчего лицо деда начинало походить на сдувшийся резиновый мячик.
– Ты, Яков, примолкни. Не выводи меня из себя, – тихо говорила бабушка и широкой ладонью поправляла свои роскошные волосы, скрученные на затылке жгутом.
Тщедушный дед в эти мгновения становился еще меньше и еще худее.
Сейчас же он еще чувствовал себя хозяином положения, оттого смело выискивал своим близоруким прищуром очередные «подходящие» диагнозы и с явным удовольствием их цитировал.
Я тогда была подростком, и все, что происходило в моем доме, мне казалось обыденным, поднадоевшим, как старые мамины босоножки, которые она хранила в облезлом сундуке. А потому я быстрее чем бабушка выходила из себя и заявляла деду:
– Деда, хватит! Отстань от бабушки! Надоел…
Дед вздрагивал, вытягивал тонкую морщинистую шею, поправлял очки и начинал орать, брызжа слюной:
– Шо? Ты мне? Ах, скопчиха! Разтрынькалась как на рынке! Пущу по миру!
Я и в этот раз, не выдержав, поддела деда:
– Деда, ты, видно, уже сам заболевание подцепил от этой книженции. Давай, завязывай со своими диагнозами, а то получишь нагоняй!
От прилетевшего оскорбления дед уронил очки на свою впалую грудь, и, выпучив глаза, завопил:
– У-у-ух! Скопчиха! Вот же ж я тебе устрою! Старуха, слыхала? Шумовку дай! Дай, сказал!
Дед легко впадал в бешенство. Раньше я его побаивалась, сейчас же мне было смешно.
– Ладно, я пошла! Буду в десять, – бросила я бабушке, и не обращая на дедовы окрики, выпрыгнула за порог, раздумывая меж тем, как быстрее добраться до своих друзей.
В нашем дворе во всю кипела жизнь. Двор хоть был и небольшим, но выглядел уютным и чистым. Хлам у нас не собирали, выбрасывали, самодельные чуланы красили, скамейки мыли. За порядком зорко смотрел сосед дядя Мойша Розенталь – портной, чья клиентура вызывала зависть у других портных нашего квартала. Он частенько устраивал субботники, заставляя всех без исключения, вносить свой посильный вклад в облагораживание двора. Моя мама, к примеру, сажала цветы, кустарники, смотрела за самодельной клумбой, а все остальное лежало на совести других жильцов. Иногда к нам заходил настоящий дворник Сеня, лениво махал метлой раз пять, поднимал положенную пыль, затем долго курил, бросал окурок под дерево, и уходил, чем бесконечно выводил из себя дядю Мойшу.
– Сеня, ви зачем сюда ходите? Ви хочете распугать мою клиентуру? Будьте любезны, забудьте за наш двор! Иначе я не отвечаю за себя и однажды пришью вам руки к вашему тухесу!
Пробегая через двор, я громко крикнула всем «здравствуйте» и в ответ моментально получила разные комментарии и напутствия. Притормозила я только у арки, за которой тоже кипела жизнь, но другого рода. Я поправила застежки на туфлях, взбила руками волосы и оглянулась: все соседи, кто бы чем занимался, нашли время, чтобы проводить меня глазами.
Тем летом, в июне, мне едва исполнилось шестнадцать. Мама после долгих уговоров, скандалов и нытья, наконец-то разрешила мне укоротить волосы. Мои светлые от природы локоны слегка завивались, и этот факт вызывал явное раздражение у лиц женского пола и вполне себе заслуженные комплименты у мужчин. Тюбик с красной помадой, купленный втайне от родни, лежал у меня в кармане белого сарафана, сшитого умелыми мамиными руками. В белых туфлях-лодочках, приобретенных на Новом рынке у известной спекулянтки Фисы Форштельман, я легко шагала по Дерибаске, высматривая своих подруг.
Июньский вечер был изумителен. Солнце красными закатными лучами отражалось от окон домов, и даже полуразвалившиеся балконы, висящие так низко, что рукой можно было дотронуться до щиколотки стоящего на таком балконе человека, окрашивались в нежные розовые тона и не казались такими ужасными, как днем. Толпа людей плавно текла по узким тротуарам, тонкими струйками уходя в переулки. Расслабленные после обеденного зноя жители и приезжие с удовольствием оседали в кафешках, располагались на лавочках или бесцельно слонялись по улицам уютного приморского городка, попивая зельтерскую воду.
Огульный запах роз, одеколонов, морского бриза и привкус чего-то непознанного и дразнящего – все это смешивалось в невиданный коктейль чувств, заставляющих мою кровь радостно бежать по венам. Я была красива, беззаботна, и легка на подъем. Мои подруги были под стать мне, а потому каждый наш выход привлекал к себе внимание мужчин всех возрастов.
Стайка ярких девчонок стояла на повороте на улицу Карла Маркса. Еще издалека я увидела копну Изкиных каштановых волос. Изка – сокращенное от Изольда, была моей любимой и верной подругой с раннего детства. Ее отец Адам Натанович Шварц – профессор Института Водного Транспорта, обожал свою дочь, но держал ее в чрезвычайной строгости, и потому, каждый вечер, не смотря ни на какие обстоятельства, Адам Натанович самолично встречал дочь и сопровождал ее домой. Изка, конечно, высказывала отцу свое «фи», но тот лишь терпеливо выслушивал упреки, не возражал, и повторял, что ее безопасность дороже ему чем собственная жизнь.
Надо сказать, что небезосновательно Адам Натанович так пекся о своей дочери. По улицам города шастала не только обыкновенная шпана, много и другого дрянного люда заносило сюда южным ветром: фарцовщиков, воров, контрабандистов, картежников, мошенников, проституток. В Одессе и своих криминальных элементов хватало в избытке. Ни милиция, ни местные криминалы не могли остановить поток разнокалиберного хулиганья из Москвы, Ленинграда, Еревана, да и бог весть еще откуда. Разборки происходили часто. Вечерами передвигаться было небезопасно, потому мы, девчонки, старались гулять с хорошо знакомыми ребятами.
Изка в тот день была особенно активна. Стрельнув у проходящих парней сигаретки, она протянула мне одну:
– На, Нинка, кури!
– Что курим?
– «Ява»! – Изка криво улыбнулась и затянулась сигаретой, – Ну ничего, Олег скоро портвейн принесет! У меня есть час, потом все, отбой!
Тут Олег нырнул в нашу девчачью компанию, держа в руках две бутылки «Массандры».
– Достал у барыг! Гуляем, принцессы! У Соборки Валерка занял лавочку, так что айда!
На площади яблоку негде было упасть. Галдеж, взрывы смеха, свист – шум стоял плотной стеной.
– Как на Привозе в выходной! – заметил Олег, откупоривая бутылку. – Готовьте посуду!
На всех было два маленьких стеклянных стаканчика, заботливо приготовленных Валеркой. Пили по очереди.
Я бросила тюбик помады в руки подруги.
– Изка, накрась мне губы!
Изка ловко запрокинула мне голову и, деловито щуря лоб, принялась за дело.
– Готово! Смотри только у дома не забудь стереть, или попроси кого-нибудь! – подруга подмигнула и расхохоталась.
– Дура ты, Изка! Кого тут просить?
– Кого-кого… Да хоть кого! Да хоть того же Олега! – Изка ткнула пальцем в сидящего парня, – Олежек, будь добр, проводи сегодня Нину. У нее помада новая…
Олег посмотрел на меня и взгляд его стал серьезным, но потом широко и искренне улыбнулся:
– Всегда готов!
Девчонки – Машка Руднева, Катька Сазонова и Светка Мальцева, уже приплясывали от нетерпения, когда Валерка, щедро разливая по стеклянным стаканчикам вино, наконец-то произнес:
– Значит так, все делаем быстро, Изке скоро домой. А потому формула такая: наливаем – выпиваем – наливаем – выпиваем! Очередь соблюдаем строго, граждане!
Все возбужденно засмеялись. Я сделала глоток. Сладкая жидкость чуть обожгла язык и заставила меня зажмуриться. Пить я не умела.
Открыв глаза, я увидела перед собой лицо незнакомого молодого человека.
– Мишка! Кротов Мишка! Мишка-американец! – завопил Валерка и схватил парня за руку.
Новоявленный Мишка был высок, строен и красив. Серые глаза в обрамлении по девичьи длинных темных ресниц мгновенно приковывали взгляд; темные аккуратные брови, нос с небольшой горбинкой делали Мишку похожим на древнегреческого бога. Завороженная, я смотрела на его лицо не отрываясь, однако, как только он посмотрел на меня – тут же отвернулась. Света и Катя стали задавать ему разные глупые вопросы, откровенно кокетничая, а Изка, сузив глаза, склонилась к моему уху:
– Этот Мишка Кротов либо мой, либо твой. Думай, подруга!
– Изка, ты серьезно? Я его в первый раз вижу!
– Конечно, в первый раз! Таких как он сюда еще не заносило.
Когда выпили и вторую бутылку, настало время для Изкиных проводов. До Пушкинской улицы, где она жила, идти было не долго, и все, легко сорвавшись, направились дружною толпой на встречу ее отцу. Адам Натанович увидев нас, сделал легкий поклон и, сверкнув редкозубьем, произнес на распев:
– Изольда, голубушка моя, припозднилась ты сегодня!
Изка схватила меня за руку.
– Нинка! Завтра приходи ко мне в обед! Придешь?
– Приду!
Подруга, махнув всем рукой на прощанье, пошла впереди отца в свой двор, сердито стуча каблучками.
– Строгий папаша, – заметила Катька, у которой отца не было, – но хорошо, что есть. Правда, никакой жизни Изка из-за него не видит.
– А ты, Катя, много видишь этой жизни? – усмехнулся Олег. – Отец хоть из нее человека сделает. Правильно делает, что следит за дочкой. Изка после школы поступит в институт, нормального парня найдет, выйдет замуж.
– Ой, Олег, можно подумать, чтобы выйти замуж, нужно учиться? Да я хоть завтра могу женой стать! Только пока не нашла подходящего в мужья. Хотя, если бы ты позвал, я бы подумала…
– Сначала надо работу найти, – хрипло бросила Света, затягиваясь сигаретой. – Прокормиться нужно уметь в первую очередь.
Все молча посмотрели на Светлану – единственный работающий человек в нашей компании, а потому ее мнение было для нас авторитетно. Заметив, что на нее все смотрят, она лишь сузила глаза, выдохнула струю сигаретного дыма и сипло подытожила:
– Ладно, пошли, мне завтра рано вставать.
Света в школу ходить перестала уже как год, устроилась продавцом на рынке. Прошлой весной у нее умерла мать, тетя Марина. Отец – бывший фронтовик, вернувшийся с войны без правой ноги, поначалу еще как-то помогал семье зарабатывать на хлеб, но после смерти жены стал пить по-черному и гонять детей, смешно и страшно прыгая на уцелевшей ноге в одних трусах по лачуге, которая с каждым годом все больше и больше походила на землянку. Двое близнецов пяти лет Гришка и Сашка сидели с отцом целыми днями, пока Света батрачила на рынке. Торговала она свежей рыбой и икрой. Два здоровенных мужика, работавших на китобойном заводе, каждое утро притаскивали на рынок бочки с живой рыбой, а вечером приходили за выручкой. Света заработанные деньги тратила на отца и братьев, а что оставалось – копила. Если кому-то из нас требовалось перебиться по мелочи, обращались к ней. Она никогда и никому не отказывала, не спрашивала зачем. Спокойно доставала своими натруженными красными пальцами из черного тряпичного кошелька нужную сумму, и лишь пожимала плечами, когда слышала слова благодарности.
Мы еще немного помотались по вечерним улицам, посмеялись над историями про странных покупателей, имевшихся в достатке у Светки, и стали расходиться по домам. Валерка взял на себя проводы Светы, Машки и Катерины, все они жили на Преображенке; со мной остались Олег и этот новый Мишка. Мишка пока что больше молчал, улыбался грубоватым рассказам Светы – и только.
– Ну что, Нина, пойдем, – предложил Олег.
Я болтала о всякой ерунде, в основном общаясь с Олегом. Частенько я бросала взгляд и на Мишку, стараясь рассмотреть его получше. Наконец, не выдержав, я решила обратиться и к нему:
– Миша, а ты и правда американец?
Мишка неожиданно рассмеялся громким задорным смехом.
– Нет, Нина, я не американец, но могу им стать.
– Как это?
– Отец у меня дипломат, недавно его перевели в американское посольство.
– Ты был в Америке?
– Был, целый месяц у отца провел. Вчера только вернулся, но через полгода я уеду к нему надолго. Я надеюсь.
Вот это да! Среди моих друзей и знакомых не было тех, кто выезжал бы дальше Одессы. Знать, что существуют другие города и страны – далекие-далекие, – это одно, а вот общаться с человеком, который видел все не на карте, а по-настоящему, своими глазами – это совершенно другое. Да, многие видели и Берлин, и Вену и много других городов и стран. Но это были взрослые люди, и в их рассказах всегда была смерть. Всегда. А тут парень, чуть старше меня, а уже побывал в Америке! А в Америке негры, потрясающие танцы, умопомрачительные платья, джаз! Мне было любопытно всё-всё, и я уже было открыла рот, чтобы засыпать вопросами этого Мишку, но тут же передумала, когда посмотрела на Олега: расстроенный, он нарочно отстал и шел чуть позади нас, засунув руки в карманы брюк. Я только сейчас заметила его белую чистую наглаженную рубашку, ладно сидящие брюки, и поняла, для кого он так сегодня постарался.
Олег Борцов на пару лет был старше меня, этим летом он собирался поступать в судостроительный институт на инженера. Хороший, честный парнишка, с открытым взглядом, был по сердцу многим жителям нашего квартала. Его многие любили и часто обращались к нему за помощью, а то и просто хотели пообщаться. Он был надежным и верным другом всем нам; не было случая, чтобы Олег подвел кого-нибудь или вел себя недостойно. Мне захотелось подбодрить его.
– Ну и что в этой Америке хорошего? Чем она лучше нашей страны? – сказала я с вызовом и каким-то не своим голосом, подхватила Олега под руку и заговорщически подмигнула; тот улыбнулся и положил свою горячую ладонь на мои пальцы.
– Америка, Нина, ничем не лучше, но и не хуже нашей, это просто другая страна, – только и ответил Мишка.
Этим ответом, достойным дипломата, Мишка меня покорил, а мягкий тембр теплого голоса заставил мое сердце дернуться и застучать быстро-быстро. Я закусила губу и вопросов больше не задавала.
Вскоре мы оказались у моего дома: небольшого серого здания с высокой аркой. Две старые акации, как два стража, охраняли вход в арку, за которой прятался небольшой дворик, увитый диким виноградом. С самого детства мне казалась, что наш дом словно зажат со всех сторон другими домами. На моей родной улице Карла Либкнехта, в прошлом Греческой, таких «зажатых» домов было несколько, но именно мой дом был, как мне казалось, самым пострадавшим.
Остановившись около арки, я сделала шуточный реверанс и собиралась уже уйти, но тут произошло событие из ряда вон: Мишка подхватил мою правую руку, склонился над ней, слегка дотронулся губами до тыльной стороны ладони, и пристально посмотрел мне в глаза. От удивления я забыла, как дышать; в растерянности я перевела взгляд на Олега и увидела, что он был поражен не меньше моего. В нашей округе так не принято прощаться.
– Рад был знакомству, Нина!
Я рассеянно кивнула, и, не говоря ни слова, круто развернулась и направилась во двор. Оглянувшись, я увидела Олега и Мишку, провожающих меня взглядами.
Моя семья жила на первом этаже, и это было невероятным преимуществом. Отец самовольно пристроил добротную террасу: летом туда выносился обеденный стол, стулья и цветы в кадках, а зимой бабушка использовала ее для сушки белья: натягивала веревки и крепила их на вбитые в стены крючки. На летней террасе мы с удовольствием прохлаждались по утрам, а по вечерам собирались все вместе ужинать. Дед с издевкой в голосе называл террасу «дворянским гнездом», желая насолить моему отцу, туманно намекая на его отнюдь не рабоче-крестьянское происхождение. Перед террасой мама разбила клумбу с цветами и высадила кусты сирени, которые разрослись до невероятных размеров и каждый год буйно зацветали в начале мая. Словно дорогими духами наполнялись наши комнаты одуряющим сладким ароматом. Я уверенна по сей день, что нет запаха прекраснее, чем душного благоухания медовой сирени.
Миновав арку, я остановилась по середине двора и огляделась. Было темно и тихо, до меня доносились приглушенные голоса с террасы и поскрипывание стульев. Слабый свет еле пробивался сквозь густые виноградные листья и крученные ветви. Дикий виноград достиг уже крыши и зеленой стеной отгораживал нашу террасу от остального мира. Частенько это являлось причиной скандалов с соседями, утверждающих, что мыши и крысы по ветвям проникают к ним в дом на второй этаж и грызут все подряд, а в скором времени эти животные сожрут и их самих. Я была бы не против, если честно.
Родители о чем-то мирно беседовали, абажур, висевший над столом, слегка покачивался. Мама сама его смастерила: она обтянула каркас, найденный ею на одном из развалов, желтой тканью, уверяя нас всех, что желтый цвет отпугивает комаров. Но комары об этом ничего не знали и с удовольствием пили нашу кровь. Летний вечер был теплым, убаюкивающая атмосфера которого благотворно сказалась даже на дедушке Якове: он сидел тихо чуть в стороне, шамкал тонкими губами, и макал в чай сухарь.
Пока меня никто не заметил, я принялась с любопытством рассматривать свою правую кисть: с ней случилось нечто такое, чего не случалось еще со мной. Меня никто из парней еще ни разу не целовал, а мою руку сегодня удостоили такой чести. Я рассмеялась, и какая-то внезапная необъяснимая радость напрочь лишила памяти, потому как я, забыв о накрашенных губах, протиснулась к веранде и встала напротив стола.
– Чай пьете? – спросила я и широко улыбнулась.
Все разом взглянули на меня.
– Смотрите, Нина пришла! – воскликнула обрадованная мама. – Давай за стол, мы тебя ждали!
Я, продолжая улыбаться, скользнула взглядом по лицу деда и невольно отшатнулась, увидев хищный прищур на его лице. Несколько секунд дед не двигался, потом резко поддался своим сушеным телом в мою сторону и проворно натянул на орлиный нос очки, до этого момента спокойно висевшие на его груди.
– А! – гаркнул он, как подбитая ворона, и направил на меня свой кривой артритный указательный палец. – Гляньте! Она губы себе намазала!
С минуту все молчали, а потом поднялся крик, и вздрогнул мирно готовящийся ко сну двор. Началась свара. Все единогласно требовали немедленно подняться к ним, предъявить свои губы к осмотру. Я рванула в сторону, стараясь не порвать виноградные ветви, прикидывая, куда мне бежать. Олег с Мишкой еще далеко не ушли и могли в полной мере увидеть мои унижения, а заодно познакомиться с моим семейством. Представить даже на мгновение такую картину было страшно. Если бежать к Изке «сквозняками», ну можно, конечно, но потом-то все равно придется возвращаться, только уже в сопровождении Адама Натановича. Пока я решалась на побег, каждый из присутствующих на террасе затянул свое соло на любимый манер. Мама удрученно качала головой и говорила, что нет-нет, такого быть не может, ее дочь на такое не способна, отец гневно восклицал что-то про честь и совесть, стуча ладонью по столу, отчего чашки с блюдцами громко бряцали, разливая чай на белую скатерть. Однако громче всех в этой какофонии выделялся дед: он орал, брызжа слюной, сквернословил и сильно шепелявил. Упиваясь моим бесстыдством, он грозился:
– Фумовку мне! Фумовку! Я вот ей уфтрою, курвисе поханой, я ей покафу! У-у-у! Иф-ты, выскоська! Меня! Якова Фтумберха пожорит! А-ну, поди сюда! Поди!
Распалив сам себя до крайней стадии, дед вскочил, очки упали ему на грудь, и праведный гнев буквально сотряс его тщедушное тельце. Он размахивал мосластыми руками и продолжал требовать шумовку. Дед разошелся до того, что бабушке пришлось силой посадить его обратно на стул, но усмирить его даже она была не в силах. Мама бросила ругать меня и попыталась урезонить своего отца, а вот мой отец неожиданно встал на мою защиту, требуя какой-то справедливости. Само собой, из соседского окна на втором этаже вылезла голова тети Шуры, к ней присоединилась голова ее тридцатилетней незамужней дочки Розочки, следом за которыми повисла и третья голова – лысый череп Савелия – супруга Шуры. Им явно нравилось представление, потому как тетя Шура поначалу охала и ахала, но потом-таки не выдержала и зычным голосом стала вопрошать:
– Нинка, а ты шо? Губы накрасила? Ты ж не прошмандовка последняя! Моя Розочка-то не красит до сих пор! А, может, ты ишо и пьешь? Твои-то подружки, поди, усугубляють…
Ее слова упали на благодатную почву, вспаханную дедом, отчего тот возвопил еще больше. Его верещания уже долетели до соседнего дома. Залаяли собаки, кто-то стал сыпать проклятиями, послышались угрозы, но деда было не остановить, и он продолжал самозабвенно выть:
– А-и! Тофьно пьет! Тафкается, як жабулдыха, со своими подруфками! А я их на дух не перенофу! Кофелки! Курвисы поханые!
Отвернувшись ото всех, я стала судорожно стирать помаду рукой, одновременно заталкивая в рот молодые листья винограда, надеясь перебить запах вина и сигарет.
– А ну иди! Дыхни! – не успокаивался кровожадный дед. – Дыхни, я скажал! У-у-у…
Мама выскочила из дома и подбежала ко мне.
– Нина! Как ты могла? Зачем ты все это устроила? Ты что, правда пила?
Она подошла ко мне вплотную, глаза ее сверкали.
– Дыхни! Живо!
– Мам, ну мам! Знакомый один с самой Америки приехал, всех угощал. Мы выпили совсем немного, честное слово!
– А откуда помада у тебя? Как смела ты губы накрасить? – это волновало маму, видимо, намного больше, чем выпивка.
Я залилась слезами, если честно, я испугалась, что она меня сейчас ударит. Мама меня никогда не била, но однажды я получила пощечину за вранье. Было очень стыдно и больно. И теперь, стоя перед ней, я мечтала раствориться в воздухе. Я хотела было уже соврать, но вспомнив ту неприятную сцену, я молча вытащила из своего кармана тюбик и вложила ей в ладонь.
– Как ты могла? – процедила мама.
– Ну мам…
– Деньги где взяла?
– У Мальцевой Светки… недавно отдала… Сдачи собирала…
Мама нервно оглянулась на деда – он все еще верещал и плевался, при моем упоминании и вспоминая моих подруг.
– Я сколько раз говорила! Если что-то нужно – подходишь ко мне. Помада, вино – чтоб не смела больше. Поняла?
Я кивнула, размазывая слезы по щекам.
Распрямив плечи, мама пошла обратно в дом. Отец уже с террасы ушел, видимо, не выдержал дедовых криков. Бабушка, нахмурившись, не спеша убирала со стола. Появившись на террасе, мама, нарочито громким голосом сказала, обращаясь прежде всего к тете Шуре и ее семье:
– Отец, успокойся! У тебя уже с глазами плохо стало, я завтра же тебя отведу к врачу! Нина губы не красила, тебе показалось. И не пила, тебе ясно?
– Шо? Ясно мне? Ты мне голову не морось! Да пусть только эта скопсиха подойдет, я тебе все предъявлю!
– Нина, спать! – крикнула мне мать.
Я быстро поднялась по ступенькам на террасу и юркнула в комнату, которую делила с бабушкой.
Дед еще что-то ядовито шипел, но вскоре угомонился. Бабушка уложила его на узкую кровать в углу проходной комнаты, рядом со старым темным буфетом, доставшимся деду в наследство от его матери. Поверх шерстяных носков бабушка одела еще одни, чтобы тот не простудился. Дед долго кряхтел, звал свою мать Рахиль, жаловался ей, но через четверть часа засопел. Странное дело, дед никогда не храпел, а именно, сопел.
Бабушка вошла в нашу комнату и спокойно сказала:
– Нина, иди умойся, полотенце оставила на стуле.
– Спасибо, ба!
– Иди, иди.
Той ночью я спала плохо, мешали бесконечные несвязные мысли. Лунный свет просачивался сквозь листья сирени и неровно ложился на мою кровать причудливыми узорами. Под утро я все-таки заснула, и снилась мне… нет, не Америка и Мишка Кротов, а моя губная помада и дед с шумовкой.
2.
Изка была дома одна, и по такому случаю она накрасила губы алой помадой. Выглядела подруга роскошно, впрочем, как и всегда. Каштановые блестящие волосы, пышным каскадом закрывавшие спину, делали Изку похожей на Венеру Боттичелли, ну не один в один, конечно, но все же сходство было. Картина с этой синьорой висела и Изки в комнате. Подруга клялась, что картина принадлежала самому Иосифу де Рибасу. Венера мне очень нравилась, и я часто рассматривала обнаженную красавицу, когда приходила к Изке домой. Что-то такое же притягательное было и в подруге: в ее горделивой посадке головы, в темных умных глазах, в белозубой улыбке, в движениях, присущих только ей одной.
Увидев меня, Изка радостно затараторила о разной чепухе. Я вторила ей, умолчав только о поцелуе моей руки Мишкой. Рассказала в красках о вчерашнем скандале, поведала про сон, над которым мы хохотали до спазмов в животах. Изка знала моего деда столько же, сколько и меня, не боялась его, с удовольствием слушала истории про дедовские безумные выходки, и от души смеялась. Издалека дед казался безобидным чудаком, но жить с ним было тяжело. Изо дня в день слушать его крики чертовски надоедало. Изка тоже поделилась скандалом, приключившимся у соседей рано утром.
Бывший моряк Жора, страдая похмельем, с утра пораньше принялся браниться на свою жену за то, что та на кой-то черт купила бусы у греков. Он орал и бил по столу и по стене кулаком так громко, что все соседи проснулись, выскочили из постелей и бросились на кухню. Жена его, тетя Маша, рыдала в голос, пыталась образумить супруга, но тот слышать ничего не хотел. Крепкими словами охаживал свою жену Жора, такими крепкими, что даже Аркашка, щупловатый парень, состоявший в группировке у новоявленного бандита Анатолия Фикстулы, не выдержал подобных высказываний и грозно посоветовал Жоре «зашухериться и завалить ботало». Но Жора, хоть и бывший, но моряк, не потерпел подобного к себе обращения и озверел еще больше. Он и так на дух не переносил Аркашку, а тут и вовсе случай подвернулся, не стал сдерживаться: схватил своими ручищами деревянный стол, на котором стояла кастрюля с кашей, поднял его над головой, и со всей силы швырнул в сторону ненавистного соседа. Стол пролетел у того над головой и врезался в дверь. Дверь удар выдержала, но образовалась дырка насквозь. Аркашка оказался не из пугливых, и бросился на Жору в рукопашную, да с такими словечками и выражениями, что Жорино выступление поблекло на их фоне. В общем, все соседи бросились разнимать дерущихся. Пока разнимали, перевернули кастрюли с чьей-то едой, тазы с бельем, разгромили доски с посудой, а под занавес сорвали злосчастные бусы с шеи тети Маши, и красные бусины разлетелись в разные стороны по всей кухне. Буянов удалось растащить по своим комнатам, после чего женщины стали наводить порядок. Адам Натанович наказал Изке и своей матери – Рафе Давидовне, сегодня поменьше ходить по дому, а побольше сидеть в своих комнатах. Отец с матерью ушли в институт, а после пришлось уйти и бабушке. К ним прибежал мальчишка в рваных штанах и передал послание: умер дядя Мендель – их дальний родственник, и нужно было оказать помощь, скорее больше моральную и материальную, так как Рафа Давидовна была маленькая, худющая и на вид совсем старая, и вряд ли чем-то другим могла им помочь. Облачившись во все черное, она взяла в руку свой посох – палку, выструганную однажды по доброте душевной пьяницей Жорой, и отправилась в горестный путь. Рафа Давидовна была святым человеком, а потому, уходя, оставила деньги внучке, так, на всякий случай. Изка ни разу не расстроилась из-за усопшего дяди Менделя, а вот деньги были очень кстати: вечером мы собирались прошвырнуться по Воровской улице. Там, в одном из подвалов, делал фотографии дядя Ося Фельдсман. Мы давно мечтали сделать фото вдвоем, и сегодня, благодаря ушедшему в мир иной дяде Менделю, мечта имела все шансы воплотиться в реальность.








