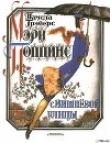Текст книги "Ведьма с Вишнёвой улицы (СИ)"
Автор книги: Nicoletta Flamel
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
***
Долгие годы я спала в Холме, земля давила на грудь, и травы пустоши прорастали из моих рёбер. Долгие годы солнечный свет не мог пробиться ко мне, а луна всходила и садилась над миром, не касаясь моей кожи. Долгие годы подземные ключи струились сквозь моё сердце, вымывая из него остатки памяти о надземном мире. Сначала я спала и видела сны-во-сне. Потом – забылась без снов. Ещё немного, и я стала бы частью Холма, мои кости рассыпались бы известью и мелом, мои чёрные волосы взошли бы цепкими стеблями и моя душа взобралась бы по ним высоко-высоко в небо, чтобы расцвести среди созвездий ещё одной колючей и яркой звездой.
Но теперь я проснулась, и скоро всё изменится.
Холм содрогается от рёва землеройной машины. Между мной и небесным сводом остался такой тонкий слой земли, что я могу дотянуться до мыслей людей, которые с настойчивостью обречённых на смерть вгрызаются вглубь моей темницы. Их глазами я вижу железное чудище, протягивающее ко мне уродливые клешни, их обонянием я ощущаю запах машинного масла, смешанный с едким запахом человеческого пота и свежего травяного сока.
Но я ещё слишком слаба, чтобы послать Зов.
***
Когда я раскрываю над головой свой большой чёрный зонт с ручкой в виде головы попугая, детские глаза наполняются слезами. Это значит, что ветер переменился и мне пора улетать. Я не знаю, когда вернусь в следующий раз, и не знаю, вернусь ли вообще (многие дети успевали стать взрослыми до моего возвращения), но восточному ветру нет дела до человеческих глупостей. Он просто поднимает меня над землёй и несёт вместе с тяжёлыми дождевыми облаками всё дальше и дальше от того места, которое успело стать родным.
Я не знаю, дар это или проклятие. С тех благословенных времён, когда ветра, ослеплённые красотой женщин из плоти и крови, принимали человеческий облик и спускались на землю, прошла не одна тысяча лет. Возлюбленные ветров давно превратились в прах, состарились и умерли их дочери и дочери их дочерей, остались только мы – смертные правнучки и праправнучки тех союзов. У нас в крови поют ветра, мы различаем их голоса и можем отвечать им, мы ежедневно совершаем сотни маленьких бытовых чудес, но обречены странствовать по миру до самой смерти, повинуясь воле каждая – своего ветра.
Одна из моих сестёр в каждом новом городе открывает своё кафе. В ней слишком мало осталось небесной крови, и она мечтает лишь об одном – однажды остановиться на одном месте, врасти корнями в почву и остаться там навсегда. В последний раз мы встречались с ней в маленькой шоколаднице «Небесный миндаль», она подала мне чашку горького шоколада с марципановым печеньем, но не узнала меня. Северный ветер бросал в стёкла пригоршни колких льдинок, в глазах её маленькой дочери застыл страх, но серебряные колокольчики на окнах тонкими голосами вызванивали древнюю как мир колыбельную, и ветер не мог войти внутрь. «Хотите, я угадаю ваш любимый сорт шоколада?» – спросила меня сестра, зябко кутаясь в шаль. Я вежливо отказалась и поспешила попрощаться. Надеюсь, у неё всё сложится хорошо – так или иначе.
Но мой ветер щедр к тем, кто повинуется его воле.
Я просыпаюсь на вершине небольшого холма под крупными майскими звёздами. В моей руке зажат корешок железнодорожного билета со штампом Паддингтонского вокзала. Такой же бумажный штамп приклеен к ручке моей ковровой сумки. Сложенный зонтик рядом со мной еле заметно подрагивает спицами. Я провожу по нему рукой, словно глажу любимое домашнее животное. Его ручка ещё тёплая – значит, я приземлилась совсем недавно. А билеты и бирки – это маленькие волшебные пустяки для предъявления полисменам и особо бдительным жителям той улицы, на которой я поселюсь.
Восточный ветер мягко подталкивает меня в спину. Я поправляю шляпку, отряхиваю подол строгого чёрного платья от прилипших травинок и, подхватив под мышку зонтик и сумку, чуть ли не бегом спускаюсь с холма. На востоке сквозь плотную пелену облаков прорезывается тонкая полоска рассвета. Вдалеке шумит автомагистраль.
Надеюсь, поблизости есть место, где леди может выпить чашку утреннего чая с бисквитом?
В густой траве у подножья холма что-то таинственно светится. Маленький коренастый человечек в зелёной шляпе выглядывает на звук моих шагов и тут же прячется обратно. Настоящая леди просто обязана была бы поздороваться с ним, но я не понаслышке знаю о вздорном характере лепреконов и прочих представителей Маленького Народца, поэтому делаю вид, что ничего не заметила. Лепреконам и так нелегко – всё время приходится перепрятывать клады от посторонних глаз.
На тропинке, ведущей к окраине города, мне встречается мусорщик в вязаной шапке, натянутой до кустистых бровей, и перчатках из грубой кожи на непропорционально длинных для человека руках. Его кошачьи глаза с вертикальными зрачками злобно поблёскивают в полумраке. На всякий случай я нащупываю в кармане платья железную булавку: встреча с гоблином может быть довольно неприятным испытанием для человека, а гоблин, который торопится вернуться к себе в пещеру, опасен вдвойне. Зонт, зажатый под мышкой, начинает вибрировать всё сильнее. Он расхлопывает свой купол, когда между мной и гоблином остаётся не более пяти шагов, и так резко поднимает меня ввысь, что я еле успеваю удержаться за его ручку.
Гоблину удаётся лишь раздражённо клацнуть зубами вслед. В мешке за его спиной ворочается и кряхтит нечто, по размерам напоминающее небольшую свинью. Возможно, это на самом деле свинья, но может быть и так, что какая-нибудь нерадивая мамаша забыла закрыть на ночь дверь, и теперь поутру не найдёт своего ребёнка. Я тихонько фыркаю: с детьми, доверенными мне, такого произойти не может.
Ветер проносит меня невысоко над землёй где-то с полмили и мягко опускает на пороге круглосуточного кафе.
Я прохожу внутрь, заказываю чашку чая с молоком и тосты. Вместо яичницы и джема прошу принести утреннюю газету – настоящая леди должна следить за фигурой. Открываю страничку с объявлениями и улыбаюсь.
«Джейн, Майклу, Джону и Барбаре Банкс (не говоря уже об их маме) требуется самая лучшая в мире няня за самую скромную плату, и причём немедленно. Обращаться на ул. Вишнёвая, 17».
Меня зовут Мэри Поппинс, и эта работа как раз для меня.
***
Она говорит: «Останусь! – и добавляет с загадочной улыбкой: Пока ветер не переменится!» От неё пахнет детством: земляникой в молоке, ванилью, землёй после летнего дождя и – почему-то! – цветущим боярышником.
При первом знакомстве она показалась мне некрасивой, и моя жена до сих пор считает, что я не переменил своего мнения. Худая, со слишком крупными для женщины ладонями и ступнями и пристальным взглядом выцветших голубых глаз – такой я увидел мисс Мэри Поппинс в первый вечер. Такой видели её все – исключая, пожалуй, детей, которые чуть ли не с первого же дня воспылали к ней необъяснимой любовью и слушались её беспрекословно. Даже Джон и Барбара, которые умеют пока только пускать пузыри и пачкать пелёнки, теперь предпочитают общество Мэри любому другому.
Это ужасно раздражает мою жену. Впрочем, в последнее время она всё чаще находит повод для выражения своего недовольства. Старая нянька Кейт в своё время мешала ей излишней религиозностью и тем, что, заставляя детей учить наизусть псалмы, одновременно потихоньку приворовывала на кухне. Кухарка миссис Брилл доводит мою жену до истерики нежеланием готовить диетические блюда и не думает о том, что «истинная женщина просто должна привести себя в порядок после родов!». Служанку Эллен дражайшая супруга обвиняет в подсознательном желании обольстить меня, хотя (поверьте слову джентльмена!) я не давал для этого ни малейшего повода.
Теперь пришла очередь Мэри.
– Подумать только! – возмущается за завтраком жена. – Эта особа не предъявила никаких рекомендательных писем!
– Это просто ужасно, её выходные по четвергам! Я не успеваю председательствовать в Клубе женщин Вишнёвой улицы. Миссис Патмор уже говорит, что справилась бы лучше меня! – говорит она мне за обедом.
– Невыносимый запах! – прижимая ко лбу мокрое полотенце, жалуется по вечерам. – Мэри приносит в дом цветущий боярышник, точно зная, что у меня начинается мигрень! Хуже того – она приучила детей собирать его на утренней прогулке и тайком ставить у меня в комнате! А миссис Ларк говорит, что это очень, очень дурная примета!
Я хочу ответить, что мне нравится боярышник, симпатична Мэри и абсолютно безразлично мнение миссис Ларк. Я хочу намекнуть, что в конце тяжёлого рабочего дня мужу от жены нужно чуть больше внимания и участия. В конце концов, я просто хочу, чтобы мне дали дочитать эту чёртову газету! Но вместо этого приходится кивать и выслушивать всю ту чепуху, которой занята голова миссис Банкс. Если ей возразить, будет ещё хуже: слёзы, причитания о загубленных годах юности, расплывшейся после родов фигуре и, разумеется, о том, что я её не люблю.
Пользуясь полумраком, царящим в спальне, я прикрываю глаза и думаю о том, сколько раз улыбнётся мне за завтраком Мэри.
***
Госпожа позвала меня, госпожа говорила со мной, госпожа прикоснулась к моему лбу своими прекрасными бледными губами. Но её глаза были полны слёз. Она плакала о том, что заключена в темнице, что голодна и обессилела. Но потом она улыбнулась и сказала, что если есть на свете человек, который способен спасти её, то это я.
А взамен она исполнит самое заветное моё желание.
Что я могу предложить ей – кроме того, в чём она действительно нуждается? Во имя своей бессмертной души я пытаюсь торговаться. Я привожу к темнице госпожи надоедливого соседского пса. Он лижет мне руки, когда я вонзаю кухонный нож в мягкое податливое горло. Госпожа хмурится. Госпожа винит меня в попытке нарушить обещание. Госпожа сулит мне вечные муки – здесь, на земле. Её прозрачные глаза темнеют от гнева. Я сжимаю руками голову, падаю в разрытую землю и скулю от боли, умоляя госпожу пощадить меня.
– Ты не посмеешь, – говорит она, и голос её звучит прямо в моей голове. – Ты никогда больше не посмеешь обмануть меня.
Она права: я выполню её приказ, её просьбу, её мольбу об освобождении. И Госпожа щедро наградит меня.
***
Сегодня четверг, и после завтрака я надеваю синее платье. Оно подчёркивает голубизну моих глаз. Волосы я закалываю в высокую причёску. Чищу свои нарядные ботинки: от мальчишки Робертсона Эй, который занимается всей обувью в этом доме, нельзя ожидать особого усердия.
Какое-то время верчусь перед зеркалом, затем весело подмигиваю отражению и показываю ему язык. Не стоит ожидать от тела, идеально приспособленного к передвижению по воздуху, что оно будет подходить под человеческие каноны красоты. Когда-то, давным-давно, ещё в пансионе мадам Корри, я сильно переживала из-за внешности. Но настоящая леди умеет скрывать свои маленькие недостатки. Я достаю из потайного кармашка сумки небольшой флакон из тёмного стекла, вынимаю пробку с припаянной к ней тонкой палочкой. По комнате плывёт еле уловимый цветочно-ягодный аромат. Я делаю несколько быстрых мазков за ушами и на внутренней стороне запястий. Моё отражение в зеркале нисколько не меняется, но я помню: зелье действует только на людей.
В комнату с топотом врываются дети. Я делаю строгое лицо.
– Мисс Мэри, какое у вас замечательное платье! – это Джейн.
– Да, вы сегодня выглядите так, будто у вас выходной! – а это Майкл.
Я фыркаю. Конечно, не стоит ждать от них особенных комплиментов (во-первых, они ещё слишком малы, а во-вторых, дети – не совсем люди), но могли бы уже расщедриться на что-нибудь более красноречивое.
Я ведь – леди Совершенство. И у меня действительно законный выходной. С часу до шести.
Внизу у входа в столовую я сталкиваюсь с мистером Банксом, и не могу отказать себе в маленькой шалости.
– Чудесная погода, мистер Банкс, не правда ли? – говорю, взмахивая ресницами.
В моём голосе – лишь легчайший намёк на кокетство (я бы не позволила себе ничего большего), но в ответ мистер Банкс вначале краснеет, потом бледнеет, зачем-то ослабляет узел галстука и сглатывает невидимый комок размером с добрую порцию рисового пудинга. Видимо, запах эликсира слишком силён. В будние дни я стараюсь им не пользоваться: детей всё равно не обманешь: по своей природе они ближе всего к сильфам и фэйри и видят сквозь чары, – но в выходной хочется выглядеть очаровательно.
– Я… это… вот, – мистер Банкс смущённо мнёт в руках кожаную чёрную папку. – Забыл дома важные документы.
Он похож на мальчишку, не выучившего урок. Я вежливо киваю, аккуратно обходя его в узком коридоре: ветер пока не переменился, и проблемы с влюблённым отцом семейства мне не нужны.
– М-мэри?
Оборачиваюсь.
– Мэри, вы не могли бы перестать приносить в дом боярышник? – Кажется, мистер Банкс уже совладал с минутной слабостью.
– Что, простите?
– У миссис Банкс от него мигрень. К тому же соседка, миссис Ларк… вы же знаете этих женщин, – тут он опять краснеет, – говорит, что цветущий боярышник – дурная примета.
– Вот как? Что ещё говорит миссис Ларк?
– Больше ничего. Вчера у неё пропал пёс, и она очень расстроена. Но всё равно, не стоит больше приносить…
– Я вас поняла. Я скажу детям, что миссис Банкс неприятны их скромные проявления любви. Что-то ещё? – я демонстративно верчу на запястье маленькие часики.
– Я не хотел вас задерживать, простите.
– Уже задержали, – не слушая его бормотания, я рывком открываю входную дверь.
В лицо мне бьёт порыв восточного ветра. Не переменился. Значит, мои дела на Вишнёвой улице ещё не закончены.
***
Сегодня она показалась мне прекраснее обычного.
Я смотрю, как развевается на ветру подол синего платья, как, одной рукой придерживая шляпку, а второй – зонтик, Мэри Поппинс быстрым шагом огибает припаркованное у калитки такси и идёт по улице куда-то в сторону дома миссис Ларк.
Зачем я сказал про боярышник? Моя жена навыдумывала себе глупостей, а это всего лишь дети хотели порадовать её. А собака? Зачем я приплёл к разговору какую-то соседскую шавку? «Ты идиот, мистер Банкс!» – говорю я себе. И сам с собой соглашаюсь. Нужно было сказать что-нибудь остроумное, ввернуть ни к чему не обязывающий комплимент, чтобы дать понять: да, я – женатый мужчина в летах, отец четверых детей, но всё ещё могу слегка заигрывать с молоденькими хорошенькими девушками.
Только заигрывать, любуясь их красотой и свежестью, – и ничего больше.
А что сказал я?
Тихий скрип кухонной двери приводит меня в чувство. Я понимаю, что некоторое время стоял в коридоре, бессвязно бормоча под нос странные для постороннего уха слова.
– Мистер, мистер.
Это всего лишь кухарка миссис Брилл.
– Увидите своего племянника Робертсона, передайте ему, что он уволен! Вы только поглядите, как скверно этот лентяй чистит мою обувь!
Хорошо, что у меня появился повод оправдать своё раздражение. Потом я, конечно, извинюсь перед миссис Брилл и, возможно, повышу ей жалование… когда-нибудь.
– Я передам, – кухарка часто-часто кивает. – Только, мистер, вам лучше всего уволить её. Пока не стало совсем поздно.
– Кого?
– Эту особу, новую няню.
Я ошарашенно замолкаю. Неужели миссис Брилл заметила нечто неподобающее в моём разговоре с Мэри? Неужели я всё-таки перешёл некую невидимую грань и нахожусь на пути разрушения семьи? Мой внутренний бухгалтер начинает судорожно подсчитывать траты, связанные с разводом. У нас с женой, конечно, довольно натянутые отношения, но выплату алиментов на четверых детей я, пожалуй, не потяну.
– Она ведьма, – громко шепчет миссис Брилл, ободрённая моим молчанием. – Истинный крест – ведьма! В церковь не ходит, перед едой молитвы не прочтёт, к железу без особой нужды не притронется. А давеча все выходы на первом этаже обошла и косяки с рамами, гляньте только, гвоздями железными по-хитрому утыкала. Племянник мой, на что идиот, и то понял: дело-то нечисто. Как есть ведовство чинила!
Под конец этого страстного монолога я наконец-то прихожу в себя и еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться миссис Брилл в лицо. Ты не идиот, мистер Банкс, ты законченный кретин и трус, тебе не с девушками кокетничать, а жене оборки на юбку пришивать! Напридумывал невесть чего на пустом месте. И эта миссис Брилл тоже хороша!
На улице настойчиво сигналит забытый мною таксист. Точно! Я же не стал его отпускать, заскочил на минуточку забрать папку, даже пальто не снял. Это сколько же у него на счётчике накрутилось?
– Так что, уволите? – миссис Брилл выжидательно смотрит на меня.
Кажется, она приняла моё молчание за согласие.
– Возможно, – холодно отвечаю я. – Но не по такому глупому поводу. Кстати, – вот тут неплохо поставить её на место, – На ужин подайте отбивные из говядины с зелёным горошком. И отбейте мясо как следует, не ленитесь, позавчера оно по вкусу напоминало подошву.
Миссис Брилл кивает, пряча глаза. Я не уверен, что она не плюнет мне в тарелку, поэтому, скорее всего, перехвачу что-нибудь по дороге домой.
Нащупывая в кармане мелочь для таксиста и гадая, хватит её или придётся выписывать чек, я выскакиваю во двор.
Спину обжигает ненавидящим взглядом. Я невольно оборачиваюсь. Никого. Лишь колышется от ветра занавеска на втором этаже.
***
В воздухе отчётливо пахнет опасностью и надвигающейся грозой. Под порывами ветра с вишен облетают лепестки. Ими, уже слегка подсохшими по краям, смешанными с придорожной пылью, окурками и фантиками от конфет, усыпана вся улица. Они похожи на снег, который после Дня Всех Святых заметает лесные тропы, замыкая пути, закрывая не-живому дорогу к человеческому жилью. Жаль, что сейчас не осень, всё было бы намного проще.
Со двора миссис Ларк доносятся её громкие визгливые крики: видимо, зовёт ненаглядного Эндрю. Я ещё раз порывисто нюхаю воздух. Если приметы не лгут, то несчастного пса давно уже нет в живых.
– Пойми меня правильно, – шепчу, подставляя лицо восточному ветру. – Если бы это были чужие дети, я, не задумываясь, прошла бы мимо. Я это умею. Помнишь семейство Дарлинг? Когда они после рождения Майкла не смогли платить мне жалование и вместо няни завели огромную собаку-сенбернара? Нэна, кажется, её звали? Я ушла в тот же вечер, хотя возле их дома до одури разило фейской пыльцой, а тень мальчишки из Нетландии уже не единожды пыталась проскользнуть сквозь рамы, запертые на заговорённую железную защёлку.
Ветер помнит. Он знает имена всех детей, с которыми я так или иначе была знакома.
Малыш из Стокгольма и его странный Друг-на-Крыше. Мне тогда пришлось потолстеть на добрый десяток фунтов, научиться печь плюшки с корицей и даже потратиться на собаку.
Яльмар из Дании… Ему навевал сны мой забытый брат по крови, раскрывая над его головой один из трёх своих зонтов. Тот самый – разноцветный, для сказочных видений и послушных детей. Второй зонт у него был однотонным, для детей непослушных; и третий – мой любимый, доставшийся мне в подарок на долгую память, – с головой попугая вместо ручки: для волшебных полётов наяву. Но Яльмар выжил и перестал видеть сны-во-снах. Доктора ещё долго удивлялись такому быстрому выздоровлению.
А вот четверо ребятишек Пэвенси навсегда ушли в волшебный шкаф. Я не люблю вспоминать эту историю. Колдовская сила, овладевшая детьми, была сравнительно молодой, но очень могучей. Именно тогда я умерла в первый раз, и не скажу, что мне это очень понравилось. А из детей, даже ценой моей гибели, в реальный мир вернулась только старшая девочка, и то не навсегда.
Мадам Корри, у которой я училась танцам и умению выживать в мире людей, любила повторять, что дети – это чистые листы бумаги, души сильфов и фэйри в человеческом теле, способные видеть невидимое и допускать существование невероятного. И все мы – волшебные няни, странные потусторонние друзья, чудовища и чуды, древние боги и мелкие домашние божества – живы лишь до тех пор, пока они верят в нас. «Сделай так, чтобы в тебя верили, девочка моя, – говорила мадам Корри. – Напиши книгу о своих приключениях, создай новую легенду с собой в главной роли, очаруй, напугай, но заставь считать себя реальной». Помнится, я вначале долго смеялась, когда узнала, что все сказки для человеческих детёнышей написаны отнюдь не людьми.
А сейчас, на Вишнёвой улице, кто-то или что-то давно забытое очень хочет войти в историю, обрести новую плоть. И судя по всему, история эта обещает быть очень страшной. Просто потому, что напугать быстрее и в какой-то мере даже эффективнее: плохое и ужасное помнится дольше, пересказывается шёпотом у огня, обрастает новыми подробностями, становится явью.
Задумавшись, я не замечаю, как дохожу до перекрёстка. Здесь, на углу Вишнёвой улицы, любит стоять один из моих давних знакомых – Спичечник. Он продаёт спички и рисует на тротуаре дивные картины. Спички нужны всем, а рисунки смывает первым же ливнем. Я не знаю, куда девается Спичечник зимой, когда улицы превращаются в месиво из грязи и снега. Я очень надеюсь, что он уходит жить в какой-нибудь из нарисованных миров. Во всяком случае, однажды я показала ему, как это делается.
Сегодня Спичечник непривычно хмур. Он не улыбается прохожим, а тротуар под его ногами пуст.
– Здравствуй! – говорю я и легонько, кончиками пальцев, касаюсь его щеки.
Спичечник кивает мне. У него усталый вид, а под глазами залегли глубокие тёмные тени.
– Вы чувствуете, Мэри, как что-то приближается? Может быть, гроза?
Я нюхаю воздух. Пахнет пылью, старым пергаментом, сыростью, но не грозой.
– Всё вокруг стало таким серым, – говорит Спичечник. – Словно у мира забрали все его краски. И мои мелки крошатся в пальцах раньше, чем я успеваю что-нибудь нарисовать.
Я смотрю вниз. Асфальт у наших ног покрыт паутиной крошечных трещин. Так у мима трескается на лице старый грим; так пламя комкает листок бумаги, превращая его в пепел; так истончаются грани реальности, когда через них проглядывает что-то… Что?
– Покажи мне! – прошу я Спичечника. – Я знаю, ты можешь. Просто нарисуй.
Он смотрит на меня карими преданными глазами собаки.
Собаки!
Миссис Ларк! Эндрю!
Где-то поблизости пролилась жертвенная кровь. Ну конечно.
– Пожалуйста!
Я уже готова пообещать Спичечнику лоскут лебединой рубахи виллы, птичью косточку, которая отпирает все на свете замки, волшебную золотую монету под язык. Отчаянье переполняет меня.
– Вы не знаете, о чём просите, Мэри. Но ради вас… – он опускается на колени, достаёт из кармана куртки картонную коробку с мелками. – Я попробую.
Железным наконечником зонтика я очерчиваю вокруг нас невидимый круг. Никто не войдёт сюда и ничто не выйдет отсюда.
А также мне потом не придётся объяснять своё странное поведение. Ведь не пристало леди становиться на четвереньки рядом с сомнительными молодыми людьми, рискуя порвать чулки и испачкать подол восхитительного синего платья.
Но я всё это проделываю.
Я чуть ли не носом утыкаюсь в потрескавшийся асфальт, на котором Спичечник выводит ломаные линии, растирая их где пальцами, где рукавом. Разноцветный рисунок почти на глазах выцветает, становится чёрно-белым, ломким и зыбким. От него веет холодом. Не морозным – могильным.
Это – Холм. И густые тени клубятся у его подножья.
***
Сестра моя, плоть от плоти ветра, кровь от крови земли. Ты нашла меня. Я чувствую твоё жаркое взволнованное дыхание, даже находясь за несколько миль от тебя. Мокрая глина тяжело давит мне на грудь, волосы проросли корнями в земное чрево, – приди, освободи меня.
Но ты слаба, как же ты слаба, сестра моя! Даже для того, чтобы увидеть меня, тебе понадобилась помощь мальчишки. Интересно, что ты пообещала ему взамен? Клочок рубахи висельника? Вилочку и крючок из вываренной в полнолуние чёрной кошки? Могильный камешек под язык?
Неважно.
Ты не придёшь спасать меня. Ты не захочешь, даже если б могла. От тебя пахнет железом и человеком, а твои полые птичьи кости годятся лишь для того, чтобы болтаться между землёй и небом, вздрагивая от порывов ветра. Я не найду в них жизни, не напитаюсь силой.
Но не пытайся мне помешать. Не стой у меня на пути. Не становись замком на дверях моей темницы.
Иначе я уничтожу тебя.
***
Миссис Банкс встречает меня на пороге.
– Мэри опоздала к ужину, – говорит она, поджимая губы. – Дети весь день предоставлены сами себе.
Я чувствую, как закипаю, но изо всех сил пытаюсь быть вежливым и поддержать беседу.
– Ох уж эти няни! Удивительно будет, если она вообще вернётся.
Лицо миссис Банкс покрывается некрасивыми красными пятнами.
– Вы хотите сказать, что я – плохая хозяйка и не могу приструнить слуг?
Я вздыхаю, предчувствуя скандал. Если бы только удалось проскользнуть в гостиную и отгородиться от неё вечерней газетой!
– Вы замечательная хозяйка, дарлинг, слуги от вас без ума.
– Понятно, я слишком мягкотелая, и не могу настоять на своём. И опять по всему дому боярышник! У меня от него начинается мигрень! – миссис Банкс с рыданиями прижимает к лицу кружевной платочек. – Вот и вы задерживаетесь на работе, только чтобы не идти домой! Ужин уже остыл!
– Я поужинал в пабе, дарлинг. Лучше бы я этого не говорил.
Истерика миссис Банкс продолжалась долго: с воздеванием рук и хлопаньем дверьми, со швырянием на пол стопки журналов и угрозами сейчас же, сию минуту, оставить меня пропадать от одиночества, забрать детей и уехать к маме в Йоркшир.
– Прогулка пошла бы вам на пользу, дарлинг, – успел глубокомысленно вставить я, когда крики затихли.
И истерика пошла на второй виток. Выяснилось, что я – плохой, бессердечный муж, чёрствый отец, который только и думает, как избавиться от жены и детей, чтобы развлекаться по пабам со всякими там…
Внезапно миссис Банкс прервалась на полуслове, потом побледнела и, комкая в руках окончательно растерзанный платок, сухо обронила:
– Хорошо. Приятного вам вечера, мистер Банкс. Кстати, если вам интересно, мальчишки Робертсона тоже нет на своём месте со вчерашнего дня. Его тётушка Брилл вся извелась. Утром будете сами чистить свою обувь.
И миссис Банкс, неестественно выпрямив спину, скорбно удалилась.
Я шумно вздохнул. Истерика закончилась бойкотом, а это, по крайней мере, не так выматывает.
В камине потрескивал огонь, и чайник на столе в гостиной ещё не совсем остыл, и булочки с корицей не успели подсохнуть в корзинке. Я почувствовал себя почти счастливым, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.
И старался не обращать внимания на нервные гулкие шаги над головой, от которых слегка покачивалась люстра.
Видимо, миссис Банкс решила унести свои обиды на второй этаж.
***
Когда я выныриваю из рисунка, вокруг уже зажигаются газовые фонари.
У Спичечника идёт носом кровь, но он улыбается мне обычной чуть виноватой улыбкой. Не тратя время на поиски платка, я вытираю ему лицо подолом платья.
Ни одной капли не должно упасть на рисунок. Ей пока хватит.
– Мэри, вы ради меня испортили платье! Я никогда этого не забуду!
– Лучше помоги мне.
Я торопливо сгребаю вокруг себя вишнёвые лепестки, фантики от конфет и остальной мелкий городской мусор. Рисунок нельзя оставлять до утра, слишком живым он получился.
– У тебя есть чем зажечь огонь?
– Пожалуйста, леди. Один шиллинг пачка.
Спичечник галантно протягивает мне образец своего товара, и я хмыкаю, оценив иронию положения.
Полкоробка спичек мы тщательно укладываем поверх мусора и поджигаем.
Линии рисунка корчатся в огне.
Это хорошо. Пусть Она знает, что я не сдамся.
Когда догорает последний фантик, я поднимаюсь с асфальта.
– Вы уже уходите, Мэри? – Голос Спичечника звучит грустнее обычного.
– Да, мне пора.
– Что там было, за гранью?
– Смерть. Не-жизнь. Жажда возвращения. Не думай об этом, дорогой. – Я нежно целую Спичечника в лоб. – Спасибо за помощь.
– Мэри… – выдыхает он.
– Мне пора.
***
Госпожа снова зовёт меня. В её голосе угроза, и боль (моя постоянная спутница) тугим змеиным телом мгновенно обхватывает виски. Сожмёт-отпустит, будто играет.
Госпожа торопит.
Ей надоело ждать.
Она говорит, что найдёт другого, более покладистого и верного слугу, который сможет исполнить её маленькую просьбу.
Жизнь за жизнь.
Курица бьётся в предсмертной агонии на кухонном столе – для того, чтобы мы впитали в себя частичку её жизни. Корова, поившая нас молоком, молчаливо и покорно ложится под нож.
Все мы должны чем-то жертвовать.
Было бы лучше, если бы Госпожа забрала мою никчёмную жизнь, но ей нужна другая. Другие.
Скоро солнце станет слишком ярким, и Госпожа потеряет силу.
Значит, нужно спешить.
***
Ещё на подходе к дому чувствую: произошло неладное. След нечёткий, размытый, но защитный круг, ради которого я трудилась не покладая рук, разорван.
Я открываю дверь своим ключом, машинально провожу рукой по косяку, проверяя. Так и есть: на двух гвоздях из пяти застыли капельки запёкшейся крови. На крошечных гвоздиках, самых маленьких среди остальных. Шестой гвоздь выпал и валяется на коврике. Я помню, каким именем нарекала его.
Из гостиной тянет сладким запахом дурман-травы. Мистер Банкс спит, откинувшись на спинку кресла, на подбородке у него застыла тонкая дорожка слюны. Будить бесполезно: к утру проснётся сам, и даже не вспомнит.
Если, конечно, я сумею вовремя предотвратить беду.
Миссис Брилл с порога кухни сверлит меня ненавидящим взглядом.
– Где миссис Банкс? – спрашиваю я её.
– Ушла, – отвечает, будто плюёт мне в лицо.
– Куда?
Рот миссис Брилл расплывается в щербатой усмешке, острые резцы в свете лампы кажутся зелёными:
– Ты уже не догонишь, ведьма.
Я пристально смотрю в зрачки кухарки семейства Банкс. В огромные, на всю радужку, пугающие зрачки Зеленозубой Дженни.
– Тяжело тебе? – говорю с жалостью. – Мелкие речушки все перекопаны, а по большим рекам день и ночь ходят суда. Гудят, пугают. Скажи, Дженни, каково это – жить под человеческой крышей, чувствовать, как по жилам течёт удивительно сладкая, густая и сытная человеческая кровь, но не сметь… ах, не мечтать даже попробовать её, пусть самую крошечную капельку? Ты очень хотела выжить, да, Дженни? Чувство самосохранения оказалось в тебе сильнее чувства голода, ты научилась быть среди людей, служить людям.
Миссис Брилл шипит, но не осмеливается броситься на меня. Мелкая болотная нежить способна нападать лишь на детей. Со взрослым ей не справиться. Тем более со мной.
– Ты скоро подохнешь, ведьма. Госпожа войдёт в силу и уничтожит тебя!
И всё же спиной я к ней не поворачиваюсь.
– Тебе несладко жилось после моего появления, да? Но ты служила семейству Банкс верой и правдой, и я не стану тебя выдавать. Свиная печёнка и говяжья кровь – не самая плохая еда для той, кто стала почти человеком. Защитные амулеты не отзываются на твоё присутствие. Прощай, Дженни!
Она не преследует меня. Потому что я права. Иначе вместо того, чтобы воспитывать сироту Робертсона Эй, миссис Брилл давно бы его сожрала.
Служанку Эллен я застаю в постели в обнимку с коробкой дорогих французских трюфелей.