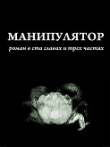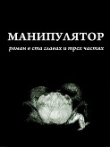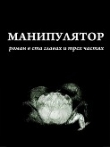Текст книги "Instagram Говарда Хьюза"
Автор книги: Манцевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Эта книга посвящается моей матери, Ларисе Л. Мама, я никогда не написал бы её без тебя. И это абсолютная правда. Я люблю тебя, мама! А.
Май жизни только раз цветёт, прекрасный,
и мой отцвёл давно.
(с) Фридрих Шиллер – «Отречение».
.
ибо что посеет человек, то и пожнет (Галатам 6:7-9)
#Пшеничный Пластилин.
Огуречное поле – раскинулось синтетическим колесом дхармы, на окраине Корка, у устья реки Ли, на южном берегу, на высоте около двух тысяч в трехмерном геопространстве; находясь на широте экватора… Неоновым кругом с коротко стрижеными спицами аккуратно посаженых внутри огуречных грядок, ярко-зеленого цвета, в количестве восьми штук, вытянутых до красно-желтой дали …
Небо – вывернутый наизнанку лед, устало нависло над головой. Горизонт, где-то вдали, слился с ним в непорочном зачатии, синей психоделической полосой… Обезвоженное солнце, катилось по горизонту как «лиственный» мяч для гольфа, прямо по хрустальному краю, маслянистой точкой оранжевого пламени, уходя на покой… Теплый осенний ветер, последним вечером октября, лезвием ушедшего дня, ласкал мои мягкие губы, отцовским поцелуем Криса Бенуа – крещеного 24-го числа в июне, моим новым ангелом-хранителем …
Я устало сижу на постной земле забытого Аллахом места, в бесполезной попытке удержать свой каштановый разум в языческой молитве ведийской медитации:
– Ом, намах пасха. Ом, намах шивайя …
Посредством постижения музыкально-числовой структуры космоса, очищая свою душу …
Мои загорелые, в уголь, руки, лежат на коленях, ладонями кверху, они раскрыты, распустившимися бутонами пакистанских роз… глаза закрыты, спина выпрямлена; голова чуть опущена, ноги скрещены… большие и указательные пальцы, соединены ведическими нейронами в своем праве на духовное очищение… Мой синтетический разум, застыл героиновой молитвой Иоанна Павла II у запертых ворот города Хара-Хото. Пять месяцев кряду. Путешествуя в механическом теле григорианского трамвая «Питер Витт», кроваво-красного цвета, ползущего по железнодорожному полотну до Дели, механической черепахой; флэшбэком черно-белого трип-репорта от выкуренного утром псилоцина, внутри моей кукурузной головы …
Со всех сторон меня обдувает таинственный дым тлеющих, пронизанных прутьями дубовых веток (разбросанных, там, на равнинах) – «магических грибов», воткнутых в сухую землю, в количестве четырех штук …
Я носил длинные дреды, такие, какие носят непальские садху, ходил босиком, и курил высушенную в тыквенной фляге пленку со шляпы красного мухомора, завернутую в эстетику курительной трубки из кукурузного початка (я нашел ее, среди прочего хлама, на могиле Тома Крина, там, на бельгийском кладбище, и по легенде, она была проклята; об этом мне поведала венгерская цыганка, за пинтой темного стаута в местном пабе «Южный полюс»), безукоризненно точно, начиная каждый свой новый день, подобно Хемингуэю, с бокала холодного шампанского, соблюдая некую «шампанскую диету»: прежде чем встать с постели, я выпивал большой стакан сливок, с одной-двумя столовыми ложками рома. В полдень перекусывая коктейлем «шерри-коблер» и бисквитом. В три часа – бутылкой холодного шампанского «Шардоне», иногда срываясь на суп с яйцом и говядиной… и, чтения утренних некрологов, опубликованных на последней странице в норвежской газете «Автен пост» (чуть выше цитат Сократа), выполненных в лучших традициях уличных эпитафий:
УШЕЛ С ПОСТА TRUEБАДУР
РЕВОЛЮЦИИ
МЫ ОСУЖДАЕМ ЕГО ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО ИЗ ЖИЗНИ,
НО ТВОРЧЕСТВО ЕГО ЦЕНИМ И ЛЮБИМ
1956 г. И.К. КЁРТИС 1980 г.
С начала празднования ирландцами Ночи Костров, по конец октября, я безвылазно нахожусь здесь – на окраине Корка. В самом сердце психотропного огуречного поля, миндалевидным узором бута, взошедшего рядом с бесформенным пятиэтажным домом – минималистичной деталью от «лего», сформированным в округ заброшенной морской бухты… Его пустые глазницы разбитых окон, заклеенных через одно, разноцветным целлофаном, с видом: на спящие вулканы; огуречное поле; речное водохранилище; большое кладбище автомобилей и, бельгийское кладбище… наблюдали за мной, откуда-то издалека, полным печали взглядом Бетти Бросмер… Он, вырос на этой плодородной земле, засеянной, как правило, желто-зелеными сорняками горькой полыни – жилым помещением, на выцветшем фасаде которого, красовался абстрактный граффити-портрет звездно-полосатого Хрущева, с первого по пятый этаж, выполненный в лучших традициях Уорхола, в красно-синих тонах …
Я курил галлюцинацию грибов, и уже довольно долго искал просветления в семенах лимона – рассматривая оранжевые косточки, вывернутого наизнанку цитрусового плода, запечатанных внутри галогеновой лампы в хрупких руках Анны Болейн, английской маркизы Пембрук в собственном праве, воскресающих в моем мультипликационном сознании: телесериалом «Мэтлок» и малобюджетными коммерческими кинокартинами класса «Б» с Борисом Карлоффом в главной роли, который, орал во всю свою кортизоновую глотку, засвеченный на магнитной ленте бульварной фетвой; рассекреченным интервью главному редактору «Россия сегодня» Боширова энд Петрова: «Просмотрев код ошибки, вы обнаружите, что нет доступных конечных точек, от сопоставителя конечных точек, – рефлектируя минимализмом дихотомии, под сенью садов, на вершине Голубой горы, охваченной огнем, бросая игральные кубики из человеческой кости в раскрытую глотку зефирного Ра. – С этими пожарами справиться только дождь, Гийом» …
Мне тридцать три, и сейчас – я счастлив …
Обычно моя голова, словно холодильник в кафе Джо Метани, замусорена какой-то гнетущей безысходностью неизбежного суицида, в духе любимых произведений Эдгара По… Я уже довольно давно и, настойчиво долго, размышлял на тему криогенного самоубийства, способного, раз и навсегда, покончить с болью совершенного в детстве греха, съедающего меня изнутри, буквально вшитого в мою героиновую макромолекулу эпитафией Стендаля, на протяжении нескольких лет, страдая от тяжелой депрессии и меланхолии… и, если бы, не Иона – рожденный «во грехе Молоха», сенегальской язычницей, то, я уже давно бы, пустил себе пулю в голову, по математически выверенному примеру старины Дэла Шеннона, либо накачал бы себя смертельной дозой пентотала, плавно уйдя в безвестность садов Эдема …
Я ни на что не копил денег – сразу все обналичивал; и я всегда знал: что когда мне все это надоест – я убью себя; и, – это совсем не деструктивные мысли… И все это помешательство, особенно обострялось весной и осенью, по четным годам, я дважды пытался свести счеты с жизнью, приняв однажды критичную дозу успокоительного, и надев свое старое пальто, набив карманы камнями, я бросился в реку Уз, неподалеку от моего дома… Позже, я регулярно проходил лечение в клиниках, но, – я был уже одержим смертью, которая все больше и больше фигурировала в моей реальности, мое настроение постепенно омрачалось, сходило на нет, и последней каплей стала трагическая гибель Слай …
Но, тут я счастлив – cидя полностью обнаженным, в самом центре огуречного поля, в позе лотоса, куря грибы и «забываясь» сладким вкусом яблочного валлийского сидра …
Когда мне становилось скучно, я развлекал себя тем, что отправлял традиционные японские хокку в китайский микроблог «Вейбо», цитируя любимые строчки из песен рок группы «Ночная трость»:
Когда я умер, с моря выл
Норд-ост
Драккар горящий – мой погост …
Солнце бесполезно тонуло в брильянтовой глади реки Ли, растворяясь красно-желтой таблеткой аспирина, брошенной в стакан с лимонным «Швепсом». Оставляя меня наедине с пустотой приближающейся ночи. Сегодня мне некуда было идти, и я, как можно дольше оттягивал этот момент. Момент прощания с местом, которое, стало для меня моим личным Бухенвальдом, моим Вьетнамом… Местом, где пепел моей расплавленной предрешенным соблазном души, возрождался вновь, в математике признанной католическим Богом – медитации… Я, всем своим, расплескавшимся на свежем воздухе – сознанием, ощущал сладкий запах, распустившихся в атмосфере огуречных побегов, пахнущих, на уснувших ребрах окрепшей осени, сочностью собранного урожая, в тот самый момент, когда все отцветает и умирает, с приходом нового времени, времени – унынья и дождей; когда дни становятся короче …
Я пророс кукурузным зерном в тектонике земных плит, возвышаясь рекреационным стеблем ненужного миру мусора, в серебряную даль почерневших небес… Неспешно, прозревшей исповедью, считывая мертвый код экзотического вкуса – сакральным учением дхармы, вытатуированным у меня на искусственно созданном сердце и крепко заваренном в жерле моей курительной трубки, обжигая легкие; съедая жидкое тело не понятых индийских цифр, предвещающих о начале IIIWW, написанных справа налево …
***
Ирреальное тело луны, взошедшее кровавой колесницей, утонувшей в ситцевых облаках тумана, посеребрила своим теплым оранжевым светом линии электропередач, что тянутся вдоль кривых линий железных дорог на Дин-Гонви – урановый многонациональный город, столица П.Государства «404», кибер ГУЛАГ, который живет прошлым утопического социализма, где на стенах медицинских и торговых центров, промышленных предприятий, горнолыжных курортов, жилых домов и гостиниц, видна ирония Бога… Сутулый, безумно бледный пожилой человек, в черном выцветшем фраке, с суицидальными запонками на жесткой накрахмаленной рубашке (запонки были сделаны, по всей видимости, из человеческих зубов, в них, так и отражалась боль и ужас ритуального убийства) – поднявшийся тенью от этой бескровной луны прямо у моих босых ног… Изнуренный усталый мужчина без передних зубов, с острым уродливым лицом… неторопливо протянул мне алюминиевую тарелку, с небрежно изрезанной в ней, иссушенной плотью Джорджа Флойда – обильно вымоченной в рисовом соусе и, замиксованным: с кусочками исламского полумесяца, лепестками черных роз, холостыми патронами, апельсиновой цедрой и плодами большой моринги, которая реинкарнировала – золотом буддийских храмов в Родни Кинга; меняя ЛСД – на дисциплину, ртутным осколком кислотной матрицы… Пластилиновый Аллах, высотой с «Дубайскую башню», поджигал гуталиновое небо, брошенной в пустоту тлеющей «пяткой» … взойдя там, на горизонте ночи, сине-лиловым зеркалом шуньяты… Я снова поймал нелицензированный трип, пел китайские песни, и видел битву на реке Лиффи, близ Дублина, где викинги с Мэна победоносно вскидывали вверх руки под одобрительные крики своих боевых товарищей… Мои легкие разрывают лимонные бабочки, прорастая в них светло-розовыми цветами японской вишни… я вдыхаю Смерть с разрушенных улиц Дамаска, выблевывая: радугу, трехлистный клевер, золотые подковы, украшенные рубинами и брильянтами, подаренные на счастье принцем Уэльским, лепестки фуксии и, горшочки с золотом, на свои фирменные кеды от «Адидас» … Боксируя, подобно Тайсону Фьюри, с лепреконом – задиристым, коренастым карликом, вытатуированным в стиле олд скул у меня на левой руке …
С начала, и по конец мая, я работал на лесопилке у литовского фермера – рожденного в цыганской семье в небольшом кочевом поселении близ Ньюри, читателя рун, лейтенант полиции в отставке, сын кузнеца из Престона; сын рыбака и владелицы бакалейной лавки… на водяной лесопилке в виде: крытого, неотапливаемого помещения, ловко сколоченного из дерева кокосовых пальм; которая стояла прямо на берегу реки; крыша опиралась на стропила, которые держаться на четырех толстых столбах, на высоте восьми футов, прямо посередине сарая ходит – вверх-вниз, поперечная пила, а к ней, при помощи очень отлаженного механизма, пододвигается бревно; юго-западный ветер, силой своего ситцевого тела вертит колесо, и оно, приводит в движение весь этот двойной механизм, тот, что опускает и поднимает пилу, и тот, что тихонько пододвигает бревна к пиле, которая распиливает их, превращая в доски… Я, боевым топором кельтских племен (унаследованным мне от деда, а ему, вероятно от его отца, и так дальше – вниз по спирали генеалогического древа) ловко обтесывал еловые стволы, готовя их для распилки; сидел на стропиле, читая в обеденный перерыв Новака – «Продавец снов» …
Я обзавелся за время, украденное моей вселенной у меня – тут: хипстерской бородой, модной прической, корявой татуировкой в виде кельтского трилистника на запястье, и татуировкой кольца Клада на безымянном пальце правой руки; и, шоколадным загаром… Как говориться: «Все маленькие пташки вернулись» … Все заработанные мною деньги, тратя на свекольный «сэм», и переводя – ежедневно, небольшие порочные суммы на счета различных благотворительных организаций …
Каждый раз, когда я останавливался на ночлег в сером панельном брюхе бесформенного пятиэтажного дома, где, жили в основном сербские и французские мигранты, почетные ветераны боевого арьергарда «Масорка», провозгласившие себя – кукурузными людьми, прятавшие ампулы морфия в цветочных горшках… я благодарил Бога, католической новенной, за то, что не ночую на улице …
Я «бросил кости» у своего старого друга Пи Ви, но, сегодня срок моего пребывания – тут, истек. Истек – его недовольством, и жаждой к социальной изоляции и уединению… И, теперь, мне некуда было идти …
«Пьянство губит твою грешную душу, Гийомах (так, на дублинский манер, называл меня Пи Ви, в чьих жилах текла: ирландская, валлийская и североирландская кровь. Безобразно точно похожий на молодого Джона Клиза. Высокий, тонкий, как бритва, с классическими британскими чертами лица, с проницательным взглядом, неопределенно табачного цвета, рожденный в сердце «черного озера»), опомнись!!! – выпалил куда-то в пустоту «болотный бродяга», немного раздраженно, размешивая столовой ложкой из облепихового дерева, захлебнувшиеся в малиновом йогурте кукурузные хлопья, укутывая меня в облако ирландского сленга.
– Умение молчать – это искусство, Пи Ви, – слепо отмахнулся я …
Я как-то нелепо сидел на полу, вытянув свои ноги вперед, прислонившись спиной к холодной стене, сосредоточенно и отстраненно, заваривая, высушенные в тыквенной фляге красные мухоморы, в крепком теле курительной трубки из кукурузного початка, смешивая их с индийской коноплей. Мухоморы довольно плохо горели, и мне нужна была сила, поддерживающая тление галлюциногенных грибов. И надо признать, выращенная на огуречном поле ганджа, хорошо с этим справлялась … горела, и тлела в психоактивном оргазме рок-н-рольного трипа… гитарным соло Джими Хендрикса на просвещенной сетчатке глаз шаманов африканских племен …
– Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, Пи Ви.
Сначала я измельчал мухоморы в блендере на маленькие кусочки, примерно на три, или четыре дюйма. Засыпал их в курительную трубку, пытаясь «познать» … но, так и не достигнув нужного мне эффекта, позже, решил сушить их до состояния сушеного инжира, растирая потом в порошок …
Пи Ви, неподвижно застыл около серого, залитого редкими каплями дождя, окна. Обернутый в застиранный, темно-синий халат «Версаче», и в трикотажную шапку с помпоном, с логотипом «Бостон Селтикс» прямо на угрюмом лбу. Вязко мешая, набухшее маисовое тело своего бесхитростного завтрака, в глубокой керамической тарелке, расписанной в геометрических фигурах, украшенных ирландскими ягодами и цветами. Не проронив ни слова …
Комната была мягко освещена кварцевой лампой под потолком – длинной полосой бледно-синего ультрафиолетового света, хоть как-то съедающей пасмурность дня, которая беспощадно давила, пыльно-серой сумрачностью на окна, поглощая собою всю эту электрическую стратосферу …
– Я оставляю людям их право на прошлое, Пи Ви, – мягко сверкаю в будничное утро, выпуская каштановую вязь наркотического дыма в ненастность пространственной пыли, направив квадратный луч от диафильма на ровную гладь деревянного потолка, остроумно сколоченного из бука, транслируя на красновато-коричневом цвета полотне согретые детством слайды с кроликом Освальдом.
– Ты тут уже год, Гийомах, и все, что ты делаешь – это целыми днями пропадаешь на огуречном поле, медитируя там голым. А нагота – это грех, Гийомах!
– Я жду.
– Ждешь? Ты продал свою квартиру в Сканторпе для того, чтобы найти Иону. И теперь ты просто ждешь?
– Это игра в русскую рулетку, Пи Ви. Женщина с рождения обречена на встречу со своим будущим мизогинистом, со своим Марком Лепином. Не по своей вине, заметь. На каждую Амен Бахрами, найдется свой Маджид Мовахеди. Но, мы цепные псы, Пи Ви. Мы – гангстеры. Тыквенные Войны. Ритуальные шрамы на лицах бежавших заключенных из руандийских лагерей смерти. Бродяги Дхармы. В этом кибер-гулаге, лишь сила наших кулаков, способна возродить не толерантный ритуал вендетты! Пусть все твои раны станут смертельными, Палестинец! Ты можешь бежать, но ты не сможешь спрятаться!!!
– Тебе надо плыть на Пангею, Гийомах. Прекрасный сверхконтинент на берегах теплого моря, где зимуют змеи и птицы. Говорят, что там повсюду католические монастыри и ирландские пабы, порядка шестисот пятидесяти. Там живет хрупкая десятилетняя вьетконговская девушка из Дананга, с тающим блеском кукурузных глаз уэльских королев, и обаянием Кэрри Фишер – Метанойя. Я был когда-то знаком с ней, она была влюблена в меня. Но, я был безучастен к ней, и оттолкнул ее своим эгоизмом. От постоянного недоедания ее старший брат очень рано начал терять зрение. Школа, где они учатся, расположена достаточно далеко от деревни, за горным перевалом, и, изо дня в день, двенадцатилетний Нго сажает свою десятилетнюю сестру на плечи, помогая ей преодолевать путь от дома до школы. Вечером, когда у Нго совсем садилось зрение, роль поводыря брала на себя совсем маленькая Метанойя – вела Нго за руку через перевал. Найди ее, Гийомах.
– Если ты скажешь уехать мне, Пи Ви, я сейчас же соберу свой рюкзак, и уеду отсюда, – равнодушно отмахнулся я. – Хотя и не хочется, последние хорошие дни этой крафтовой осени.
Ирландец устало опустил голову вниз, убрав тарелку с кукурузными хлопьями в сторону. Поставив ее на стеклянный стол, стоявший у окна, рядом с книгой «Маленький принц» с шрифтом Брайля. Тяжело вздохнул, поправив татуированными, иероглифами полинезийской письменности, пальцами, свои круглые солнцезащитные очки, жестко отрезав:
– Тебе пора, Гийомах.
– Ты куриное говно, Пи Ви, – беззлобно процедил я, заполнив легкие карамельным дымом. Закрывая глаза. – Я хочу ездить в старых трамваях. В Лондоне. В малинового цвета трамваях Питер витт. Ездить по прямой из Нью Аддингтона, на юго-запад, до боро Мертон, подобно околокриминальному Эдди Фелсону, целуя в сахар девственных губ бывших девушек марокканских мигрантов. Кстати, сегодня финал Кубка ярмарок, играют пенсионеры с канонирами. Еще одна ночь, ирландец, и завтра я съеду. К тому же, буквально вчера я подрядился грузчиком на мукомольную мельницу …
– Нет.
Пи Ви аккуратно распахнул окно, слегка приоткрыв деревянные рамы, плохо прокрашенные белой известковой краской… Свежий воздух, вперемешку с каплями депрессивного дождя, который, пробирался в гостиную – сбитыми немецкими дирижаблями времен IWW, размером с Вавилонскую пыль, тут же, обнял мое загорелое осенним солнцем тело, своим покрывалом Секваны, заставив меня немного съежится от студеного ветра; ведь я был абсолютно голый; курил, ел мармелад из айвы, прикладываясь к бутылке игристого мозельского рислинга, сидя там, на полу, невозмутимым человеком шестнадцати клеток на кончике героиновой иглы, поймавшим амфетаминовый дзэн …
– Это воздух свободы, Гийомах.
– Мы, лишь искаженное восприятие нас, другими людьми, Пи Ви. И совсем не важно, сколько ты перевел денег на благотворительность, и согрел бездомных щенков встреченных на пути, все будут знать тебя исключительно как, того безумного Голландца, который разносил мефедрон по кладбищам, прятал пакетики фена в оскверненной лондонскими тедди-боями могиле за номером девяносто семь, участок Дэ. У меня чистые руки, но они будут в крови, когда я найду Палестинца» …
Ночь – застывший сок малайзийского дерева, наскоро сшитый кожаный мяч, набитый предварительно сваренными гусиными перьями… гуттаперчевый гаитянин – черный расист и антикоммунист, блуждающая под электронный бит Оскара Салы, улыбкой Барта Старра, по руинам сожженного японского храма Кинкаку-дзи, ирландским кружевом, благодатно ступая по мощенному золотыми листами полу… неприлично заглядывая в окна выцветших квартир бесформенного пятиэтажного дома, сквозь фиолетовую мозаику оконных роз… Кукурузные люди – сербские и французские мигранты, почетные ветераны боевого арьергарда «Масорка» – вывалились в ночь, разжигали костры и, жарили на большой чугунной жаровне клюв петуха, танцевали под песни Шейна Макгоуэна и Джуди Коллинз, пили тибетский чай с солью и маслом яка, и свекольный «сэм», закусывая домашний самогон домашним хлебом с примесью сорока процентов картофеля, и домашними блинами со щукой, цитируя друг другу диалоги из пьес Ионеско, переходя с французского на ирландский, перегруженный манстерским диалектом. Они словно мычали, говорили с многовековой обидой в голосе, некоторые говорили довольно быстро, через нецензурную брань, проглатывая окончания слов, скорее всего из-за отсутствия передних зубов… Вынося мирскую суету за скобки. У них тут свое этико-религиозное братство со свободной умственной инициативой …
Я заливаю в емкость керосиновой лампы Дэви остатки ирландского виски «Пропер Твелв», аккуратно подрезаю хлопковый фитиль остро заточенным хирургическим скальпелем, поджигая его, выкручивая на полную мощность, закрывая язык разгоревшегося огня ламповым стеклом, приручая его… огуречное поле, скрытое бархатом простуженного мрака, вдруг озаряется тусклым светом, играя мистическими тенями потустороннего мира; движение в округ источника пластмассового пламени и тепла резко оживает, перерождаясь солнечной сферой – каплей расплескавшегося золота на репродукторе недосказанной осени, воинственной оболочкой «непальского садхгуру», совершающего пуджу на берегу Ганга …
Я ловко надеваю военную куртку M-43 (меня интриговала идея ношения милитаристической детали гардероба в инновационных джунглях «Вавилона н.э.», к тому же, так мне было удобнее согревать бездомных щенков, встречавшихся мне на пути, ведь современные города – это агрессивная среда, и в них нет романтики), цветом песочного камуфляжа, кислотно-желтого, выменянную мной у толстяка Фулка, по кличке Авокадо, местного аскера, на дебютный роман Яна Флеминга (дело в том, что Фулк был адептом религиозного учения каббала, которое, трактует желтый цвет – как депрессивный и, приносящий несчастье поэтому он легко согласился); складываю аккуратно в свой рюкзак: домашнее печенье с фиником и кунжутом (примерно два с половиной фунта); банку сюрстремминга; банку рисово-томатного супа «Кэмпбелл»; несколько фирменных рубашек от «Фред Перри», в красную и бело-голубую клетку; корсиканский складной нож для вендетты, недопитую бутылку игристого мозельского рислинга, четыре банки темного пива «Гиннесс», курительную трубку из кукурузного початка, тыквенную флягу, зубную щетку и полотенце; головоломку Эрне Рубика, светящуюся строительством Махабат Макбары – документальной кинохроникой Жоржа Мельеса (я спешно опустошил его еще утром, когда жаркое осеннее солнце, где-то высоко, в голубом ситце безоблачного неба, светило по-летнему жарко, окропляя пустотой своего дыхания – умирающий бархат земли, засеянный дикой геранью с пурпуром распустившихся цветков, и красно-желтые полураздетые дубы и ивы, в поисках курительной трубки из кукурузного початка, лежавшей на самом дне рюкзака) … отправляясь до ближайшего железнодорожного полотна, чтобы трейнхопом доехать до Дин-Гонви …
В воздухе вкусно пахнет ореховым шоколадом. Керосиновая лампа бьется об ногу, крепко зажатая правой рукой, обжигая теплом. Звездное небо, чистое как капля опиума, прошитое вдоль и поперек: космическими кораблями, искусственными спутниками земли, орбитальными станциями, метеоритным дождем лилового цвета, раскинулось над этой безлюдной гамадой, обрушившись на меня миллионом ярких киберлиц… Я бесшумно ступаю по пшеничного цвета мокрой траве, согретый бархатным пением затаившихся в небрежно засеянной луговой овсянице цикад, лениво направляясь к железнодорожным путям… немного застенчивым «жестом Эффенберга» – прощаясь с этим местом… И оно прощалось со мной, салютом Беллами – распарывая живот Вавилонской принцессе, на велюровых легких октября, где повсюду следы рыжей осени… Теперь, там, позади, на огуречном поле, надолго поселилась зима… и, было совершенно не важно, по какой причине и когда именно мир ушел вперед. Он ушел… пока я носил длинные дреды (местные эмо-киды как-то сказали мне, что когда мои дреды дорастут до земли, я смело могу уйти – метафизически), такие, какие носят непальские садху, ходил босиком, и курил высушенную в тыквенной фляге пленку со шляпы красного мухомора, завернутую в эстетику курительной трубки из кукурузного початка, безукоризненно точно начиная каждый свой новый день, подобно Хемингуэю, с бокала холодного шампанского и, чтения утренних некрологов, поймав такой psy трип, после которого, кроличья нора Алисы покажется серым сортиром …
«О, мой дорогой! Как же я устала быть Алисой в Стране чудес! Это звучит неблагодарно, но я так устала».
Алиса Харгривс,
из письма к сыну Чарльза Доджсона
#Когда Алиса повзрослела
Дин-Гонви – город Соленого озера; футуристический и новый… Упраздненная столица «Вавилона н.э.», сюрреалистический город чудес, посреди мескалиновых джунглей, камень и бетон на лепестках тысячи орхидей, Мачу-Пикчу современной цивилизации …
Он вырос на галлюциногенных початках сахарной кукурузы – соломенной вселенной; Дин-Гонви нет и десяти лет… Город-призрак, построенный временно, на период работы нефтяников из «Шелл» – обреченный на одиночество, после того, как героиновые иглы деревянных нефтяных вышек – выстроенных и помещенных в прибрежную область, на расстоянии около двадцати пяти милей к востоку от города, выкачают последние капли крови, из артериального русла земли… оставив после себя миропорядок хвойных садов, где сочным плодом голубых яблок, будет цвести корейская пихта.
Главная улица Дин-Гонви, улица им. Генри Детердинга, делит город на две равные части: мусульманскую – неряшливую и нищую; суетливую, как эспланады Бомбея; с узкими бульварами и аллеями, кабаками и рынками, марокканскими кофейнями, бистро и уютными йеменскими ресторанчиками, где, на завтрак подают сладкие слоеные пироги, соленые лепешки из очень тонкого теста с йеменским медом, и молочный чай с имбирем и корицей… где, бытовой мусор и будничная грязь, выплеснутые прямо на макадам – помои, – неотъемлемая часть этого хинтерланда (ходить по этим тротуарам мягко: лоскуты бумаг, папиросные коробки, объедки, подсолнечная шелуха), точно такая же, как и гробница с люминесцентным прахом Сулеймана Шаха в Сирии… и, социалистическую: территорию мистического реализма по Маркесу, где вместо назойливой рекламы около-колы на городских баннерах и фасадах многоэтажных домов, красуются реалистичные граффити-портреты с изображением Вождей мирового пролетариата: от Кастро до Мао Цзэдуна, от Ким Ир Сена до Чойбалсана, от Хо Ши Мина до Агостиньо Нето, от Сталина до Готвальда, от Поллита до Тореза; где, кривая линия конно-железной дороги, протяженностью в семь тысяч милей, сталью алюминиевой соли, прорубает свой транспортный путь через весь коммунистический пояс, проходя через заброшенный хаос фруктовых садов и ягодных: смородины, малины, ежевики и крыжовника… Доходя до самой окраины города, где гелиевые трубы мусороперерабатывающего завода им. Ленинского Комсомола, выбрасывают в свинцовую пустоту неба ткань ритуального дыма – пластиковой чумой; трубы заводов как горящие сигареты на самом горизонте под свинцовым небом, окутанные топленым молоком тумана, горят, будто невидимые, а перед ними бесконечность торфяных болот …
Дин-Гонви – построенный в иносказательной форме полумесяца, возведенный из кукурузного хлеба, постепенно начинающий гнить, плесневеть и разлагаться, олицетворяя свою неоспоримую бренность, созданную человеком… Дин-Гонви пересекают совершенно прямые и худые улицы, вдоль и поперек; с ультрасовременным речным портом, куда по воскресениям пришвартовываются загроможденные: солью; табаком; алкоголем; дегтем; мелом; рыбьим жиром и свиной щетиной, сухогрузные баржи, и иранские военные корабли …
Людей в этом городе хоронят по примеру древних египтян – в глиняных саркофагах, над землей, совсем недавно в Дин-Гонви вспыхнула эпидемия холеры, и безработных заставляли копать эти могилы, кое-где братские могилы для умерших рыли экскаваторами; и верстовые столбы пронзают илистую глину по всей территории этой бесполой земли, а все концертные залы превратили в мечети и в госпитали для больных коронавирусом …
Вначале 80-х большое количество жителей – африканские и сирийские беженцы, алжирские пираты, стиляги из Конго и пакистанские мигранты, навсегда покинули Дин-Гонви, выбрав в качестве нового места жительства: Лондон, Дублин, Эдинбург, Кардифф и Белфаст, в поиске лучших школ, улучшения условий жизни и чувства безопасности. Оставшиеся в Дин-Гонви, были людьми, которые не могли себе позволить переезд или те, кому просто нравился постмаргинальный образ жизни, классический образ жизни на дне; к середине 80-х, отток горожан оставил позади бедных, необразованных, безработных. Почти две трети домохозяйств имели доход ниже 80 000 марокканских франков в год. Город с одним из самых высоких уровней преступности в «Вавилоне н.э.»: усыпанные мусором пустыри и разрушающиеся футуристические комплексы из 60-ти домов в форме летающих тарелок из прочного стекловолокна, многие из которых заброшены; город – застывший во времени, где повсюду видны следы геноцида, следы двадцатилетнего правления Виртуального президента …
***
Я шел к каменной дамбе (а-ля дамба Гувера), на окраину города (я сидел на высоком откосе, скрестив ноги, приняв удобное для себя положение; слушал стук дождя, падающего на листья гиацинта – комнатного цветка, бело-лилового, посаженного мною в память о Слай, который, теперь, я постоянно носил с собой… Курил крэк и сочинял стихи об Анри Грегуаре – французском католическом священнике; о цветах, природе… людях в свободных одеждах, хиппи-химиках; я находил в этом утешение изоляции, удерживая в сердце своем бесконечность… Я дышал чужим воздухом, ел чужую еду, жил в чужом доме, спал на чужой кровати, пользовался чужим арпанетом… И, лишь там, сидя на вышине семидесятиэтажного дома, глядя в спокойствие растаявшей воды, я заносил в блокнот тишину, постигая некую безусловную истину, освобождая разум, разрывая круги сансары – бесконечную смену Рождения и Смерти, ел фиги и пил маисовое пиво: достигая полного просветления… И мне нужны были эти Поля Иару, эти поля галлюциногенных камышей)… Шел по неизбежности электрической железной дороги, земляное полотно которой, проросло: трёхрёберником и побегами вайя, нетронутое человеком, девственно чистое; неторопливо шел, под метилфенидатом, в густоте викторианского смога, оставив за спиной: деревянный куб заброшенного покосившегося изжитого дома, выполненного в стиле модерн – замкнутая кривая на плоскости оптической иллюзии, шел меж двух стен растущих по обочине этой транспортной артерии – подсолнухов, высотой около двух ярдов, шел уверенной походкой социального изгоя, позади канатного трамвая, обклеенного ретро-рекламой около-колы, ползущего плавно, очень медленно… передо мной; я пил тыквенный латте из «Данкин Донатс», для того, чтобы согреться (пришли холода – серебряным электродом, это было неизбежно, точно также как и восход солнца), заедая свой голод фирменным Биг Кингом, который, напоминал голову рассеянного и забавного человечка: полукруглые булки с кунжутом – это шляпа-котелок, повидавшая на своем веку много приключений, и не раз побывавшая в руках портного; фетровая шляпа-котелок, из-под которой, игриво торчат зеленые, не расчесанные волосы салата; два круглых ломтика огурца – узкие корейские глаза; говяжья котлета – сморщенное и суровое рабочее лицо; сыр, словно высунутый язык, неприлично торчащий из тонкой прорези невидимого рта… По висевшим на деревянных столбах электропередач уличным громкоговорителям была объявлена первая в мире воздушная тревога, – тяжелым звуковым сигналом, свинцовым облаком, распространяясь волнами безумия над Дин-Гонви.