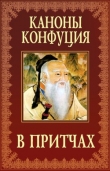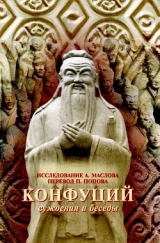
Текст книги "Суждения и Беседы"
Автор книги: Конфуций
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Он не осуждает и не отрицает материальное благополучие, хотя сам никогда не был богатым, а иногда и бедствовал. Более того, для него достаток – необходимое условие воспитания народа. В другой раз он говорит: «Быть бедным и не роптать – трудно. Быть богатым и не зазнаваться – легко» (XIV, 10).
И если сам Конфуций очень жестко относится к тем, кто нарушает ритуал как форму общения с духами предков, то он чрезвычайно снисходителен к тем, кто нарушает обиходные правила. Однажды властительный князь Цзи Кан-цзы предложил достаточно простой способ решения конфликтов:
«– А что если убивать тех, кто пути Дао не следует?
– Если управляете, – ответил Конфуций, – зачем же убивать? Если сами устремитесь к добру, то и народ станет добрее. Нрав правителя подобен ветру, а нрав народа – траве. Куда дует ветер, туда и клонится трава».
Конфуций решительно отвергает убийства как способ урегулирования дел в государстве, ибо неправедные подданные – это вина правителя, именно он должен воспитывать их своим примером.
Великий учитель, несмотря на все его многочисленные неудачи в самостоятельном управлении областью, в истории выступает не как романтик «первобытного утопизма», но как жесткий прагматик, он постоянно говорит об умении «использовать»: «использовать людей», «пользоваться ритуалом», «использовать подданных», «использовать народ в надлежащую пору» (I, 5). И порою он кажется дидактиком управления, неким древним типом «менеджера-управленца» (не случайно сегодня столь популярным в КНР стал образ «конфуцианского бизнесмена» – удачливого, но честного). Но нет, за каждой его фразой скрывается подтекст, абсолютно понятный слушателям и читателям последующих поколений, подтекст, описывающий ритуальное поведение человека в мистическом пространстве бытия. Конфуций выступает как мудрый проводник-шаман, обучающий людей тому, как пройти по этому могучему, пугающему и одновременно имманентно присущему пространству, не ошибаясь и не сгинув. Именно для этого конфуцианцы в своих работах столь большой упор делают на сакральные слова, столь схожие с архаическими заговорами, – не таковы ли термины «ритуал», «человеколюбие», «долг» и другие конфуцианские понятия? Конфуций в какой-то мере сыграл дурную шутку: он заставил все последующие поколения китайцев, равно, впрочем, как и западных исследователей, спорить о том, что означают эти понятия, как следует их трактовать, как поступать в соответствии с их истинным смыслом (чжэн и). Но как раз «истинного смысла» у них и нет, это – слова-пустышки, некие путеводные вехи, которые сами по себе ничего не означают, кроме как вонзенные в землю палки, и лишь указывают на потенциальное наличие правильного пути, пути по этому мистическому пространству, которое в своей совокупности уже недоступно людям времен Конфуция.
Лишь правитель в полной мере может обладать и магическими способностями-жэнь и благодатью-дэ. Воспринимая их от неба, он, как медиум, спускает это на своих ближайших чиновников и на народ, устанавливая гармонию в Поднебесной. И поэтому Конфуций служит правителю не как начальнику, но как воплощению этой силы. И решительно уходит, если эта благодать иссякает из-за нарушения ритуалов.
Правители, по его мнению, есть и у других «варварских» народов. Но правители не благодатны, а вот китайцы (в ту пору еще протокитайская этническая общность ся), даже оставшись без правителей, могут сохранять благодать (III, 5).
Перед истинными правителями, которые сохраняют постоянную связь с Небом, он благоговейно трепещет. К правителю он относится именно как к носителю благодатной энергии. Тот для него не столько человек, сколько персонифицированный дух, в котором воплощается вся энергетика предков. Когда Конфуций заболевает и правитель приходит его навестить, хотя мудрец и болен, – он все равно принимает правителя по ритуалу. Он отворачивает голову от востока, так как по ритуалу правитель должен сесть в западном углу, и Конфуций поворачивается к нему лицом. А поскольку Учитель лежал и не мог одеться, то просто накрывается парадной одеждой и перекидывает поверх пояс – теперь он готов встретиться с воплощенным духом (X, 19). Стоит правителю вызвать его к себе, он отправляется к нему пешком, даже не дожидаясь, пока запрягут лошадей (Х, 20), а переступая порог зала правителя, он «сгибался до пола», и голос его начинал дрожать.
Жизнь Конфуция – постоянное служение. Служение правителю, духам, долгу. Он служит постоянно, он держит себя в дисциплине сознания и тела ежемгновенно.
Вдохновляйся песнопениями и совершенствуйся музыкой
Как человек может совершенствовать себя? Конфуций в своей проповеди не многим отличается от ученых мужей своего времени, но все формы воспитания стремится довести до безупречного воплощения. Он ясно определяет свой путь совершенствования: «Вдохновляйся «Каноном песнопений», опирайся на ритуалы, совершенствуй себя музыкой» (VIII, 8). И ни слова – про государственное служение, про почитание старших, поскольку в этих трех составляющих его Пути заключено именно личное, интимное.
Прежде всего, это изучение древних песнопений, стихов, нашедших свое обобщение в «Ши цзине» – «Каноне песнопений» или «Книге поэзии».
«Ши цзин» – собрание песнопений, включающее всего 305 стихов, разных по содержанию, смыслу и объему. Тот список, который дошел до нас, составлен значительно позже жизни Конфуция, в эпоху Хань, т. е. в III в. до н. э. – III в. н. э. Примечательно, что сам Конфуций именует «Ши цзин» просто «ши», то есть «песнопения», «стихи». Это могло быть и разрозненное, еще не упорядоченное собрание древних заклинаний, в котором уже немногие посвященные типа Кун-цзы могли разглядеть именно магическую, заклинательную суть. Именно поэтому и следует «вдохновляться песнопениями» – как не через них, через эти моления, призывы и заклинания, понять духовный мир предков?
Он постоянно призывает своих учеников изучать «Песнопения», он апеллирует к ним в своих наставлениях, он ссылается на них, как на основу своего знания. Для него – это целый мир, где разворачивалась мистерия целостности человека и духов, человека и Неба, ныне, увы, утраченная.
Что он больше всего ценит в древней поэзии? Стиль, красоту слога, изящество выражения мысли? Если это и интересует его, то лишь в самую последнюю очередь. Для него поэзия, и прежде всего «Канон песнопений» есть самое яркое, самое полное, самое воплощенное выражение духа древних.
«В [Каноне] песнопений триста стихов. И если надо в одной фразе выразить их суть, то скажу так: «Непорочных мыслей нет»! (II, 2).
Понимание «Ши цзина» именно как сакральных магических формул исчезает уже во времена Конфуция, для многих это превращается в некий абстрактный ритуальный канон, непонятно зачем и как используемый. Но для Конфуция это по-прежнему важнейшие ритуальные заклинания, обращенные к духам, формулы, регулирующие поведение и настрой сознания человека.
«Почему никто из вас, мои ученики, не изучает «[Канон] песнопений»? О, [Канон] песнопений! Ведь именно с его помощью можно развить воображение и расширить кругозор, стать более общительным и научиться иронии. Из него можно научиться, как вблизи служить отцу, а вдали – правителю, как называются птицы и звери, травы и деревья» (XVII, 9).
Для него Канон – это действительно книга жизни, где есть все. Но даже беглый просмотр покажет нам, что, конечно же, подробного описания птиц и зверей, трав и деревьев и даже полного вида ритуалов служения мы не встретим. Неужели Конфуций пользовался каким-то другим списком «Канона песнопений»? Думается, что если версия Канона Конфуция отличалась от современной, то не так существенно, чтобы включать какие-то обширные пассажи, не известные нам сегодня.
Отличается не версия, отличается само видение Конфуцием содержания «Канона песнопений». Обратим внимание – он говорит, что «с его помощью можно развить воображение». Это может показаться поразительным в устах столь строгого книжника, как Конфуций. Но воображение это – особого рода. Речь идет о способности визуализировать невидимое, слышать то, что не слышно уху обычного человека, получать знания из видений и их интерпретации.
А вот другой источник вдохновения Конфуция – музыка. Почему Конфуций любил слушать музыку? Однажды он приоткрыл своим ученикам этот секрет – оказывается, вслушиваясь в переливы звуков, он видит перед собой великих мудрецов древности. Да-да, он не столько восхищается музыкой, сколько взирает на то, что скрывается за ней, – на глубины времени, в которых он черпает вдохновение! Конфуций видит не символические образы древних, но их живое воплощение и даже может различить черты их лиц! И в этой метафизической реальности он может беседовать с ними, задавать вопросы, а значит – учиться у них. Этот эпизод позволяет увидеть особое отношение Конфуция и его последователей к музыке – оказывается, она учит идеалу древности.
Именно музыка способна пробудить в человеке ощущение связи с Небом и переноса этого благодатного ощущения на людей – жэнь, т. н. человеколюбия. Более того, она может становиться даже критерием этого человеколюбия, чистоты душевного посыла человека. Конфуций ясно подчеркнул: «Если человек не человеколюбив, что он поймёт в Ритуале? Если человек не человеколюбив, что он поймёт в музыке?»
Что может выступить символом высшей упорядоченности? Конечно же, музыка. Разве она не является просто набором упорядоченных звуков? Отдельный звук, пусть даже повторенный много раз, не сможет усладить слух, а вот сведённые в сложную систему, они вместе дают мелодию. Конфуцианцы считали, что музыка имеет огромное воспитательное значение, «умиротворяет нравы и облагораживает души». Сам Конфуций был очень восприимчив к музыке, прекрасно разбирался в древних мелодиях и даже мог давать наставления музыкантам. Однажды, будучи в царстве Ци, он услышал некую мелодию, которая так его поразила, что в течение трёх месяцев он не чувствовал вкуса мяса, которое ел. «Я никогда и не представлял, что наслаждение от музыки может достичь таких вершин», – признался он.
Однако и музыка может влиять на людей по-разному. Конечно, она – символ упорядоченности и вселенской гармонии, но в этом и её опасность. Например, музыка боевого танца, во время которого разыгрывались сцены древних сражений, показалась Конфуцию «прекрасной, но недостаточно добродетельной», ибо возбуждала души, поселяя в них «военное начало». Но была и другая мелодия – «гражданская», под которую исполнялись удивительные по своему изяществу танцы с павлиньими перьями. Она была «и прекрасна, и добродетельна», поскольку выявляла в человеке глубину «культурного начала», которое так ценил Учитель.
Сам он настолько ярко переживал ритуальную суть музыки, что мог впасть в экстатический ступор. Известно, что как-то во время своего первого путешествия из родного царства Лу в соседнее Ци он услышал ритуальную музыку шао. После этого он «в течение трех месяцев не чувствовал вкуса мяса, что ел». Он восклицает: «Я никогда не мог представить, что столь высока может быть радость от музыки» (VII, 14).
Он постоянно наставляет, что существует ритуал за пределами внешних действий, истинная музыка – за пределами собственно слышимых звуков. «Когда твердят «ритуалы, ритуалы», разве имеют в виду лишь подношения даров из яшмы и парчи? Когда твердят «музыка, музыка», разве имеют в виду лишь удары в колокол и барабаны?» (XVII, 11). Истинная архитектоника звуков прорастает где-то в пространстве, не доступном обычному человеку, путь к которому лежит не через формальные действия – правила или «удары в барабаны», но через постоянное подвижничество, самопреодоление и самое главное – вглядывание в зеркало древних идеалов.
Сам Конфуций хорошо играл на цине – традиционном китайском струнном инструменте – и неплохо пел. Но искал он в музыке не красоту мелодии, не многоцветие переливов – он стремился как бы заглянуть за сам звук, в то пространство, откуда он исходит. Прекрасно ощущая мистическое, сокровенное, он тем не менее не любил говорить о них. Сохранилась поучительная история о том, как Учитель обучался музыке. Что же искал он в незатейливой мелодии древней китайской песни?
Его учителем был некий Ши Сян. С начала обучения Конфуция прошло уже десять дней, а он продолжал разучивать лишь самые элементарные аккорды, сам же объяснял это так: «Я лишь усвоил мелодию, но необходимо ещё овладеть и искусством исполнения». Через некоторое время, когда Ши Сян-цзы решил, что Конфуций может приступать к новой мелодии, мудрец произнёс: «Я ещё не постиг, в чём коренится выразительность её напева».
Прошло время, и Ши Сян-цзы вновь предложил Конфуцию перейти к разучиванию новой мелодии. На этот раз реакция Учителя была ещё более неожиданной. Конфуций ответил не сразу – он погрузился в глубокие размышления, а затем, будто очнувшись, взглянул вдаль и радостно произнёс: «Теперь я представляю этого человека. Он смугл, ростом – высок, а взор его устремлён вдаль. Он подобен правителю, взирающему на четыре стороны света. Да кто еще, кроме правителя дома Чжоу вэнь-вана (Культурного), сумел бы создать такую мелодию?!»
Ши Сян-цзы, поражённый, вскочил с циновки и дважды поклонился Конфуцию. Оказывается, мудрец угадал – эту мелодию действительно создал вэнь-ван. Да он даже и не угадал – он воочию соприкоснулся с древним правителем, прозрел его дух внутри себя. Стоит заметить, что именно вэнь-вана Конфуций считал примером человека культурного. Так благодаря музыке причудливым образом произошло мистическое соприкосновение двух мудрецов разных эпох.
Учитель, что стал Колоколом
Ученики для того Конфуция, который вошел в историю, – часть его образа, обрамление его мудрости и передача традиции. Как-то обращаясь к ним, он говорит: «Небо скоро сделает вашего Учителя языком колокола», или в другом переводе «сделает Колоколом» (III, 24). Трактовка здесь не сложна – этот деревянный язык колокола должен пробуждать звуки, отклики в душах учеников и последователей на много веков вперед. Он предвидит это и сообщает об этом откровении своим ученикам.
Именно ученики сыграли, пожалуй, самую важную роль в сбережении образа Конфуция. Их было более сотни, но лишь несколько десятков вошли в историю. Именно они бережно и непредвзято записывали изречения своего учителя, вероятно, сами до конца не понимая, важно или нет для вечности то или иное его высказывание.
Сколько прямых учеников было у Учителя? Казалось бы, исторические свидетельства и генеалогические книги школы должны были донести до нас их точное число, ведь это, по существу, указатель на линию преемственности мудрости от Конфуция к последующим поколениям. Но здесь повторяется та же ситуация, что и с биографией Конфуция. За кажущейся ясностью и логичностью изложения скрываются путаница, разночтения и несуразности. Безусловно одно: точное количество учеников Конфуция неизвестно, что, впрочем, не удивительно – далеко не все следовали за Конфуцием во всех его странствиях или постоянно находились рядом. С другой стороны, часть людей могла назвать его своим учителем даже в том случае, если Конфуций лишь раз побеседовал с ними. В анналы истории вошла цифра три тысячи учеников – именно так свидетельствуют «Исторические записки» Сыма Цяня, которые, однако, как мы уже знаем, передают в основном предания, а не реальные факты того периода (11, гл. «Кунцзы чжуань», с. 1938). Это, конечно, колоссальное, почти невероятное число, и сегодня трудно предположить, чем руководствовался составитель «Исторических записок» в этом пассаже его «Жизнеописания Конфуция». Но лишь семьдесят или семьдесят два ученика стали считаться ближайшими последователями – именно это число чаще всего фигурирует в различных биографиях Конфуция. Об этом пишет «Мэн-цзы», упоминается в труде другого философа «Ханьфэй-цзы», в трактате даосского толка «Хуайнань-цзы» и некоторых других. Говорит о них и Сыма Цянь, причем в несколько странном контексте – он пишет о том, что учеников Конфуция, «кто был искушен в шести искусствах, было семьдесят два человека». Речь идет о классических «шести искусствах», в которых должен был упражняться всякий достойный аристократ эпохи Чжоу – стрельба из лука, вольтижировка, ритуалы, математика, каллиграфия. Примечательно, что Сыма Цянь выделяет эти семь десятков учеников из всех остальных не столько по принципу близости к самому Конфуцию, сколько по их совершенству в «шести искусствах». Тем самым он, по сути, признает, что не в состоянии объяснить сам метод выделения «ближайших последователей» Учителя. Да и само число ближайших учеников для Сыма Цяня было не очень ясным – он просто передавал разные версии, сводя их воедино: он то говорит о семидесяти двух учениках, то о семидесяти семи. Более того, он перечисляет по именам лишь тридцать шесть из них, при этом шесть имен вообще не встречаются в «Лунь юе», а часть персонажей фигурирует в «Лунь юе» не как ученики Конфуция, а как просто люди, которые встречались с ним. Разумеется, он не выдумывает эти имена, Сыма Цянь просто в свойственной китайскому историку манере методично и малоосмысленно «складывает» вместе все возможные версии, истории, разночтения, предоставляя последующим поколениям разбираться в этом вопросе.
Сколько учеников фигурирует в самом «Лунь юе»? Исследователи, используя разные методы подсчетов, причисляют к ученикам традиции «Лунь Юя» двадцать пять – тридцать человек. В любом случае речь о «сотнях учеников» здесь не идет.
Из нескольких десятков учеников лишь несколько человек сыграли действительно важную роль в сохранении мысли своего учителя. Это Цзэн Шэнь (505–436), прозванный Цзэн-цзы – «Мудрец Цзэн», Цзы Ся (или Бу Шан, 507-?), Цзы Ю (или Жань Цю, 522–489), Цзы Чжан (или Чжуаньсунь Ши, 503 до н. э. – ?), Ю Цзя (или Ю Жо, 508-?). Скорее всего они образовали в последний период жизни учителя и после его смерти тот узкий круг учеников, которые бережно записывали все сказанное наставником, а потом приложили все силы, чтобы эти высказывания получили широкое хождение по царствам Центральной равнины. Они явным образом и составляли костяк школы, получив от Конфуция полную традицию. Косвенным указателем на это является тот факт, что они все вместе упоминаются в важнейшем сборнике «Ли цзи» («Записи о ритуале») именно как группа единомыслящих последователей. Стоит обратить внимание и на то, что если другие ученики лишь упоминаются в «Лунь юе», высказывания этих пятерых вошли в основной текст трактата, причем высказывания не о Конфуции, а самостоятельные философские суждения.
Ученики Конфуция в подавляющем большинстве были людьми знатными, подобно Конфуцию, из средних и мелких аристократических родов. Среди них было немного простолюдинов – Конфуций считал, что простой народ надо образовывать и воспитывать, но его священное знание им вряд ли было доступно. Вместе с тем Конфуций подчеркивал, что его учение доступно каждому, кто открыт своей душой – и одним из его наиболее любимых учеников становится Янь Хуэй, происходивший из бедной крестьянской семьи царства Лу.
Последователи великого наставника явно не были ни однородными по своим устремлениям, ни одинаковыми по своим талантам. Среди них выделялись четыре группы «по специализации»: одни были «самыми способными в осуществлении добродетелей», другие были «искушены вести беседы», третьи – в государственных делах, четвертые были знатоками в культуре или гражданских дисциплинах (вэнь) (XI, 3). Из текста не ясно, кто выделял эти четыре группы (а всего к ним причислены лишь десять учеников) – то ли сам Конфуций, то ли составители текста.
Он по-разному оценивает способности и качества своих учеников. Одних он высоко ценит; к другим относится снисходительно; третьи вызывают его искреннее восхищение; над потерей иных он скорбит так, что по нескольку дней не выходит из дома и не принимает пищи. Но примечательно, что основными носителями конфуцианской доктрины стали не они. Ученики Конфуция, как и положено благородным мужам, предпочитали не выставлять себя на люди, быть «скромными с достоинством», умели ценить себя и быть гордыми (один из учеников утверждал, «что его можно даже убить, но шапку он не снимет»).
Когда скончался ученик Конфуция Янь Юань, остальные ученики решили устроить ему пышные похороны. Они считали, что именно это соответствует истинному Ритуалу. Но их удивили слова Конфуция, который заметил: «Этого делать не следует». Нетрудно понять: Учитель боялся, что богатый внешний ритуал перебьёт в душах учеников внутреннее, личностное переживание. Более того, Конфуций видел в учениках своих детей и на умершего Янь Юаня смотрел как на сына. Разве может даже самый пышный похоронный обряд возместить утрату собственного ребёнка? Увы, ученики не поняли всей мудрости совета Учителя и поступили по-своему. Конфуций не стал их корить, он лишь с грустью заметил: «Янь Юань смотрел на меня как на родного отца. А теперь я не могу видеть в нём сына. Увы, в этом не мой грех, дети, а ваш».
В этом эпизоде – всё величие истинного Учителя. Ведь лучшие ученики не послушались его, а он не бранится, хотя из-за их поступка Конфуций «потерял сына», т. е. не смог исполнить настоящего, внутреннего Ритуала, как того требовала смерть ученика. Такова китайская традиция – истинный наставник не поучает, а лишь незаметно и плавно подводит к правильному поступку. Он оставляет ученикам свободу выбора, уважая личность в человеке, не ограничивает их и, более того, даёт сделать ошибку. Ведь именно в этом случае ученики сами способны осознать, что сделали, покаяться и больше не повторять ошибку. Нестрашно совершать промахи – непозволительно их не замечать и повторять вновь и вновь. Конфуций как-то заметил: «Лишь то можно считать ошибкой, что не исправлено».
Он подходит к своим ученикам именно как к последователям, как к продолжателям традиции. И бывает весьма строг, если те нарушают не столько его предписания, сколько дух самого его Учения. Для него важно не только формальное следование правилам (хотя в этом он весьма преуспел), но соблюдение заветов учения в душе. «Лунь юй» передает нам случай, когда аристократ Цзи-ши решил повысить поземельный налог, а один из учеников Конфуция – Жан Цю «помог в приумножении его богатства». Конфуций, узнав об этом, отказывается от ученика со словами: «Он не мой ученик. Вы можете, развернув флаги, с барабанным боем напасть на него» (XI, 17). По сути, Конфуций подвергает своего бывшего ученика публичному остракизму и призывает своих последователей. Мэн-цзы прокомментировал так эту историю из жизни Конфуция: «Из этого можно видеть, что Конфуций отторгал тех, кто помогал правителям преумножить богатства, при этом не отдавая дань уважения добродетельному правлению» (IVа, 17).
Ученики его часто расстраивают именно тем, что не могут размышлять над сказанным наставником. Он поражен тем, что весь день проговорил с одним из своих любимых учеников Янь Хуэйем, а тот, «подобно глупцу, ни разу не возразил мне». Впрочем, тут же одергивает сам себя: «Когда он ушел, я, озирая его жизненный путь, убедился, что Хуэй отнюдь не глупец» (II, 9). Конфуций на своем приеме готов показать ученикам, что такое – постигать суть человека без скороспелых выводов. Но в другой раз он опять расстроен: «Хуэй мне не помощник, он доволен всеми моими суждениями» (XI, 4).
Кажется, порою, что он не видит в них тех, кто может понести учение дальше, – они не понимают его, медлительны в своих мыслях, слишком по-школярски пытаются понять его мысль. Именно про них, своих ближайших и лучших учеников, он скажет: «Чай глуповат, Шэнь туповат, Ши лицемерен, а Юй грубоват» (XI, 18). «Туповатый Шэнь» – это один из лучших последователей Учителя, тот, кто многое сделает для распространения учения, Цзэн Шэнь или Цзэн-цзы. У Цзэн-цзы уже были свои ученики. «Лунь юй» рассказывает, что «Когда Цзэн-цзы заболел, он призвал своих учеников и сказал им: «Посмотрите на мои ноги, посмотрите на мои руки». В «Каноне песнопений» сказано: «Будь осторожен! Будто стоишь ты на краю бездны, будто идешь по тонкому льду». лишь сейчас я понял, как избежать недугов, мои ученики!» (VIII, 3).
Конфуций своим к ученикам то чрезвычайно снисходителен, то очень требователен, порою нетерпим к их, казалось бы, небольшим проступкам. И, тем не менее, лишь ученики для него являются единственными, кто способен до конца понять его. Он даже признается, что «лучше мне было бы умереть на руках своих учеников, чем на руках чиновников» (IX, 12). Связано это было с тем, что когда Конфуций заболел и при этом не находился на государственной службе, ему была оказана забота как знатному чиновнику – Учитель счел, что его «обманули» и поступили лицемерно.
И все же Конфуций прекрасно понимает, с кого можно требовать «великого действия», а кто не способен даже на малое. Однажды один из его учеников заснул днём, что было нарушением многих правил поведения, да и просто явным признаком безделья и лености души. Казалось бы, Учитель должен был разгневаться, возмутиться. Но Конфуций не был бы великим Учителем, если бы подходил ко всем с одной меркой. Он просто произнёс: «Трухлявое дерево не годится для поделок. Стена из навоза не годится для побелки. Так стоит ли упрекать Юя?» Не всякий человеческий материал годен для изготовления «великого сосуда», и не надо бояться признать это.
Конфуций не сердится на учеников, видя в своих последователях обычных людей с присущими им слабостями. Он понимает, что далеко не каждому дано пройти свой путь к благородному мужу; более того, Конфуций готов признать и свои ошибки в отношении некоторых учеников. По поводу того же заснувшего Юя он говорит: «Прежде я верил людям на слово: если сказали – значит, так и сделают. Теперь же я слушаю их речи, но смотрю, что они сделают. Я переменил своё отношение к ним из-за Юя».
У него бывают разногласия с учениками, по крайне мере дважды один из его любимых учеников Цзы Лу самым непосредственным образом не соглашается с поступками учителя (XVII, 5, XVII, 7), и Конфуций вынужден давать разъяснения своему поведению. Как иногда предполагают комментаторы, обе эти истории носят апокрифический характер и добавлены в «Лунь юй», дабы косвенно показать противоречивость Конфуция. В первом случае Конфуций отправляется служить к аристократу Гун-шунь Фужао, который выступил против своего хозяина, в другой раз откликается на призыв Би Синя, который не подчинился указам своего правителя. Все это действительно крайне противоречит обычной логике поведения Конфуция, который всегда призывал к почтительности перед правителем. Но все же образ Конфуция значительно более сложен, а сам он более противоречив, чем представляется из его «иконописного образа». Равно как очевидно, что у него были и противоречия с учениками (они проступают во многих диалогах), и непонимание с их стороны, и резкие выступления со стороны представителей других духовных школ. Стоит признать, что некоторым духом потенциальной конфликтности пронизаны многие пассажи «Лунь юя», в том числе и его диалоги с учениками.
Сама проповедь Конфуция и «Лунь юй» показывают, что в Китае не было некой отвлеченной философии, далёкой от жизни. Китайские мудрецы умели удивительным образом связывать мир видимый, каждодневный, изменчивый и мир метафизический, вечный и неизменный, мир чистого духа и сокровенного знания. Можно быть одновременно политиком и философом, великим стратегом и мистиком, как, например, знаменитый военачальник Сунь-цзы (VI–V вв. до н. э.) или как тот же Конфуций, постоянно соприкасавшийся с делами управления. Такая двойственность не характерна для европейской культуры, требовавшей от человека жёсткого выбора – или политик, или отшельник. Китай же, наоборот, ставил во главу угла человека в равной степени духовного и социально активного (это отнюдь не исключало существования отшельников, монахов и аскетов). Более того, человек, не приобщённый к духовным учениям, и правитель, не окруживший себя мудрецами, не мог удержаться на троне, а долг мудреца – предложить свой ум для решения политических проблем. Эти предложения делались в чисто китайской, конфуцианской манере – намёками, хитроумными отказами, т. е. с соблюдением всё того же ритуала прихода мудреца на службу, и эта машина «прихода во власть», запущенная ещё в эпоху Борющихся царств, действовала в течение многих веков.
Само же конфуцианство оказалось не просто набором отвлечённых рассуждений об идеалах человеколюбия, искренности и долге, но вполне практичным социальным и этическим учением. Конфуцианство стало именно той традицией, которая реально воплотила хотя бы часть своих идеалов в жизнь. И, понимая это, в обыденности проповеди Конфуций открывает перед нами внезапный мистицизм самопрозрения человека, что «вечно претворяет изученное».