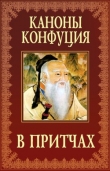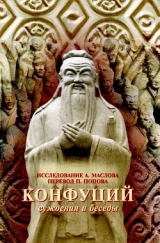
Текст книги "Суждения и Беседы"
Автор книги: Конфуций
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Учитель не рассуждал о духах»
Обычно, говоря об отношении Конфуция к миру духов, приводят фразу о том, что «Учитель не говорил о чудесах, физической силе хаосе и духах» (VII, 21) – именно так она звучит в одном из русских переводов. Из нее может сложиться впечатление, что Конфуций сторонился всякого мистицизма и отрицал основные понятия магического мировоззрения Древнего Китая: во-первых, хаос, который рассматривался как изначальное состояние мира, во-вторых, духов, которые так или иначе являлись частью Космоса древних китайцев. И здесь Конфуций может показаться рационалистом или, по крайней мере, философом, что преодолел архаическую традицию постоянного общения с духами.
Важно, что в тексте «Лунь Юя» речь идет не о духах вообще, а о духах-шэнь. А вот о духах типа гуй, которые в ту пору понимались именно как духи предков, Конфуций не только говорил, но и предостерегал: «Приносить жертвы духам-гуй не своих предков является подобострастием» (II, 21).
Но почему же Конфуций «не говорил о духах-шэнь»? Думается, прежде всего потому, что вся ритуальная жизнь для Конфуция есть прямое, непосредственное духообщение. Да, действительно, он «не говорил о духах-шэнь». Но лишь потому, что мог находиться с ними в постоянном контакте. Известно, что он «совершал жертвоприношение предкам, будто они были живые; совершал жертвоприношение духам-шэнь, будто они находились рядом» (III, 12). Для Конфуция с его вечным ритуальным радением контакт с духами шэнь представлял собой хотя и возвышенную, но в известной мере повседневную и, более того, обязательную часть жизни. О духах он не говорил, ибо знал о них, общался с ними, находился в контакте. Конфуций вообще не говорил о самых важных вещах, связанных прежде всего с магической техникой и переживанием. Здесь достаточно вспомнить, что он не только не беседовал со своими учениками о чудесах, духах, но и редко говорил, например, о судьбе (мин), о человеколюбии (жэнь).
Хотя сам Конфуций не только верил в духов, но и неоднократно апеллировал к ним, по-видимому, он считал, что человеку не подготовленному, не обладающему специальными знаниями, лучше сторониться такого прямого общения с потусторонним миром. Более того, он советовал, чтобы «народ почитал духов и души умерших, но держался при этом от них подальше». И именно такое поведение Конфуций именует «весьма мудрым». Главным же он считал процесс выявления в себе «человека культурного» на основе почитания древности. Излишнее поклонение духам (что было свойственно раннему китайскому оккультизму) только сбивает человека с истинного пути. Вообще же, как сказано в «Лунь юе»: «Учитель не говорил о необычных вещах, использовании силы, беспорядках и духах».
И тем не менее, внутренний мир Конфуция наполнен духами и молитвами к ним. Когда Конфуций заболел, его ученик Цзы Лу попросил его обратиться с молитвой к духам. Конфуций спросил:
«– А поступают ли так?
Поступают, – ответил Цзы Лу, – ведь в «Молитвенных наставлениях» сказано: «Молись духам Земли и Неба».
– Тогда я уже давно молюсь, – ответил учитель» (VII, 35).
Эпизод этот очень показателен – оказывается, Конфуций «давно молится», а его ученик даже не знает об этом. Значит, Конфуций молится внутри себя, молчаливо общаясь с духами и, более того, постоянно пребывая вместе с ними.
Конфуций вообще редко упоминал о вещах значимых, существенных – ведь чем больше толковать о них, тем сильнее становится неприятие речей со стороны учеников. Рассуждения о судьбе, о предначертании чужды Конфуцию. Человеку не дано познать свою судьбу, так что же говорить о ней? Зачем рассуждать о том, что людям недоступно, например о «сокровенном», о Дао, о пустоте, об истоках всего сущего, как это делали даосы? Учение Конфуция как бы намеренно заземлено на практическую жизнь. И здесь отразилось характерное китайское мировосприятие: цивилизация, породившая одно из самых глубоких мистических течений, живёт весьма прагматично, «не рассуждает о выгоде», но постоянно следует ей так же, как любой китаец стремится даже из мелочи извлечь свой интерес.

Как-то у известного мистика Ван Би (III в. н. э.), одного из создателей школы «Учение о сокровенном», спросили:
«– Небытие – это воистину исток всех вещей, но мудрец (Конфуций) не желает обсуждать это. Так почему же Лао-цзы постоянно рассуждал об этом?
– Конфуций, – ответил Ван Би, – воплощал собой небытие, а о небытии невозможно рассказать. Вот почему мудрец даже не рассуждал о нём. А вот Лао-цзы принадлежал к миру бытия и постоянно говорил о его недостаточности».
Сколь необычный поворот мысли! Конфуций молчал о небытии, о потустороннем именно потому, что знал об этом! А вот Лао-цзы лишь «слышал», сам до конца не понимая, поэтому и пускался в пространные рассуждения о том, что такое Дао, небытие, или «сокровенное начало». Если Лао-цзы и ранние даосы пытались обыграть ощущение мистического пространства, то Конфуций принципиально отказывается говорить о его содержимом, он лишь указывает на то, как пройти по нему, не ошибаясь.
Для другого представителя школы «Учения о сокровенном» Го Сяна мудрецом был тот, кто «мудр внутри и любезен снаружи», кто способен странствовать одновременно и в трансцендентном, и в профанном мирах. Следуя этим неодаосам, Лао-цзы и Чжуан-цзы пребывали своим сознанием лишь в трансцендентном мире, в то время как Конфуций был способен объединить оба эти мира.
Конфуций говорит, на первый взгляд, о вещах прикладных, посюсторонних. И здесь молчание Конфуция о «сакральном» обращается доказательством того, что он воистину знает о нем. Не случайно сам Учитель как-то обмолвился: «Небо же не говорит. Но мы понимаем его».
Да, действительно, Конфуций никогда не говорит о «сокровенном» – невидимом и потаенном. Он отказывается рассуждать о вещах эзотерических, очевидно, понимая, что все эти рассуждения лишь создают иллюзию приобщенности к тайному знанию. Воспитание, постоянное самопреодоление (кэцзы) – вот, что воистину сущностно. Именно это может подвести человека к раскрытию сокровенного.
Не говоря ничего о «потаенной» стороне бытия, Конфуций постоянно оперирует особым лексиконом сакрального пространства. Его излюбленные рассуждения касаются «высокой древности», когда все шло по правилам, ритуал не нарушался, дети почитали отцов, а идеальные правители типа Чжоу-гуна с человеколюбием управляли людьми. И в этом случае Конфуций ничего не доказывает и даже не указывает на точное время, оперируя временем мифологическим, не имеющим точного «размещения» в пространстве прошлого. Он лишь постулирует, используя прошлое как доказательство, в общем никогда не задаваясь вопросом, происходило ли это в действительности. Догмат «высокой древности» абсолютным образом соответствует глобальной мифологеме illud tempus – некого «священного доисторического времени», когда жизнь была идеальной, не случайно конфуцианцы именно к тому времени относили существование всех основных понятий, например абсолютной гармонии (хэ), «великого единения» (да тун). Нарушение законов illud tempus есть отпадение от первозданного рая. И в этом плане мифологема «высокой древности» ни в малой степени не отличается от иудео-христианских представлений об «утраченном рае». Впрочем, разница существует: христианство говорит о грехе, связанном с уходом из Эдема, формируя вечно невротический комплекс вины и ужаса совершить ошибку, необходимость бесконечного искупления. Конфуцианство видит в древности предмет восхищения и идеал подражания. Даже бюрократический рационализм Конфуция базировался на символике идеального прошлого.
Конфуций даже отказывается говорить о смысле некоторых типов ритуала, считая, вероятно, что ученики сами должны пережить акт духообщения и получения трансцендентного опыта. Порою он ведет себя так, как наставляли своих последователей чань-буддийские мастера столетиями позже, стремясь разрушить вербальный опыт учеников, заставить заглянуть за слова и внешние поступки. Например, когда у Конфуция спрашивают о смысле жертвоприношения ди, он отвечает: «Не знаю. Для того же, кто знает это, управлять Поднебесной все равно что смотреть на это». И указал на свою раскрытую ладонь (III, 11).
Из-за его недоговоренностей – то о ритуале, то о духах, то о качествах благородного мужа – у учеников создается ощущение чего-то тайного. Вероятно, именно тогда Конфуций, обращаясь к ученикам, и произносит одну из своих самых значимых фраз, которую мы уже цитировали: «Я ничего не скрываю от вас. Я ничего не делаю без вас» (VII, 23).
Мудрецов древности он ценил за то, что те могли поддерживать связь со всем миром духов, безотносительно их свойства. Разве не в этом величайшее мастерство: быть в контакте со всеми духовными силами? Для него, например, полулегендарный правитель первой династии Ся, победитель потопа Юй ценен именно тем, что «приносил жертвы как духам-шэнь, так и духам-гуй» и поэтому, как выразился сам Конфуций, «к нему у меня нет нареканий!» (VIII, 21).
Конфуций также выступает как типичный медиум, слышащий веления Неба и стремящийся их трактовать в силу своего понимания пользы для людей и общей гармонии в Срединных царствах.
Его приглашают на ритуалы экзорсизма – изгнания злых духов, которые проводились людьми из его общины – и это знак того, что Конфуций воспринимался как человек, связанный с практикой духообщения. В эти моменты он обряжался в ритуальное платье и стоял на восточной части крыльца (Х, 14).
При этом он действительно избегает прямых упоминаний о духах – эта тема табуирована для него, как всякая священная сущность. Конфуций даже не рассуждает о предсказаниях, хотя многие его высказывания по сути и есть предсказания. Как-то он обмолвился: «У южан говорят: «Тот, в ком нет постоянства, не может предсказывать и лечить».
Хорошие слова!.. Таким не дано предсказывать!» (XIII, 22). Этот отрывок открывает нам очень многое. Прежде всего сам Конфуций выделяет людей, которые могут и которые не могут предсказывать и врачевать, то есть посвященных медиумов и обычных людей. Способность к предсказаниям заключена в «постоянстве» – в постоянном поддержании связи с духами или постоянном сохранении своего сознания в состоянии экстатической открытости, радения. Не случайна и ссылка именно на «южан» – именно южное царство Чу славилось своими магами, предсказателями, и во времена Конфуция там еще сохранялись самые древние оккультные ритуалы и практики. Сам же Конфуций, очевидно, ясно представляет иерархию духов и способы общения с ними – иногда он оговаривается, как молится духу очага, в другой раз подчеркивает, что «приносить жертвы духам не своих предков – лесть» (II, 4).
Конфуций – не рационалист и даже не философ в западном понимании этого термина. Наоборот, он мистик значительно в большей степени, чем все его ученики и последователи. Он страшно боится духов и трепещет от одной мысли утратить связь с потусторонним миром.
Как-то Конфуций печалился: «О, как я опустился! Я уже давно не вижу во сне Чжоу-гуна!» (VII, 5). Учитывая, что столь почитаемый Конфуцием Чжоу-гун (VIII в. до н. э.) был основателем царства Лу – родного царства Конфуция – и сыном знаменитого чжоуского правителя Вэн-вана («Культурного правителя»), не сложно догадаться, что когда-то Конфуций нередко видел во сне именно духа Чжоу-гуна. К тому же Чжоу-гун как правитель царства Лу формально мог считаться предком-покровителем самого Учителя. И Конфуций трагически утратил связь с этим духом, не чувствует его и внезапно осознает, что отринут миром духов вообще.
На самом деле он страшно боится – боится утратить связь с Небом, с духами и перестать идентифицировать себя в сакральном пространстве. Это безумный страх, близкий к неврозу, вот именно поэтому, как представляется, Конфуций и «не садился на циновку, которая лежала не по ритуалу» (X, 12), и бранился, недовольный даже мелочью, нарушающей ритуальное единство с духами: «Этот кубок для вина не похож на обычный винный кубок. Так разве это кубок?! Разве это кубок?!» (VI, 25).
Конфуций ждет сновидений и знамений, он печалится, что «не прилетает дух фэн (феникс)» и из вод Хуанхэ не появляется знамение в виде священного дракона-лун с письменами на спине. «Конец мне!» – в отчаянии восклицает он (IX, 9). Учитывая, что и фэн, и лун, как мы уже замечали выше, были некими посредниками между царством людей и царством духов, а иногда и перевозчиками в царство мертвых, то перед нами оказывается напуганный пожилой мистик, который вдруг испытывает крах своей мечты постоянно находиться в контакте с духами предков и мудрецов.
Знания благородного мужа
Во всех рассуждениях Конфуция ярче всего проступает фигура благородного мужа цзюньцзы – идеального типажа, точки устремлений каждого служивого мужа. Под воздействием этого идеала сформировалась вообще вся моральная парадигма китайской культуры. Благородный муж «без гнева строг», он «безмятежен и спокоен» и логически противостоит «маленьким людям» (сяожэнь), которые не способны понимать и соблюдать ритуальную сторону жизни, испытывать человеколюбие, уважение к старшим, выполнять свой долг перед правителем.
Цзюньцзы принято переводить как «благородный муж» (Л. С. Переломов), «достойная личность» (В. М. Алексеев), на английский – gentelmen, хотя суть его образа значительно более глубока, чем просто достойное ритуальное поведение. Прежде всего он тот, кто «познал волю Неба» (ХХ, 3), и именно это отличает его от обычных людей.
«Благородный муж» превратился в символ всей конфуцианской традиции, в точку устремления каждого служивого чиновника или достойного мужа китайского общества. Чинность, спокойность манер, невозмутимость, преданность в служении, ритуальность поведения – именно таким конфуцианец представал публике. По сути, все конфуцианские труды так или иначе пытаются трактовать, какими качествами должен обладать цзюньцзы и как этого достичь.
Конфуций и его последователи не часто могли встретить этих благородных мужей среди современников, да и себя они таковыми не считали. Их идеал находился в далёком прошлом, которое мудрецы неизменно называли не иначе как «высокой древностью». В качестве идеальных благородных мужей выступали многие правители Древнего Китая.
Как ни странно, подлинные биографии древних мудрецов никого в Китае не интересовали. Ведь полнотой истины не обладает никто, поэтому и не имеет смысла обсуждать, реальны ли все рассказы о «совершенномудрых» древности. Значительно важнее те идеальные черты, которые им приписывались. Это не просто пример для подражания и не весёлые побасенки из жизни Древнего Китая. Ведь все эти люди – Хуан-ди, Фуси, Чжоу-гун, вэнь-ван – являются предками каждого китайца. То, что было присуще предкам, должно быть свойственно и их последователям, а значит, люди изучают свои изначальные качества, «себя в утробе».
Например, знаменитый основатель династии Чжоу-гун воплощал идеал благородного мужа, который, прежде чем что-то сделать, всё тщательно обдумывал; он не решался приступать к делу сразу – ведь сначала надо проникнуть в суть вещей, в глубину событий. И конфуцианец Мэн-цзы называет его образцом именно такой добродетели: «Если вдруг встречалось то, что он не мог полностью понять, он склонял свою голову и погружался в раздумья. Если было необходимо, он мог думать дни и ночи напролёт. И если ему наконец удавалось найти ответ, он спокойно садился ждать рассвета». Одновременно это могло звучать и как упрёк правителям – современникам Мэн-цзы, которые, не раздумывая, пускались в военные авантюры, разоряя своё царство.
Антиподом цзюньцзы является особый типаж – сяожэнь, которого принято переводить как «маленький человек», «мелкий человек» или «никчемный человек». Речь идет, естественно, не о его социальном положении, не о позиции в обществе, а об отпадении от идеала поведения. «Мелкий человек» не обладает благодатью, действует, повинуясь импульсам, а не велениям Неба. А вот цзюньцзы «требователен к себе», в отличие от маленького человека, который требователен к другим» (XV, 21).
Идеалу благородного мужа чуждо слепое и подчас жестокое реформаторство. Наоборот, он врастает в древность, черпает из неё, а потому терпелив и снисходителен по отношению к другим. Один из современников Конфуция – Цзы Ся утверждал, что человек должен дружить лишь с равными себе и сторониться людей более низкого происхождения. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, ибо именно так предписывали нравы того времени. Но истинный мудрец не боится оказаться униженным дружбой с «неравным ему». Наоборот, он своим присутствием облагораживает всё вокруг. Да и вообще, легко ли совершенномудрому найти человека, подобного себе? И поэтому один из учеников Конфуция возражал Цзы Ся, повторяя мысли своего учителя: «Я слышал обратное. Я слышал, что благородный муж – цзюньцзы ценит мудрецов и спокойно относится к большинству, и, будучи преисполнен восхищения к свершающим добро, он жалеет тех, кто не способен на это. Если я являюсь великим мудрецом, так почему же я должен быть нетерпим к людям? Если же я не являюсь мудрецом и люди отвергают меня, то как же я сам смогу отвергать людей?»
Да и вмешиваться благородный муж в людские дела не должен – он лишь способствует им, помогает, ибо «благородный муж содействует людям в их добрых делах и не содействует в дурных. А вот мелкий человек – наоборот».
Думы благородного мужа всегда о возвышенном, о самом трепетном и недостижимом в культуре. По сути это и есть размышления о смысле самой культуры: «Благородный муж думает о Пути (Дао) и не думает о еде. Когда пашут, то за этим стоит страх голода. Когда учатся – за этим стоит стремление к жалованью. Благородный муж печалится о Пути, но не печалится о бедности».
Конфуций уподобляет мысли о Пути стремлению голодного человека добыть пищу. Чтобы размышления действительно обратились к достижению Пути, необходимо желать достичь Пути так же сильно, как голодный страждет пищи, думать о нём так же постоянно, как молодого чиновника ни на мгновение не покидает мысль об удачной карьере и о большом жалованье, ибо в этом – его будущее.
Хорошо известно, что конфуцианство как таковое сформировалось значительно позже жизни патриархов этого учения: Конфуция, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. И пониманием сути конфуцианства, включая и трактовку смысла цзюнь-цзы, мы обязаны скорее неоконфуцианству X–XIII вв., а затем и конфуцианскому ренессансу эпох Мин и Цин. Естественно, что в тот момент, когда конфуцианство из личного учения Конфуция превратилось в государственную морально-политическую доктрину, многие ранние черты мистического, присутствовавшие в самом духе учения Конфуция, исчезли. Они были заменены на мораль и государственно-политическую софистику. А поэтому, внимательно вглядываясь в слова Конфуция, записанные его учениками, мы с интересом обнаруживаем в облике цзюньцзы такие черты, которые не позволяют понимать этот термин лишь как «благородный муж». Итак, насколько «благороден» традиционный китайский благородный муж?
Прежде всего цзюньцзы обладает абсолютным мастерством, феноменальными способностями «уметь все». Один из лучших учеников Конфуция Цзэн-цзы замечает: «Тот, кому можно поручить воспитание сироты ростом в шесть чи (138 см, т. е. не достигшего 15-летнего возраста. – А. М.), кому можно доверить управление царством размером в сотни ли, и кто при этом не оступится перед лицом трудностей, – разве это не цзюнъцзы? Конечно же, это цзюнъцзы!» (VIII, 6).
Этот цзюнъцзы, как ни поразительно, не должен знать ничего особенного, равно как и обладать полнотой знаний. Да и сами эти знания получены не столько от обучения, сколько в виде небесного мистического посыла, и в этом плане лично цзюнъцзы не должен много «знать». Сам Конфуций как-то вопрошает: «А многими ли знаниями должен обладать цзюнъцзы? Совсем немногими» (IX, 6). Таким образом, «знать» должен обычный человек, цзюнъцзы же получает свои знания отнюдь не от учения. Именно здесь – корень понимания сути знаний цзюньцзы – они не от мира сего.
Незнание, равное абсолютному знанию, «неумение» цзюнъцзы как проявление высшей, запредельной умелости – не перекликается ли все это с образом даосского мага и мудреца? Ведь именно Дао «не знает, но все вершится само собой», «не действует, но нет ничего того, что оставалось бы несделанным». Цзюнъцзы, как следует из слов Конфуция, может ничего не знать, но вершит все лишь своим внутренним состоянием, своей энергетической мощью. Кстати, некоторые комментаторы усматривали в этой фразе Конфуция о цзюнъцзы, что он «не обладает знаниями», намек на самого себя, но вряд ли это так – Конфуций как раз неоднократно подчеркивает, что сам он цзюнъцзы не является.
Так же, как и даосский маг, цзюнъцзы учит лишь своим присутствием, передавая культуру (вэнь) именно как энергетическую субстанцию. Он может поселиться среди варваров, и там тотчас исчезнут грубые нравы (IX, 14).
Цзюньцзы по сути – тот же маг и медиум, посредник между миром людей и духов, который благодаря своему знанию ритуала способен вступать в контакт с Небом. Абсолютное воплощение цзюньцзы – это сам правитель, который, как мы видели выше, является самым важным медиумом в общении человека и духов.
Для Конфуция цзюньцзы – это прежде всего воплощение идеала прошлых эпох, а не просто честный служивый муж современности. И это очень важная черта цзюньцзы – он идеал прошлого, он тот, кто способен осуществить связь эпох, передать импульс мистической мудрости от мудрецов прошлых поколений к современным правителям. И в этом смысле он выполняет ту же посредническую медиативную роль, что и архаические медиумы.
Конфуций постоянно подчеркивает эту обращенность цзюньцзы в прошлое. Еще в молодые годы, когда ему было лишь 29 лет (для Китая – это еще даже не возраст зрелости), когда умер видный чиновник из области Чжао Цзы-чан, Конфуций замечает: «Из жизни ушел благодатный человек прошлых эпох!» (12, гл. «Чжао-гун», 49.21б). Таким образом, для Конфуция цзюньцзы – это маг, обладающий идеалами прошлого и обративший свои умения на проповедь гармонии в государстве своим примером.
Своим присутствием цзюньцзы устанавливает абсолютное равновесие, гармонию и созвучие всех вещей, определяемое термином хэ. Существует еще и тун – «взаимотождественность» или датун – «великая тождественность всего всему», «великое взаимосоответствие», также ведущее к покою в Поднебесной. Однако есть принципиальная разница между хэ и тун, мысль о которой проводил Конфуций. хэ предусматривает многообразие мира и идей и даже некоторое разномнение, ограниченное, впрочем, определенными и порою очень строгими рамками «соответствия ритуалу». Например, объединение инь и ян дает в конечном счете разнообразие мира, однако инь и ян не тождественны (тун) друг другу.
И все же хэ позволительно лишь «человеку культуры», лишь цзюньцзы. «Маленький человек» не знает хэ, равно как и недоступно хэ варварам, не подверженным нормам китайской культуры. Культура вэнь в китайской традиции существует лишь как китайская культура – именно так судило конфуцианство.
Цзюньцзы характеризуется и особо трепетным отношением к родителям и предкам, не случайно понятие «сыновья почтительность» превратилось в конфуцианстве в одно из важнейших требований к воспитанию человека. Очевидно, что Конфуций, а за ним и многие конфуцианцы проповедовали не просто уважение к родителям, но необходимость установления особой магической связи с предками, в том числе и с душами давно ушедших. Собственно, забота о родителях является лишь частным случаем культа предков, и именно духи предков дают человеку возможность воспитать в себе жэнь. Интересно одно из замечаний Конфуция на вопрос, почему он отказывается от официальной должности. Наставник в ответ цитирует древний сборник «Шу цзин» («Канон истории»): «Достаточно лишь обладать сыновней почтительностью, и, будучи добрым братом, человек уже может оказывать влияние на правителей» (II, 21).