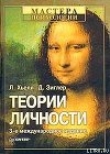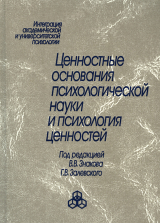
Текст книги "Ценностные основания психологической науки и психология ценностей"
Автор книги: Коллектив авторов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Современная российская психология развивается в условиях отсутствия «железных занавесов»99
Этот тезис, как минимум, очень спорен. В частности, в условиях недостатка средств в современной отечественной науке наши ученые имеют сильно ограниченные возможности ездить за рубеж, публиковаться в международных журналах (действует и языковый фактор) и интегрироваться в мировую науку, что дает основания говорить о новом виде «занавеса» – теперь не идеологического, а экономического.
[Закрыть] и вместе со всей мировой наукой переживает процесс глобализации (Юревич, Цапенко, 2005), помимо всего прочего, означающей частичное стирание ее национальных особенностей. Бóльшая часть отечественных психо логических исследований строится по западным образцам (в основном в рамках позитивистской парадигмы), представители новой генерации отечественных психологов подчас лучше знают западные психологические концепции, чем теории Выготского, Леонтьева и Рубинштейна1010
В данном контексте уместно сформулировать тезис о том, что вообще современная отечественная социогуманитарная наука превращается в посреднический механизм внедрения знания, произведенного западной наукой, в нашу социальную практику (Юревич, 2004).
[Закрыть]. Но и в этих условиях отечественная психология сохраняет ряд специфических особенностей и приобретает ряд новых. Например, «схизис» между исследовательской и практической психологией, хотя и имеет ряд интернациональных черт, с особой остротой проявляется именно в отечественной психологии. Одна из причин состоит в том, что если наиболее влиятельные теории западной психологии – теории З. Фрейда, Э. Фромма, К. Хорни, Э. Эрикссона и др.– разрабатывались в контексте терапевтической практики, то отечественные психологические теории в основном носят академический характер. Сохранение влиятельности этих теорий, а также преданность наших академических психологов соответствующим традициям закрепляют специфику отечественной психологии. Да и вообще отечественной академической психологии свойственна характерная для нашей государственной науки ценностная ориентация на служение обществу в целом, а не на выполнение заказов коммерческих структур или обслуживание индивидуальных клиентов, которая содействует сохранению ее специфики.
Четвертый уровень ценностных оснований психологической науки конституируется внутренними ценностями существующих в ней научных школ и направлений. Каждое из них – бихевиоризм, когнитивизм, психоанализ, теория деятельности и др.– формирует не только свой образ психической реальности и специфические принципы его изучения (Юревич, 2000), но и соответствующую систему ценностей. Так, в основе любой глобальной психологической теории лежит определенное представление о природе человека, имеющее ярко выраженную ценностную окраску. В частности, как пишут Л. Хьелл и Д. Зиглер, «все теории личности имеют в своей основе определенные философские положения о природе человека» (Хьелл, Зиглер, 1997, с. 434). Для психоанализа, например, характерна «мрачная концепция человеческой природы» (там же, с. 479), которая «вытекает из изучения Фрейдом людей, имеющих психические расстройства» (там же, с. 479), а для гуманистической психологии – представление о том, что «человек от природы хорош и способен к самосовершествованию» (там же, с. 479)1111
Одна из главных причин популярности психологических теорий состоит в том, что их сторонники разделяют соответствующие взгляды на природу человека. В частности, «теория Маслоу, подчеркивающая уникальность человека и наличие потенциала саморегулируемого и эффективного функционирования, обладает огромной притягательной силой для тех, кто разделяет его оптимистическую точку зрения на человечество» (Хьелл, Зиглер, 1997, с. 480).
[Закрыть], т. е. общие представления о природе человека, лежащие в основе психологических теорий, предполагают оценку этой природы, в результате чего строятся на определенных ценностных основаниях. А каждому из исследовательских направлений, возникших на основе подобных теорий, свойственна определенная прагматическая установка («Что делать» с человеком), тоже имеющая ценностную составляющую:
в случае бихевиоризма – сделать поведение человека контролируемым, в случае гуманистической психологии – помочь личности раскрепостить ее творческий потенциал, в случае теории деятельности – сделать человека более полезным для общества и т. д. И вполне закономерно, что соответствующие цели регулярно формулировались в работах основоположников этих направлений. Кроме того, общие методологические принципы, характерные для любого из них, как правило, не существуют в виде чисто когнитивных регуляторов исследовательской практики, а имеют ценностную составляющую и получают ценностное закрепление. При этом в любой методологической установке, как и в социальной установке вообще, можно выделить три взаимодополняющих аспекта: когнитивный (выражающий определенные представления об изучаемой реальности), поведенческий (предписывающий определенные образцы ее изучения) и аффективный (эмоционально закрепляющий эти образцы). Существование последнего объясняет и такие явления, как «методологические эмоции» (Юревич, 2000), которые испытывает каждый исследователь, и весьма эмоциональный характер взаимоотношений между представителями различных психологических школ и направлений.
Эти школы и направления порождают не только предметные ценности, проявляющиеся в отношении изучаемых объектов, но и социальные, находящие проявление применительно к психологическому сообществу и его конкретным представителям. В частности, сама по себе принадлежность к определенной психологической школе является ценностью для ее адептов, а отлучение от школы (что было сделано, например, в отношении К. Хорни за ревизию принципов ортодоксального психоанализа) служит строгой моральной санкцией. При этом отношение к другим, особенно оппонентным школам и их конкретным представителям тоже не выглядит ценностно нейтральным1212
В данном контексте уместно напомнить, что Т. Кун называл научные школы “боевыми единицами допарадигмальной науки”, имея в виду, что, во-первых, они выполняют в ней не столько собственно научные, сколько политические функции, во-вторых, что в “нормальной” – парадигмальной – науке они утрачивают свою роль. Высказываются и мнения о том, что отечественные научные школы во многом были феноменом советской тоталитарной науки, а в современной, глобализированной, науке научные школы вытесняются “незримыми колледжами”.
[Закрыть].
В современной науке вообще и в психологии в частности можно различить и еще одну ценность этого уровня – не принадлежать ни к одной научной школе, что, по мнению ученых, подчеркивающих свой «школьный нейтралитет», означает истинную объективность, отсутствие ангажированности какими‐либо внутришкольными взглядами и позициями.
Пятый уровень ценностных оснований психологической науки образуют ценности, воплощенные в изучении конкретных психологических проблем. Изучение таких проблем, как терроризм или агрессивное поведение, предполагает определенное ценностное отношение к ним (терроризм – это зло, агрессивное поведение надо блокировать), которое придает психологическим исследованиям определенную направленность – соответственно на изыскание способов борьбы с терроризмом или редуцирование агрессии. Но и в психологическом изучении более нейтральных проблем, как правило, имплицитно заложен определенный ценностный подход. Например, исследования интеллекта строятся на презумпциях о том, что иметь низкий интеллект плохо, а высокий – хорошо, и соответственно основная часть исследований интеллекта имеет в качестве явной или имплицитной цели выявление ресурсов его повышения. То же самое можно сказать об исследованиях способностей, мотивации, девиантного поведения и вообще об основной части психологических исследований. В этом состоит одно из очевидных отличий психологии от естественных наук, представители которых, например, физики не подходят к изучению атомов с позиций определенного ценностного представления о них.
Ценностная составляющая отчетливо выражена и в психо логических теориях, которые часто содержат либо явную, либо имплицитную ценностную интерпретацию объясняемого объекта. Например, Оно, Я и Сверх‐Я в концепции З. Фрейда несут различную ценностную нагрузку, да и такие теории, как теория справедливости, воплощают не только общие представления о том, что «хорошо» (в данном случае – справедливость) и что «плохо» (несправедливость), но и базовую систему ценностей современного западного общества.
Как ни парадоксально, «ценностная нагруженность» теорий, которые принято считать наиболее абстрактными системами научного знания, «очищенными» от всего личного и эмоционального, наиболее отчетливо проявляется на следующем, шестом, уровне ценностных оснований психологии – уровне личных ценностей исследователей. Дж. Ричардс подчеркивал, что в теориях, разрабатываемых в любой науке, можно проследить проявление личностных особенностей их создателей, но нет ни одной научной дисциплины, в которой это проявлялось бы с такой отчетливостью, как в психологии (Richards, 1987). Б. Эйдюсон пишет: «Теории о природе человека являются интеллектуальными средствами выражения объективной реальности в меньшей степени, чем психологических особенностей их авторов» (Eiduson, 1962, р. 197). А Л. Хьелл и Д. Зиглер возвели соответствующую установку в ранг одного из главных методологических принципов реализованного ими подхода к анализу психологических теорий. В своей книге «Теории личности» они утверждают: «Чтобы понять положения, которых придерживался тот или иной персонолог (выяснить “откуда они взялись”), необходимо в какой‐то степени понять его религиозный и социоэкономический статус, число членов семьи и последовательность рождения, отношения с родителями, образование и профессиональный опыт. Мы уверены, что биографические очерки (приведенные в книге Хьелла и Зиглера – А. Ю.) помогли читателю разобраться, как обстоятельства личной жизни теоретика влияли на его исходные положения и теорию личности» (Хьелл, Зиглер, 1997, с. 575). Как ни от относиться к подобным подходам, которые по аналогии с социологическими программами изучения социальной обусловленности научного познания (см.: Современная Западная социология науки, 1988) могут быть названы “жесткой” программой, трудно не признать, что та «объективная» реальность, которую психологи отражают в своих теориях, во многом преломлена их субъективной реальностью, помимо всего прочего воплощающей и их личные ценности. В частности, в психоаналитических теориях достаточно отчетливо отражены личные психологические проблемы их авторов, а также ключевые ценности культуры, в которой они сформировались1313
Те же Л. Хьелл и Д. Зиглер регулярно отмечают, что ни сами ключевые положения этих теорий, ни тем более их общезначимость не получили какого-либо эмпирического подтверждения, а, например, вопрос о том, все ли люди испытывают эдипов комплекс, их адептами даже не ставился (Хьелл, Зиглер, 1997).
[Закрыть]. В результате ценностная составляющая психологических теорий, служащая одним из их главных отличий от теорий в естественных науках, в основном представлена личными ценностями их авторов, выражающими их общий психологический склад, жизненный путь, особенности их культуры, и другие подобные факторы.
К данному уровню ценностей можно отнести и те личные ценности психологов, которые проявляются в исследовательской практике, например, при интерпретации результатов эмпирических исследований. Один из наиболее авторитетных специалистов в области методологии социогуманитарной науки Д. Кемпбелл подчеркивает, что получаемые ею данные «генерируются людьми, имеющими сильную заинтересованность в определенном результате; они работают в областях, где заинтересованность в определенном результате настолько сильна, что объективное описание фактов становится мало существенным мотивом» (Campbell, 1988, р. 326–327). Возможно, последняя часть этого утверждения – преувеличение, против которого в другом фрагменте своей книги возражает и сам Кемпбелл. Но трудно возразить против того, что интерпретация результатов психологических исследований испытывает большую зависимость как от когнитивных установок, так и от ценностных ориентаций исследователя. Разумеется, подобная зависимость существует в любой науке, в том числе и в естественной, что достаточно убедительно продемонстрировано целой плеядой ее исследователей (см.: Юревич, 2001; и др.) Но в психологической науке зависимость интерпретации результатов исследований, а также их организации и методологии от личных ценностей исследователя выражена куда более отчетливо, что бессмысленно отрицать и невозможно элиминировать. Но в данном плане психология мало отличается от других социогуманитарных наук, например, от политологии, экономики, социологии, где влияние личных ценностей исследователей на проводимые ими исследования более чем очевидна1414
Ярким примером может служить советский марксизм, возведший принцип партийности науки, т.е. ее ценностной ангажированности, в ранг одного из основных принципов научного исследования.
[Закрыть].
Таким образом, в основе любой системы научного познания лежит многоуровневая система ценностей, которая присутствует и в психологии, насчитывая как минимум шесть основных уровней (таблица 1). Иногда эти ценности, как, например, нормы научного исследования, вычлененные Р. Мертоном, эксплицированы и отрефлексированы, иногда – значительно чаще – они, подобно неявному знанию, описанному М. Полани (Полани, 1985), носят имплицитный, или, в терминах М. Г. Ярошевского, «надсознательный» характер (Ярошевский, 1978). Но они играют основополагающую роль в любой системе научного познания, а профессиональной деятельность, в том числе и научная, не цементированная соответствующими ценностями, возможна лишь в абстракции, подобной абстракции ценностно‐нейтральной науки.
Таблица 1
Уровни ценностей психологической науки

Литература
Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 24–42.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.