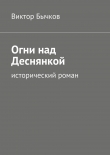Текст книги "Яйца"
Автор книги: Ида Гольц
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
ГЛАВА 10
Ранним летним утром четыре всадника в черных плащах с нависающими до половины лица остроконечными капюшонами, покачиваясь в седлах, неспешно вошли в город через арку Пренестинских ворот и, миновав базилику Санта-Мария Маджоре с венчавшей ее огромной колокольней, двинулись в северо-западном направлении.
В предрассветных сумерках короткой ночи, освещенной лишь редкими проблесками уличных фонарей, почерневших от чадящего в стеклянных светильниках конопляного масла, из синевы исчезающей тьмы, выступали углы и фасады Вечного города. Пройдя краем Эсквилин, всадники продолжили свой путь в сторону Капитолийского холма, и, оставив позади дворцы вечно враждующих друг с другом семейств Колонна, обосновавшихся в Квиринале, и Орсини, занявших противоположную высоту Капитолия, проследовали в сторону Тибра, с возвышающимся над ним Пантеоном замка Святого Ангела.
Рим мирно спал, забывшись крепким сном, какой только бывает на излете ночи, и ни одна душа не слышала мерного перестука лошадиных копыт по выщербленным сотнями повозок и лошадиных подков булыжникам городских улиц, отполированных в довершение башмаками тысяч римских горожан. Узкие улицы, где ютились дома простолюдинов – мелких подмастерьев, разнорабочих – поденщиков и мелкой прислуги, были устланы конским навозом, который старались сметать к обочинам, чтобы во время дождей мощеная дорога не превращалась в непроходимую хлябь. В рытвинах неровной мостовой плескалась вода, смешанная с нечистотами, которые по утрам выносили из жилищ и выплескивали на противоположную сторону улицы, подальше от своего дома, а жильцы домов напротив проделывали то же самое с содержимым своих зловонных ведер. Тут же в дневное время, утапливая лапы в грязи, прохаживалась домашняя птица, выгнанная из клетей, нежились в мутной влаге свиньи, спасаясь от дневного зноя и одолевавших их огромных с изумрудными крылышками мух, для которых обиталища римского плебса становились в летнюю пору настоящим раздольем с многочисленной живностью, нечистотами и остатками еды.
Миновав мрачные и дурно пахнущие кварталы, четверка всадников ступила, наконец, на более просторные и чистые улицы дворцов городской аристократии и почтенных римлян, часть из которых селилась поближе к Леонинской стене, за которой располагалась папская курия.
Путники пересекли мост Святого Ангела и продолжили свой путь, неторопливо двигаясь через Пассетто к папской обители, возвышавшейся своим тиароносным куполом над всем Леонинским предместьем.
Дорогой конники, неведомо откуда и куда державшие свой путь, мерно покачиваясь в седлах, не проронили меж собой ни слова, то ли зная с предельной точностью свой маршрут, то ли полагаясь на лошадей, ведавших сами, куда им следует двигаться. Да и время для своего путешествия неизвестные выбрали верное: кто в предрассветной мгле, станет выглядывать из окон, заслышав цокот копыт? Даже стражники у ворот виридария замка Святого Ангела, застывшие у входа в карауле, без расспросов, двигаясь, словно сомнамбулы, отворили двери, пропуская вовнутрь четверку наездников. Владения Первосвященника спали сном праведника. И кто мог, тем более с высоты конского крупа, разглядеть в предрассветном полумраке невысокого смуглоликого юношу, вжавшегося при виде незнакомцев верхом, в зелень миртового куста, пахнувшего на него горьковато-травянистым ароматом изумрудной листвы. От посторонних взглядов и возможности быть обнаруженным, спасла его не только темнота, но и серая холщовая куртка, надетая поверх белой рубахи. Как его чуткие ноздри защекотало от терпкого мускусного запаха лошадиных тел, так и нутром молодой человек почувствовал, что неожиданная встреча с этой мрачной четверкой, лиц которой, наверное, не разглядеть было бы из-под низких капюшонов и при свете дня, не сулила ему ничего хорошего. Кто тайком пробирается к цели, вряд ли желает быть узнанным.
Кому, как не ему, Зафиру, это было знать? Оставаться незамеченным, скрываться по необходимости от чужих глаз – эту науку он усвоил с детства.
Сейчас, по прошествии лет, в памяти время от времени всплывали размытые воспоминания, как совсем еще ребенком он плыл на корабле, но откуда и куда шло это судно, он представлял смутно. Судя по имени, которое он, конечно, к тому возрасту уже успел усвоить, мог только догадываться, что предки его, вероятнее всего, были родом из Магриба, но попали ли они на Апеннины прямиком с Севера Африки, или добирались сюда какими-то другими путями, Зафиру было неизвестно. До сих пор для него оставалось загадкой и то, как он мог попасть на тот корабль, покинувший по непонятным ему причинам одни берега и причаливший к другим. Но все многократные попытки вернуться мысленно в те дни, когда, будучи еще совсем ребенком, он оказался на палубе парусника, отправившегося в неведомые дали, не приносили никаких результатов. В памяти всплывали лишь обрывки воспоминаний: морской ветер, оседавший горькой солью на губах, грубые голоса мужчин, то и дело ловко вскарабкивавшихся и спускавшихся с корабельных мачт, скрип тяжелых и огромных, как стволы эвкалиптов, весел, вот, пожалуй, и все, что запомнилось из того далекого и кажущегося теперь, каким-то невсамделишным, будто в сказках, прошлого. Он помнил, как проваливаясь постоянно в голодную дремоту – желание есть преследовало Зафира потом еще годами, прижимался головой к мягкому женскому плечу. Даже узор ткани на ее платье запомнился на всю жизнь: на темно-зеленом полотне желтые вытянутые пятна с черной каплей зрачка по середине – как глаза тигра или ягуара – этих диковинных животных он увидел уже гораздо позже, повзрослев, здесь в Риме. Хищников везли по городу в больших деревянных клетках. Вот тогда, заглянув впервые в глаза этих диких кошек, Зафиру вспомнился и тот рисунок на платье женщины, прижимавшей к себе истощенного, изнывающего от жажды, ребенка. В такие минуты он явственно ощущал прикосновение ее рук, поглаживающих его по голове и слова, которые она постоянно при этом повторяла: Зафир, habibi66
Habibi (араб.) – любимый
[Закрыть], sgiri77
Sgiri (араб.) – мой малыш
[Закрыть], оmri88
Omri (араб.) – жизнь моя
[Закрыть]. Что они означали, юноша узнал спустя годы. А по началу, сойдя на берег в полном одиночестве– он и не помнил, куда подевалась та, в пестром платье, что гладила его по голове, прижимая к груди.
Мальчика встретили генуэзские трущобы с узкими, зажатыми меж плотно теснившихся потемневших до черноты от времени и грязи стен домов улицами, где едва мог пройти один человек. Даже высоко поднимавшееся над городом полуденное солнце никогда не заглядывало в окна этих мрачных жилищ, где ютился портовый люд, занимавшийся разгрузкой и погрузкой купеческих товаров и промышлявший здесь же воровством среди зазевавшихся или изрядно захмелевших от дешевого вина в какой-нибудь местной таверне горожан. Тут же шла торговля всем тем, чем можно было поживиться у заезжих гостей и предпочтительней задаром, стянув незаметно, если повезет, с торговой лодки то бочонок с маслом, то мешок пряностей или трав. На голодного и завшивленного ребенка мало кто обращал внимание– много тут таких бродяжек-побирушек, невесть откуда приблудившихся. Для Зафира это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому как мальчишке удавалось что-то украдкой стянуть с ярмарочных прилавков или со столов в тавернах, оставаясь при этом незамеченным из-за малого роста. Плохо, что вынужденное воровство было единственным и не очень надежным источником выживания. Летом, пока еще стояла жара не приходилось даже задумываться о крыше над головой– ночлег был всюду– на связке пеньковых канатов в порту, под раскидистым деревом, укрывавшем от дневного зноя или ночного дождя, прибивавшего хоть на время пыль и дарующего свежесть и прохладу.
Хуже стало к зиме, когда заметно похолодало, а Зафир, как был в простых льняных штанах и рубахе, превратившихся за это время в грязные лохмотья, так и оставался в том, в чем сошел на берег. Возможно, он и не пережил бы ту первую свою генуэзскую зиму, если бы голод и холод не загнал его однажды в пекарню. Там было тепло и пахло хлебом. Он незаметно прокрался в помещение и примостился под массивным столом, на который вываливали из деревянных ведер квашню, а затем, присыпая мукой, раскатывали то в круглые караваи, то в вытянутые колбасы из теста, а то просто разминали руками, превращая в плоские лепешки. Одну, такую, только что вынутую на деревянной лопате из печи, с неровной пузырчатой поверхностью с белёсым налетом муки и местами обуглившейся от огня, Зафир схватил со стола, обжигая пальцы и пряча за пазуху. Хлеб не только дразнил своим пшеничным запахом, но и согревал. От разлившегося по телу тепла и съеденной до последней крошки лепешки, мальчишку разморило. Уснувшего прямо под столом чумазого с раскрасневшимися от печного жара щеками его и застал пекарь Отто. Будучи сам восьмым ребенком в семье, он решил, что прокормит и этого голодранца, ставшего пятым среди его собственных детей. Поскольку ребенок выглядел диковатым даже после того, как его жена Мафальда, хоть и ворча – о, мадонна, к чему нам лишний рот, -но отдраила до красноты давно немытое тело, а Отто сбрил ему свалявшиеся волосы, унизанные белыми бусинами яиц, еще не вылупившихся вшей. Найдёныш оказался на редкость молчаливым, смотрел на всех исподлобья, насупившись, как его звать, не сказал. Недолго думая, Отто сам дал ему имя – Эспозито-Найденыш.
На новое имя Зафир не сразу, но со временем стал откликаться. Сообразил, что обращаются именно к нему. Остальных детей по началу сторонился, да и они разглядывали чужака, кто с любопытством, а кто с настороженностью. Языка, на котором говорили в семье Отто, Зафир не понимал, но довольно быстро усвоил обиходную речь, хотя по-прежнему отмалчивался, только кивал всякий раз головой, когда к нему обращались, и не всегда впопад.
– Он что, немтырь? – не выдержала как-то раз Мафальда, наблюдая за приемышем. – Что с ним делать-то? – вопрошала она с досадой мужа. – Как он дальше то будет? Ни слова от него не добьешься.
– Ничего, – успокаивал Отто жену, а заодно и себя, – месить тесто и печь хлеб, тут не язык, а руки нужны. А руки у Эспозито есть, значит научится. Да и голова вроде на плечах тоже имеется… – добавлял всякий раз он, глядя, что мальчишка, хоть и молчит, но понимать все больше понимает, что ему говорят.
Отто было невдомек, что мальчик может просто не знать их языка. А на иных пекарь и не говорил. Да и поди разберись, какого роду племени этот бродяжка! Кого только в Генуе не повстречаешь! А с виду Зафир не слишком отличался от его сыновей, двое из которых были постарше его, а один– последний ребенок Отто– едва научился стоять на ногах. Мальчики все были темноволосы, но сероглазы. Похожи на них были и обе сестры, одна из которых явно была одногодкой Зафира, а другая чуть старше. Что отличало его от остальных детей, так это более смуглая кожа и черные, как маслины глаза, которых ни у роду Отто, ни у Мафальды отродясь ни у кого не было.
«Хабиби, сгыри, омри», – шевелил одними губами Зафир, боясь даже собственного шёпота, пока темные фигуры неизвестных всадников не исчезли из виду. Слова из далекого прошлого стали для юноши своего рода заклинанием, словесным талисманом, спасавшего его от невзгод и ограждавшего от напастей.
Глухой топот копыт о пыльную грунтовую дорожку рассеялся вдали. Осторожно вглядываясь в предрассветную сизую дымку и вслушиваясь в каждый шорох, Зафир не заметил ничего, кроме рыжегрудых зарянок, перепархивающих с ветку на ветку и нарушающих тишину раннего утра взмахами своих легких крылышек. Только тогда он вышел из убежища миртовых кустов, скрывавших его от неизвестных гостей, не понятно откуда и неизвестно к кому и зачем прибывших в замок Святого Ангела.
ГЛАВА 11
Где-то за римским холмами брезжил рассвет. Неспешно поднимавшееся из-за невидимого горизонта весеннее солнце подсвечивало облака, громоздившиеся над городом, словно вершины огромных, до самых небес, гор, покрытые плотным ковром цветущей лаванды. Пройдет еще немного времени и лиловый оттенок сменится на нежно-бархатистый амарантовый. А значит Зафиру следует прибавить шаг, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. В эту неспокойную пору, которую переживал Рим, не стоило попадаться на глаза не только незнакомцам, но и дворцовым охранникам. Валясь с ног в утомительном ночном карауле, они не станут разбираться, кто свой, кто чужой. Легко оказаться принятым за лазутчика. Да и на кухне, если спохватятся, что его нет на месте, ему несдобровать. Заметит еще прислуга, делившая с ним ночлег в общей комнате, что тюфяк, набитый соломой, служивший ему постелью, уже порядком успел остыть. Начнутся расспросы, а это Зафиру ни к чему. Нет, он бы и глазом не моргнул, наплел бы Козимо, который верховодил на замковой кухне всеми работниками и распоряжался всей папской снедью, что, мол, не спалось, вышел по утру пораньше из душной спальни, пропахшей испарениями полдюжины мужских тел, на свежий воздух. Но Козимо с его вечно полузакрытыми, будто отяжелевшими от того, что этот немолодой придворный повар уже успел повидать на своем веку, глазами, даже из-под опущенных покрасневших век способен был распознать нехитрую ложь. А если уж он почует, что его кто-то пытается провести даже по пустякам, то старик, каковым он был в представлении Зафира, спуску не даст. Придумает непременно какую-нибудь отвратительную работенку для хитреца. Скажем, очистить котел от застывшего курдючного сала или вынести помои, а то и накормит розгами за пущую провинность. Чтобы впредь не повадно было, как любил он говаривать, наказывая лодыря или враля.
Словом, попадаться кому-либо на глаза Зафиру не стоило. А потому он тихо, на самых цыпочках, двигаясь осторожно, как кошка, чтобы не дай бог в полутьме не задеть ногой отставленную у печи кочергу или не толкнуть случайно локтем латунный подсвечник, прокрался к своему лежаку и тенью скользнул под грубое шерстяное одеяло. Только тогда он позволил себе осторожно неслышно выдохнуть. Словно выпустил остатки воздуха из надутого бурдюка, и только тогда закрыл глаза. Времени на сон уже не оставалось, того и гляди, завозятся в клетях на заднем дворе куры, разбуженные кочетами. А те, размяв пестрые крыла, тряхнув багряным гребнем, начнут прочищать горло на заре, и хочешь не хочешь придется подниматься снова. Но когда веки слипаются от бессонной ночи, даже несколько мгновений утренней дремоты покажутся сладким сном.
А тогда, в полуночной тьме, преодолев на одном дыхание путь от замка Святого Ангела до дворца Санта-Мария-ин-Портико, и пробравшись только известным ему потайными ходами к небольшой комнатке, где спала Пантасилея, Зафир нисколько не испытывал усталости, хотя позади был день, полный нескончаемых, как ему тогда казалось, повседневных забот. Он потрошил рыбу и птицу, чистил корзинами морковь и репу, прокручивал тяжеленные вертела и перетаскивал десятки увесистых котлов, в которых кипятилась вода или булькало варево.
Весь этот день он думал только об одном: когда работа будет закончена и замок забудется ночным сном, а он отправится в свое самое упоительное путешествие от дворца к дворцу, где его ждет Пантасилея. А та, в свою очередь, удовлетворив все нужды и прихоти своей госпожи: одевая и переодевая ее, помогая умываться и менять наряды, заплетая косы, бегая то туда, то сюда со множеством поручений, не имея, порой, ни минуты покоя, наконец, уединится в своей каморке. И вот тогда, прислушиваясь чутким, приученным к малейшим шорохам, ухом, тихо все ли в господских покоях, присядет на кровать и, вынув из-под подушки маленькое овальное зеркальце с серебряной ручкой– подарок своей госпожи – Лукреции– бросит взгляд на свое отражение. Поправит выбившуюся прядь волос и, смочив слюной указательный палец, проведет им по бровям, чтобы выровнить их изгиб.
До Санта-Мария-ин-Портико Зафиру удалось добраться только за полночь. Он пробрался на задний двор, тенью метнулся к неприметной двери с не задвинутой до конца щеколдой, которую он наловчился отодвигать проржавленным длинным гвоздем, заблаговременно, еще при самом первом свидании с Пантасилеей, припрятанным между кирпичной кладкой. Медленно, привалившись плечом, надавил на дубовый массив проема, и, чуть приоткрыв его, проскользнул в щель. Тьма за дверью стояла кромешная, но Зафира это не пугало. Чуть вытянув вперед руку, он двинулся вперед, ступая шаг в шаг, как кошка, угадывая наощупь уже знакомые предметы: пирамиду вставленных друг в друга пустых корзин, бочонки с маслом, которые касались ног пузатыми боками– все это были уже знакомые Зафиру ориентиры, направлявшие его по нужному пути.
Миновав подсобные помещения, он двинулся по первому этажу, неслышно скользя мягкими башмаками по мраморным плитам, к комнатке, где ютилась его возлюбленная. Ему показалось, что Пантасилея приоткрыла дверь даже чуть раньше, чем он успел поскрести в нее пальцем, подавая сигнал, что он уже на месте. Виделись они не часто. Только, когда монна Лукреция навещала отца и братьев в замке Святого Ангела. И только в те немногие случаи, когда брала с собой Пантасилею. По началу они несколько раз обменялись с ней взглядами, когда девушка оказывалась на замковой кухне. У нее были зеленые глаза. Это первое, что приметил Зафир, когда увидел ее. Потом мягкий изгиб бровей, которые были темнее ее светлых с рыжиной волос, заплетенные в косы и собранные на затылке. Прямой аккуратный нос, мягкий чувственный рот и округлый подбородок. Когда она улыбалась, на щеках появлялись ямочки, а редкая россыпь веснушек довершала ее облик, придавая коже лица какую-то особую прозрачность. Будь он художником, как тот мастер, что с недавних пор поселился в замке, расписывая интерьеры апостольских покоев, он бы обязательно нарисовал бы портрет Пантасилеи! Так считал Зафир, ловивший ответные взгляды служанки Лукреции Борджиа.
По началу девушка лишь скользнула по нему глазами, потом чуть дольше задержала на нем свой взор и, наконец, взглянула на юношу вопросительно. Зафир не настолько был опытен во всех этих переглядываниях с девицами. Да и на кого был смотреть ему в замковой кухне?! Ну уж не на раскрасневшихся же от жара печи поваров, крепкими сноровистыми пальцами ощипывающих кур и каплунов, месивших жилистыми руками тесто. Или на дебелых прачек, орудовавших рубелями для стирки белья, выколачивая его так, что пот струился под рубашкой, стекая тонкой струйкой к расплывшимся грудям? Пантасилея, в отличие от простых прачек да кухарок, что сродни были дородным караваям, которые они пекли, представлялась Зафиру изысканным лакомством. Как миндаль в меду, который он ей приносил, завернув в белоснежную тряпицу, или апельсиновые и лимонные цукаты. Он сам любил сласти, перепадавшие ему изредка с хозяйского стола, приберегал их, чтобы побаловать свою возлюбленную. Он бы принес ей и веточку цветущего миндаля, если б удалось сохранить его свежесть до столь позднего свидания. Но цветы для него были еще большей роскошью, нежели горсть сладких орехов и фруктов, которыми он угощал Пантасилею.
При слабом мерцании свечи, в полутемной своей каморке, Пантасилея казалась Зафиру еще красивее, чем при свете дня, зелень ее глаз глубже, чуть припухлые губы еще желаннее. Чтобы скрыть свое волнение, он принялся рассказывать всякие забавные истории из жизни замка. Правда, кругозор повара был невелик, ограничивался лишь кухней, да залом для трапез, куда его, приодетого для появления перед самим Родриго Борджиа и его приближенными, время от времени выпускали. Зафир в лицах и довольно живо показывал свое окружение, представляясь то главным папским кухарем Козимо, взирающим на все тяжелым взглядом своих полуприкрытых глаз, то толстозадую прачку Франческу, умудрявшуюся при каждом движении сшибать своими необъятными бедрами то плошки со стола, то кувшин с водой. Он даже посягнул изобразить сына папы Чезаре, кардинала Валенсийского, застав его как-то раз в саду замка, когда тот, сняв с лимонного дерева один из созревших с бугристой коркой плодов, разрезал его пополам, впившись зубами в мякоть. Он видел, как от лимонной оскомины перекосилось лицо кардинала и свело скулы. Пантасилею эти истории порядком развеселили, да и сам Зафир, вдохновленный сдавленным, чтобы не дай бог никто не услышал, смехом девушки, разошелся не на шутку, позабыв об осторожности. Рядом как никак была комната самой Лукреции Борджиа.
–Т-ш-ш, – Пантасилея накрыла ладонью рот Зафира, услышав, как в покоях госпожи хлопнула дверь.
Зрачки ее глаз от испуга расширились, от чего казались теперь совсем черными. От ладони девушки исходил аромат лаванды, нежно щекотавший ноздри юноши. Пантасилея все еще продолжала зажимать ему рот рукой, прислушиваясь к чьим-то удаляющимся за дверью шагам, а Зафир, сам того от себя не ожидая, вытянул горячие губы и коснулся ими ее ладони. И этот поцелуй напомнил обоим, что встретились они здесь совсем не ради лакомств, принесенных Зафиром, и не его веселых баек, которыми он потчевал девушку. Но эта продолжительная прелюдия обоим была необходима, чтобы отодвинуть момент, когда слова уже будут не нужны.
Пантасилея это почувствовала, одернула ладонь, будто поцелуй юноши обжег ее огнем, и даже отпрянула назад. И в тот же миг Зафир притянул ее к себе, усаживая на колени, а губы его скользили по тонкой шее девушки, затем к щеке, к виску, минуя ее полураскрытые то ли от испуга, а, может, и сладкой истомы, губы.
– Хабиби, – прошептал он едва слышно, одним губами слово из далекой прежней жизни, которое время от времени всплывало у него в памяти, но которое он почти не произносил вслух.
– Что? – выдохнула ему в ответ Пантасилея, отрывая губы от его рта.
Но пускаться сейчас в объяснения Зафиру хотелось меньше всего. Потом, как-нибудь, он все ей расскажет. Но только не сейчас. Не до того. Не время.
Тело Пантасилеи делалось все более податливым, как тающий в руках воск, и напряглось только, когда Зафир, преодолев все преграды платья, нижней юбки и нательной рубашки, коснулся ее обнаженного живота, а затем его пальцы, хоть и загрубевшие от работы, но тонкие, скользнули еще ниже. Пантасилея, уступая его ласкам, хотя сама, не имея любовного опыта, инстинктивно все плотнее прижимала юношу к своему телу. Неожиданная боль, о которой она хоть и была наслышана от более опытных товарок, что это неизбежно при первом соитии, заставила выгнуться ее дугой и попытаться отстраниться от Зафира. Но он осторожно снял ее руки со своей груди и, заведя ей их за голову с расплескавшимися по подушке волосами, накрыл своими губами ее губы, подавляя крик, готовый вырваться у нее из груди.
– Ты чего там строчишь?
Ленка сунула свой нос в ноутбук Эстер. Та даже не заметила ее появления за спиной.
Ранним утром в кафе телецентра народу не было. Так, пара-тройка человек завтракали после ночной смены. Свои, редакторские, в такую рань сюда заглядывали редко, а потому это, пожалуй, было единственным местом, где Эстер казалось можно спокойно уединиться.
– Что пишешь? – Ленка хитро смотрела на Эстер своими светло-карими, почти желтыми лисьими глазами.
– Да так. Ничего, особенного, – Эстер с глухим раздражением захлопнула ноутбук и вспомнила о своем давно остывшем кофе.
– Хочешь? – Она подтолкнула в ее сторону коробку с рахат-лукумом.
– Не могу. У меня гипергликемия с тяжелой декомпенсацией, – соврала Эстер, отодвигая сладости.
Чем запутаннее звучала фраза, тем большее внимание вызывал у Ленки человек, ее произносивший.
– Что правда? – недоуменно воззрилась та на Эстер, переваривая услышанное и явно не понимая смысл сказанного.
– Слышала про конкурс?
Ленка умела при этом мгновенно переключаться на другие темы, особенно если затронутая ею тема занимала все ее воображение. Она с деланной беспечностью, что означало важность предмета разговора, болтала трубочкой в стакане с клубничным смузи.
– Какой конкурс? – Эстер поправила на носу очки, вглядываясь в Ленку, которая со своего стакана переключилась теперь на созерцание темно-бордового лака на ногтях.
– Ну, мать, ты даешь! – усмехнулась та, вскидывая удивленный взгляд. – Ты что, опять в коме была, когда объявляли, что можно подавать заявки на конкурс программ на новый сезон?
– А что? Какие заявки?
Эстер явно была не в курсе. «Как всегда все сплетни я узнаю последней», – обычно отшучивалась в подобных ситуациях она.
– Да любые! – Ленку воодушевляла неосведомленность коллеги. – А ты зайди к Главному, спроси…
– Всенепременно! – съязвила Эстер
Ленка пристально и, как показалось Эстер, даже с ревностью проводила ее взглядом, когда Редактор сам пригласил ее в свой кабинет.
– Вот, читай, – он сунул ей под нос какие-то бумаги. – Вчера получили. Прямо оттуда, – Редактор неопределенно мотнул головой вверх, давая понять, что почта пришла из главного офиса телеканала.
Одно письмо было из больницы, куда прорывалась Эстер, чтобы увидеться с тем раненым во время беспорядков пареньком. Подписано оно было главврачом, возмущавшимся нарушением порядка сотрудниками телевидения, действовавшим вопреки всем запретам медперсонала на общение с пациентом. Второе– от родителей того же самого мальчишки, грозивших телеканалу судом за несогласованную с ними съемку их сына.
– Да, но… – Эстер взяла оторопь.
От клокотавшего возмущения, вызванного особенно жалобой родителей мальчишки, в горле встал комок.
– Как разруливать теперь все будешь? – Редактор выжидающе смотрел на Эстер.
– Я? Но они же… Мамаша эта сама меня тащила к сыну. Поговорите, поговорите, он все расскажет, он не против…
– Но ты-то должна была понимать, что люди в шоке были! Мало ли что наговорить в таком состоянии можно?
Эстер по началу казалось, что Редактор так, больше для виду напускает на себя строгий вид, и что сейчас они вместе обдумают, как выйти из положения. Не в первой же! И другим приходилось отчитываться перед возмущенными участниками репортажей, посчитавших, что репортеры недостоверно изложили факты. А бывало, что и сами люди, ввязавшись в конфликтную ситуацию, просто шли на попятный и желали потом публичной сатисфакции.
– А что мы, собственно, такого там сняли?
К Эстер вернулось самообладание и от минутного косноязычия не осталось и следа.
– Пацана на носилках? Мамашу, кидающуюся на грудь к сыну? Что?
– Вы не согласовали съемку в больнице, вот что!
Редактор выхватил из ее рук письма и швырнул их на свой стол и зачем-то принялся суетливо переставлять пластиковый стакан с ручками и карандашами, перекладывать с места на место зажигалку, сотовый, коробку с рахат-лукумом.
Точь-в-точь такую, что до этого предлагала Ленка, – заметила Эстер.
– Ну ладно. Что мне теперь грозит? Пятнадцать лет расстрела? – проговорила она, все еще пытаясь вернуться в стойку, как боксер на ринге, который только что схлопотал хук слева.
– Увольнение! Вот что! – Редактор хлопнул ладонью по столу, едва не опрокинув чашку с недопитым кофе прямо на компромат против своей подчиненной. – Там настаивают… – Он снова кивнул куда-то вверх.
– А-а-а, ну понятно…-протянула Эстер, догадываясь откуда ветер дует.
Еще в самом начале, когда она в редакции была совсем новичком, ее пытались уволить. На этом настаивал сам руководитель телеканала. Смешно сказать – за отклеившийся логотип на поролоновой насадке микрофона. Но потом наверху пошумели и затихли. Правда, Редактор не преминул заикнуться Эстер, что убедить шефа не принимать скоропалительных решений, ему стоило немалых трудов.
– Боюсь, не все тебе еще понятно, – Редактор недовольно взглянул на нее, раздраженный, видимо, ее показной беспечностью. – В общем, пиши объяснительную.
Эстер, решив, что разговор на этом закончен, двинулась к двери.
– Ты куда? – рявкнул Редактор.
– Так объясниловку пошла писать…
Он только махнул ей вслед рукой. Вышло это у него совсем как-то не зло, а безысходно, как показалось Эстер. Она шагнула в дверь, которой чуть не сшибла с ног стоявшую за ней Ленку.
– Ну как? – та с любопытством смотрела на Эстер, ожидая подробностей.
– Все, прох…чила ты свой конкурс! – строго взглянула на нее Эстер, возвращаясь к своему столу.
Ленка застыла на секунду, хлопая своими наращенными ресницами и явно что-то быстро прокручивая в уме, и метнулась в кабинет к Редактору.
Эстер смахнула в рюкзак свой рабочий блокнот и решительным шагом направилась к выходу, кинув в мусорную корзину оставшиеся не прочитанными пресс-релизы.