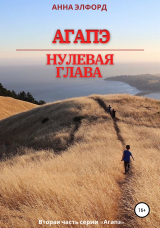
Текст книги "Агапэ. Нулевая глава"
Автор книги: Анна Элфорд
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Да, и вправду женщины ведают миропорядком. И нахлынуло на меня тонкое, новое чувство восхищения Эвелиной.
– Пока ещё не стемнело, вам лучше поспешить домой, мистер Зуманн, мистер Барннетт, – сказал Мистер Уилсон и опрокинул остатки ароматного вина, постукивая бокалом по дереву стола.
Он с дочерью проводил нас до ворот. Эвелина молчала пред грубостями отца (очевидно, выслушивая подобные мерзости не впервые в своей жизни). Ведьмы уже начинали завывать вместе с ночным ветром. Лес и долины уже почернели… солнце закатилось за горизонт. По коридорам мы вышли из дома; луна висела низко в небе, как молочно-белый череп. На моем влажном языке, где собрались капли вина, вертелись фразы, видения, красивые слова. А ухватить надо бы хоть одно – вот, трепетание нервов. Мне было неприятно видеть Эвелину такой печальной.
Нам с Зуманном подали коней, и перед тем, как отъехать, с мягкостью, как к собственной сестре, которая мертва, с отцовской нежностью, которую я не знал, я поцеловал маленькую, белоснежную ручку Эвелины. Да, Эвелина была скромна, пусть, может, и страстна в душе, как и насыщенный цвет её одежд – темно синее, идеальное платье. Как много бы не прошло времени со встречи с её характером, урождённым в графстве Кент в 1786 году, я никогда не вспомню без душевного трепета об Эвелине. Обхватив бёдрами коня, я заметил мимолётом, как мистер Уилсон подтолкнул дочь обратно в дом. «Тебе нет смысла проходить через эту пошлость, это унижение тебя минует», – сказал он. «Безупречные джентльмены загубят твою живую душу», – продолжил он. «Ты видел его модную, вельветовую одежду! Что за сумасбродная молодёжь», – говорил он.
Мои обнажённые плечи под материей одежд, где недавно бегали пауки, тонко-вьющие паутины трепета пред смертью, окутывал теперь июньский туман; квинтэссенция душ женщин и мужчин из соседних имений витали возле нас, и были они одеты в броские, яркие наряды; теперь они крутились возле моего коня.
Бутоны цветов уже начинали распускаться. К утру я не смог уснуть. Я лежал в тепле и в моей голове клубился вихрь контрастов – чёрная ночь и полыхание свечей, обшарпанный господин, сонные поля и нелюдимость слуг – словом, я не видел ничего; точнее, видел только ее руку.
Все вместе взятое означало рождение новой религии.
Глава 3.
Дилан Барннетт
Древесные листья июнь месяц выпятил силой. Златокудрое солнце, подобно причудливому субъекту, с юным пылом взирало на людскую греховность, на провинциальное графство Кент. Прошёл месяц с моего прибытия. Я сидел в столовой за простым деревенским завтраком. Зуманн присоединился ко мне. Руки он держал за спиной, а землянистое лицо и мягкий взгляд посмеивались над нерасторопной утренней обстановкой.
– Мне кажется я нашёл Сторге.
Этим заявлением я огорошил Зуманна; на его лице вырисовалась непередаваемая растерянность.
– И кто же эта девушка?
Я присел за стол, налил тягучего молока себе в кружку и отведал кисловатого смородинового варенья. Мои пальцы впились в горячую яичную скорлупу.
– Эвелина! На вчерашнем вечере я испытал к ней сестринское притяжение.
– Brannett perché complicarti la vita cambiando idea continuamente? Non è passato neanche un giorno ed hai già cambiato idea! – разразился криком на итальянском Зуманн.
Я перевел его слова в своей голове "Барннетт, как ты любишь усложнить жизнь! Как быстро меняешь мнение! Не прошло и дня, а ты уже передумал!". Однако, я не слушал его. Я включил режим инкогнито; я слился лицом с обоями, заперся, забаррикадировался в собственных мыслях, пока Зуманн возводил событие в кубическую степень трагедии. Но я не стал долго терпеть его крики; я вскипел, вскочил, бросился во двор под акацию. Какая-то дверца в душе хлопала, билась. Безумие! Скудоумие! Всю жизнь одни глупости. Сперва Зуманна выгоняют из Оксфорда. Потом он женится на девице, подвернувшейся ему по пути из Италии (я был очевидцем той судьбоносной встречи), а теперь он говорит мне упустить свой шанс молчанием.
Как по мне, лучше рассказать девушке о своих чувствах… она не выдаст тайны. А если и выдаст, то она не достойная тварь.
Я прикидывал то да се, взвешивал, сопоставлял. Я понимал, что готов дать ещё один шанс ради становления родственной любви меж нами, той любви, которой мне так не хватало всегда.
Когда на скамье около акации, где я устроился, вспыхнул ветер, я рассмешил себя проскочившей, яркой мыслью: мне страшно захотелось оседлать коня и пуститься галопом. И минул я двор. У конюшни подали мне жеребца. Когда я отдалился от цивилизации и ехал по аллее леса, небо стало торжественным. Кочки, острые сучки, ямки, кусты с ягодами лошадь горделиво обходила. Тени расходились, а солнце сонно жмурилось. Возможно, не всем будет понятна моя страсть к деревенским туманам. Туман – это дополнительное время на "подумать", разглядеть что-то в своей жизни, а не просто увидеть (а ведь разница колоссальна). Я мучился неизведанным, я желал познать тайну, но здравый смысл заставлял не губить Эвелину своими романтическими надеждами о будущем. Лошадь сорвалась на бег, перепрыгивая ручьи. В конце лесной тропы я обнаружил заброшенное кладбище. Здесь демонстрировалось благополучие, вечное упокоение посреди вселенской скорби. Здесь было вечное место переплетений жизненных новелл, но я был чёрств к их смертям.
– Сплошная чертовщина, – проворчал я, а лошадь перетаптывалась подо мной. – Эти пыльные надгробья кишат привидениями и чертями. – Паутина колебалась от ветки к ветке.
Я ощутил скверный суеверный страх перед насыщенностью воздуха сернистой смесью – я всё ещё сидел в сплошной нерешительности. Я словно собирался прыгнуть в воду, и не знал, отступить ли мне в последнюю секунду, или продолжить бег по пристани. Я постарался забыться и опустился на землю ногами. Я нервно прошёлся по мху, ограждая себя от мира кладбищенским оградой. Я шаркал мимо могилы неизвестного солдата, и когда рука Всевышнего направила меня обратно, я закрыл глаза с глубочайшим, идиотическим облегчением. Я испугался, вспылил, и с увлечённым видом медленно втянул голову в плечи, и лошадь подо мной развернулась в направлении Хорнфилд-Хаус. Вялая трава переливалась, подсвечивалась. Найдя тропку к крупной дороге, я нашёл на горизонте дом и прямое направление к нему; проезжая мимо садов я сжал лошадь бёдрами, слегка потянул поводья на себя, приостанавливая жеребца. Я взглянул на дряхлый дом нервозного мистера Уилсона; он уехал по делам в город. Мне почудился гремящий колокольчик где-то недалеко на дороге, и через минуту мимо меня проехала жалкая двуколка с одной старой кобылой в упряжке. Она проехала мимо, и вместе с ней Эвелина. Девушка держала разноцветные коробки покупок. С ней сидел незнакомый мне мужичок-кучер (дорога пылилась, и я не смог разглядеть его подробно). То ли кучер, то ли какой-то пират правит их двуколкой. Он низкий, мощный, серый, но лицо у него при этом было незаурядное.
Вот так – родители из дома, и юные леди творят, что хотят в городе: спускают деньги на ленточки, бантики, платья и шляпки. Эвелина попросила кучера скинуть скорость: она хотела поздороваться со мною. Я ритмично ударил лошадь стопами, и животное сорвалось на бег. Я видел на расстоянии, как мужчина обернулся, но не исполнил просьбу дамы, и они пропали за поворотом. Быстро скача и равнодушно оглядываясь, я вернулся в Хорнфилд-Хаус. Я сел напротив незажжённого камина в каменной, прохладной гостиной. Я неспешно облизал губы, почесал бакенбард, застыл на пару вялотечных, серых минут. Я не говорил. Собака с мокрым носом, впервые оказавшись внутри дома аристократа, посапывала у моих ног; служанки носились по коридорам, вынося серебро на обед на улицу. Эти слуги помогали мне быть благородным, великодушным, таким, каким они меня любили. Я кормил своим существованием дюжины семей лишь в Хорнфилд-Хаус. И стоило мне только сунуть нос в город по делам, как всё рассыпалось; слуги начинали слоняться без цели. Они проводили время в своё удовольствие в людской снизу дома.
На дворе после обеда стояла спёртая жара, и проворная муха несносно докучала. Жара придала моим щекам персиковую румяность, а глаза, не встречая другого взгляда целый день, смотрели перед собой – яркие, невидящие глаза. Я наблюдал за стеблями вьющихся роз, которые сплетались в густой ковёр, а на следующий день получил известие о бале. Душа воздушная, эфемерная, возрадовалась известию.
Когда экипаж разорвал материю тишины пустынной дороги, была дивная ночь, а приглушённая скрипка в сочетании с роялем возвещали о бурной, кипящей жизни людей в этой долине в эту ночь. Было темно, и когда мы с неясным Зуманном ступили из экипажа, мы слышали шёпот теней леди и джентльменов: «Какой важный… у него четвёрка лошадей!». Часы внутри дома указывали на десять вечера. Процессия танца приостановилась вместе с нашим с Зуманном приходом; в зале была жуткая толкучка, но перед нами все расступились, жавшись спинами друг к другу и к стенам. Чудеса делают деньги в единении со статусом, желание сделать милость. Мы без труда пробирались сквозь ужасное разнообразие запахов: свежих, сладких, кислых в богато убранном принимающем имении.
К нам с Зуманном подошёл призрачный и возвышенный распорядитель бала, и столь благородного свойства, позвал нас сыграть в покер (однажды, за покером другая девушка признаётся мне в любви, а затем погибнет). Здешние леди и джентльмены не точно передавали свои мысли, а язык Зуманна отдавал вопросом по ним восклицая: «Девятнадцать шиллингов за кусок материи?! Даже в Лондоне за такие деньги не одеваются!».
Одеваются, мой друг, ещё как одеваются. Просто это иррационально-пафосно. Но здесь было очень мало помпезности, и много веселости, живости, игривости. Около часа мы сидели за картами. К концу игры на ривере определится победитель раздачи; 7 игроков вскрыли свои 5 карт; я показал комбинацию фулл-хауз, но весь банк забрал мужчина тридцати лет. Он мне рассказал.
– Лет 20 назад, однажды, проспорив другу свои рассказы, я невольно устроил пожар в поле и выжег все заготовленное на зиму сено. Представляете, мистер Барннетт?
– Как же вам это удалось?
– Я был вынужден сжечь их, отрезая себя от прошлого, но на самом деле я был отчасти рад, ведь было стыдно перечитывать «детский лепет».
После того, как мужчина покинул нашу компанию, я взглянул на девушек, и одна из них не то что бы спешила, но торопливо сбегала по лестнице; она, в общем-то, даже медленно шла, пока её не сшибла толпа, не засосала течением. Другие же девушки в платьях из сливочных материй стояли с маменьками, наблюдая за хаотичным, звонким движением каждого и каждой. У каждой из них едко пощипывало в глазах от страха.
Я вытянул себя из пучины затянувшейся игры. Из-за вина у меня заплетался язык, силуэты акварелью расплывались в пространстве, а в голову, по ощущениям, затолкали вату. Я вошёл в чайную. Озираясь на шелка, на перья, я невольно задел плечо женского силуэта. Не видя её лица, я скорее рефлекторно, чем искренне, буркнул слова извинения, и пошёл дальше.
– Мистер Барннетт? – окликнула она меня.
– Прошу прощения? – Сперва я увидел красные ленты, стягивающие тёмные косы Эвелины, которые отсвечивали падающий на них искусственный свет. Перед мной стояла Эвелина в сливочном, не пышном платье, и сейчас я уж не припомню, правда ли она отражала свет, а не впитывала ли его в скромно позолоченные серьги и жемчужное колье. Или же мисс Уилсон вовсе излучала свечение в тот вечер!
При ее виде я протрезвел, телом резко выпрямился, манерно коснулся края своего цилиндра. Посреди комнаты я склонился перед ней в глубоком поклоне.
– Мисс Эвелина, я рад встретить вас вновь. – Моя рука привычно нырнула за спину. Я заметил странные перемены в своём поведении – я стал мягким и покладистым, а порывистость сдерживал.
– Мистер Барннетт… – Она опустила глаза цвета малахита на пол, и я понимал, что в памяти она поочерёдно восстанавливает фрагменты нашего единственного угрюмого совместного вечера: – Я вынуждена просить прощения за поведение моего кузена на ужине, – тихо выдала она. Однако, я был чёрств к гибели животного.
– И кто же вас вынуждает извиняться, милочка? – Спиной я полностью выпрямился, и из-за того, что моё тело рода Барннетт ростом было выше большинства женских, я смотрел на Эвелину с высока, да еще и тягучим, цепким взглядом. Но через пару мгновений я смягчил взгляд, и вежливо улыбнулся, как и подобает в светском обществе. – Прошу вас, мисс Уилсон, не извиняйтесь за все те недоразумения, которые не подвластны вам. Я надеюсь, что детская душа вашего брата не испытала страданий после. – Я вспомнил свою поездку на кладбище.
Эвелина поспешно кивнула в ответ, но это движение было неконгруэнтно, не соответствующее ее реальным переживаниям. Она затаённо смотрела за мою спину. Я наконец заметил, что она глубоко дышала, и дамы из танцевального зала, глядя на нас, перешёптывались с кавалерами. Без слов я подметил, что Эвелина чувствовала себя выкинутой за борт всеми этими условностями: она ни с кем была не знакома. Эвелина окунулась в стыд. Я нарочно спас её, сказав:
– Верно ли я понял, мисс Уилсон, вы совершенно ни с кем на балу не знакомы? – Она утвердительно кивнула, но в этот раз твёрже. – И некому вас представить окружающим? – смекнул я. – Вы чувствуете себя в западне. – После этих моих слов она прелестно и нежно вздохнула.
– Пообещайте, что вы никому не скажете… – она пожелала раскрыть мне тайну, и я ценил ее доверие.
Эвелина напоминала мне сестру, всё то родное, чего я был лишён.
– Никому не раскрою вашего секрета, мисс Уилсон. – Я слегка склонился над ней, чтобы никто больше не подслушал нашего разговора.
– Мой отец уехал по делам в город несколько дней назад. Он никогда не позволяет мне посещать балы, выходить в свет. И вы абсолютны правы, мистер Барннетт! Я словно в западне. Я ни с кем не в праве заговорить, дабы обо мне не подумали дурно. – Она нервничала, она была пристыжена, а я чувствовал – какая досада; чувствовал – какая жалость оказаться юной девушке в подобном положении.
– А как же те девушки, с которыми вы часто гуляете по садам? Они должны иметь хоть одного знакомого. Я не поверю, если вы заявите, что они также не имеют ни одного друга, помимо вас.
– Откуда вы знаете о моих прогулках, мистер Барннетт?
– Не сочтите меня дурным человеком. – Я контролировал свой нетрезвый голос как мог и осознавал подозрительность своего заявления. – Однажды я видел вас гуляющими в садах с другими дамами.
– Они вовсе не дамы, а обычные крестьянки! – неожиданно резко отозвалась она; в Эвелине было столько страсти, столько жизни!
– Но ваше положение сейчас подобно приключениям Родопис, – я заговорил поэтично-причудливо, да и многозадачно-туманно до такой степени, чтобы заинтересовать даму.
– Родопис? – теперь Эвелина говорила шёпотом, почти не дыша. – Мистер Барннетт, прошу прощения, но боюсь я совсем не понимаю, о чем вы говорите.
– Родопис – это та же Золушка у древних египтян. Её история пользуется большой популярностью тысячи лет. Когда я путешествовал по Египту, мне рассказал об этом один смельчак-удалец, по виду пират, за день до этого вернувшийся из Индии.
Я добился нужного мне эффекта – нос, живые глаза, тёмные брови приобрели известную стремительность.
– Не подарите ли вы мне танец, мисс Уилсон? Если вы оказались в подобном дурном положении, особенно впервые в жизни присутствуя на светском мероприятии, то я обязан прийти к вам на помощь.
Она ответила согласием на мое предложение.
Скрипач финально взмахнул тонким, элегантным смычком, выдерживая зрелось последней ноты. Предыдущий танец закончился; время нового. Дамы в темном танцевальном зале сделали почтительный, сдержанный реверанс, джентльмены медлительно поклонились. В это время влюблённые глядели друг на друга, молодожёны нарочно светили обручальными кольцами перед знакомыми, равнодушные и иные разошлись по сторонам, освобождая пространство.
Эвелина позволила коснуться материи ее нежной перчатки, и я повёл ее сквозь цветастые убранства дома. Пересекая холл (мы совместно преодолели пелену затхлого воздуха зрительской тесноты, и вырвались на свежую сцену актёрами). Зуманн увидел нас – он, почти брат мне, понял, уловил, увидел, что я очевидно влюблён. Итальянец наблюдал за нашим танцем со стороны. Прыгающая походка Эвелины гармонировала с ее нарядом – ее волосы слегка пушились у висков и вились кудрями у конца и посредине. Окружающие вне танцевального круга оглядывались порой на нас. Ее гибкая фигура остановилась в двух метрах в светлом ряду девушек напротив темного ряда мужчин. Лично знакомая со мной Родопис с земель Нила скромно улыбалась всем. Оживлённый танец начался – танцующие сделали несколько шагов друг к другу.
– Позвольте сделать вам комплимент? – начал развлекать её я светскими разговорами в процессе танце. Мы снова разошлись в разные стороны. (Казалось, я протрезвел)
– От комплиментов я никогда не отказываюсь, – ответила она. Я подстраивался под шаги девы.
– Для той, кто впервые оказался на балу, вы восхитительно держитесь в светском обществе.
Эвелина замолчала; мы прошлись в одну сторону вальсовым променадом и держались за руки. Мы сделали долгий, полный оборот по часовой стрелке.
– О чем вы думаете, мисс Уилсон? – спросил я, когда мы снова сблизились.
– Я задумалась о Наполеоне, – выдала она неожиданно, да коснулась моей руки пальчиками. – Вы увлекайтесь политикой, мистер Барннетт?
– Не смел бы заявлять, что увлекаюсь. – Мы обошли пару и разминулись, но когда Эвелина вновь оказалась у моего левого плеча, я с азартом продолжил разговор. – А что вы сами думаете о наполеоновских войнах?
– Французский император – обладатель великой души. – Мы всё танцевали и танцевали, она продолжила свой речитатив. – Бонапарт расчётлив, он действует во благо империи и готов взять на себя столь ответственное дело – поднять революцию! Наполеон – высшее выражение национального духа.
– Но Наполеон ужасно любуется собой, – насмешливо добавил я. – Верно, его деяния немыслимо велики, но оценивая его личность я заявлю, что император надменен. Он восславляет свое величие над всем миром. Я презираю высокомерие.
– А я более чем уверена, что на самом деле Наполеон бесправен и слаб взаперти своих императорских покоев! – Шустрый променад в обратную сторону. – В действительности он, как и все обычные люди, сожалеет об упущенных возможностях.
– Вы предполагаете, что мы всегда не так хороши, как хотели бы быть? – спросил.
– Верно! Наши души и тела сталкиваются с миром, поучающим нас о том, кто мы есть на самом деле.
Я смотрел на нее и видел ангела.
– Отлично сказано, мисс, – улыбнулся я. Ее остроумие было сдержанным и метким. Глядя на молочную шёлковую материю её одежд и румяность щёк, я заметил, как Эвелина смутилась.
– Простите меня, мистер Барннетт, порой я говорю глупости.
– Вы постоянно за все извиняетесь.
– Издержка жизни с моим отцом.
– Ваши слова – вовсе не глупости, мисс Уилсон. Но даже если вы скажете однажды глупость, мне они нравятся. Но если вы хотите поменять тему разговора, то я не буду противиться. – Два шага, и мы вернулись на свои изначальные места, вернулись туда, где танец начался. Каждый и каждая здесь поклонились друг другу.
Чувства внутри танцующих были настолько нежными и мягкими, как после знойного, тянущего в мозге душного дня, когда ты припадаешь виском к подушке в прохладе, и проваливаешься, и больше ни на что не обращаешь внимания.
Смеясь, Эвелина подбежала ко мне и подарила еще один танец. (Второй танец – это знак неравнодушия) Полуночные вздохи и порывы зимнего ветра осуждали нас. Откинув все предрассудки, мы с ней держись лишь немногих правил, и были не против этого (сдержанность и только сдержанность; нет! Наплевательство и отсутствие условностей).
Музыка заиграла, и я снова взял ее за руку. Зуманн наблюдал в паре с распорядителем балла за нами, флиртующими.
– Прошу, зовите меня просто Эвелиной, мистер Барннетт! – воскликнула она и закружилась возле меня.
Мы танцевали долго, а затем прошли в ароматную чайную, где я представил ее первым лицам мероприятия, после чего мы скрылись в саду с лавандой и ежевикой.
– Вы всю жизнь провели в графстве Кент? – продолжила она расспросы. – Я вот, никогда нигде кроме графства Кент не была. Я всю жизнь прожила с отцом в одном доме. А ты был заграницей?
– Я только там и был. Но в 15 лет мне и отцу пришлось уехать из Франции в Италию из-за Берлинского манифеста о континентальной блокаде Наполеона. – Мы вновь вернулись к теме французского императора!
– Как жаль! А ты говоришь на других языках?
– К сожалению, почти не говорю. За меня всё переводили, и мне стыдно за это. Эвелина, если бы я предложил тебе прокатиться со мной в открытой повозке на этой неделе, ты бы согласились?
– А ты приглашаешь меня? – спросила она не так-то уж комично, а с огромным удивлением, и, услышав подтверждение моих слов, она продолжила. – Да, в действительности, я была бы счастлива. – Своим согласием она восстала против отцовского гнета.
Когда я прибыл обратно в Хорнфилд-Хаус вместе с близким другом итальянцем, я ощущал тоже самое, что и вы, любезный читатель, когда вы отпиваете вина, рассуждая о будущем: и вы преисполнены надеждами. Внутри дома на всю ночь стало далеко до безмятежной идиллии. За наркотической дымкой остаточных воспоминаний я ощутил восторг от сегодняшнего вечера; в моей голове плясала полька. В одиночестве, в пленяющем тумане гостиной я сидел до рассвета и наблюдал, как утром таял городской дым. Эта была буря, взрыв, резкий порыв, и борьба «прежних убеждений» с «надеждами и предвкушением». Я сложил ладони и положил руки под голову, и это ощущение было мягче подушки. «Всё! Когда-нибудь я женюсь на Эвелине!», – думал я. Неожиданно резко и громко запела птица, как скрипка, под которую я танцевал с ней; глаза слипались; я выбросил остаток сигары и заснул под пение птицы.
В тот же час, в ту же минуту Эвелина вернулась к своей обыденности, и слушала ту же самую птицу. Сегодня, вернувшись с завораживающего бала в отчий дом к полуночи, она села на багряную тахту своих покой, и впервые ощутила себя полноценной за 26 лет. Эвелина не думала о других бедах жизни с липким нытьём в сердце. Она, вдыхая яркий аромат садов меж Хорнфилд-Хаус и поместьем старика Уилсона, сидела и наблюдала за ночью. Она чувствовала сознанием, что знала меня, Барннетта, на протяжении многих лет. Эвелина полагала, а точнее более чем с твердой уверенностью заявляла, что и я сам чувствовал подобную братскую теплоту к ней: без страсти, без эгоизма, но с надёжностью и постоянством.
По возвращению домой старик грозился в очередной раз поднять руку на дочь, и она рыдала, пока отец кричал. Лицо химеры искривилось нахальной улыбкой, когда, уходя ее отец добавил: «Тебя не опорочат эти господа! Мужчины портят таких девушек, как ты». Но даже крики часовой давности не портили её долгожданного ощущения полноценности Эвелины.
Глава 4.
Дилан Барннетт
Я обогащал свой жизненный опыт, уверенно правя землевладениями; мои ночные кошмары прошли в этой долине. Зуманн каждый день откладывал свой отъезд в Шотландию, сливаясь с Хорнфилд-Хаус, со мной самим в семейные узы братства.
После бала на прошедшей неделе, порой, лично обойду я комнаты, да раздвину занавеси, и снова скроюсь в глубине дома. Так на днях вошёл я утром в свои гостиную с ромбовидными, кофейными обоями, а служанка, скромно одетая в хлопковую розоватую униформу, рассматривает на полу мои карикатуры. Увидев меня, она вскочила и отбежала к окну, будто яркие цветы сада притянули ее к подоконнику. Звонкий запах перца надолго оставил след в моей памяти, когда служанка спросила разрешения заговорить и, получив в ответ отцовский кивок, она осмелилась самобытно раскритиковать мои труды! Я даже растерялся от ее дерзости и бесстрашия; во мне вскипели горькие чувства. «Дура! Пустышка! Не знаешь забот; надо бы нагрузить тебя работой на кухне!», – крикнул я. Читатель, я мог бы выделить целый абзац для описания кипящих чувств во мне, но вы и сами можете представить озлобленность от обиды. Но с уверенностью могу заявить лишь одно – следовало бы мне помолиться тогда при церковных лампадах!
(Сперва я действовал, затем закатывал глаза и думал о произошедшем. И тогда, и только тогда ярость сменялась покоем)
И сладость бежала по жилам, когда я поступал по-своему, пусть и неправильно, а затем шёл пить виски. Вечерами я тунеядничал, в смежных садах наблюдая за племянником Уилсона с гувернанткой; мальчик с отличительной чертой, – с винным пятном на шее, – сосал палец, касаясь лепестков белых петуний.
***
В день тайной встречи с Эвелиной (мистер Уилсон не должен узнать о нашей прогулке!) внутри лакированного экипажа я говорил Зуманну: «Какие мы с тобой неотесанные дураки! А если нас поймают? Лишь черт знает, что сделает с Эвелиной». Жизнь шла сонно и неповоротливо до того момента, как договоренность сбылась. Я правил лошадью, и мы с Эвелиной в экипаже ехали вдоль полей долины, где Цезарь сошёл со своих кораблей. Ласточки вздымались, предвещая дождь, и воробьи опадали фонтанчиками. Листья, деревья были живые. Я улыбался, когда Эвелина звала меня просто по имени, словно мы друзья с пелёнок, брат и сестра.
Хороша она была, как морская пена; я долго сомневался в истинности ее особенности, но это оказалось правдой. Она завораживала меня до слабости, чего не было ни разу до этого в жизни.
Неожиданно Эвелина спросила меня, забуду ли я её когда-нибудь. Я взглянул на ее красные ленты в чёрных волосах, на позолоченные серьги, которые она носила всегда; моя Родопис, то бишь Золушка, твёрдо улыбнулась с ямочкой на щеке. Я доподлинно ответил: «Дорогая, тебя очень трудно забыть, при всем моем желании», а она всё мрачно продолжила: «Умоляю, не забывай меня никогда». Эвелина боялась остаться одной. Фиолетовое платье для прогулки и ласковые, сдержанные украшения гостеприимно влекли меня; лишь за две встречи мы оба начали понимать, что терроризируем мысли друг другу. Правда, страсти никакой не было. Лишь только связь двух душ, связь, которая обрывала период жуткой пустоты обоих из нас, порождённый семьей.
Мы говорили без умолку, и я достал из кармана первую подвеску из прозрачного пенистого ирландского обсидиана и подарил ей, попросил надеть на себя и никогда не снимать, и Эвелина выполнила мою просьбу. Камень на ее шее успокаивал меня.
– Почему твой отец не позволяет тебе выходить в общество? – обеспокоился я; утренняя дорога была пуста, и только редкие подводы облегченно гремели в пешеходной оживленной тишине.
– Мой отец жестокий и нелюдимый человек, Дилан. Он не выносит мысль, что нас с ним что-то может разлучить. Он не благословил ни одного из моих женихов!..
Эвелина невозмутимо взглянула на меня, взглянула вперед, обернулась на едущий позади экипаж с Зуманном и гувернанткой. Она рассмеялась над моей не озвученной претензии к ее отцу. (Ревность лежит у сути всего; ревность – самое прочное из человеческих чувств; ревность нужно искоренять)
– Ты помнишь, что сказал он в вечер ужина?
– Да, я отлично помню слова твоего отца. Безупречные джентльмены загубят твою живую душу. Что за сумасбродная молодежь, – сказал он.
Как выяснилось мой отец был не единственным, кому было суждено питать к своему отпрыску любовь, окрашенную холодом и горьким безразличием – таким же был и мистер Уилсон.
– А после того, как мой кузен принёс в дом тело собаки… – Я наблюдал, как связки внутри чудной шеи Эвелины на мгновение атрофировались, и вновь задребезжали, а гортань опустилась. – После того мой отец не в себе. Но мне, Дилан, просто необходимо общество таких людей, как ты; с кем у меня родственная связь. Иначе я умру.
Остаток дня мы провели за разговорами без смущения; всё вокруг глядело так богоугодно (церковь рядом), важно (дом град управленца), так радостно (река!). Через несколько часов мы нашли себя у того места, где все началось, у безмолвной двери, обременённой колонами. Дом Уилсона выделялся на фоне тускло-фиолетового неба и древнего заповедника. Об этом заповеднике Эвелина рассказывала: «Там гигантские тисовые деревья, вечнозеленые дубы. По канавкам, размытым ежегодными дождями, бегают муравьи, обрушая на самих себя несерьезные лавины пыли».
***
Прошли очередные две недели из срока в один год. Эвелина наблюдала за традиционной июльской игрой в регби; «Рай-то, рай-то какой!», – крикнул я Зуманну в другой конец комнаты, оглядывая с верхнего этажа гостей в саду. Птицы напряжённо носились за крошками с нашего стола; мои давние, богатые приятели ожидали развлечений (их предки эмигрировали из Франции несколько веков тому назад). «Но в то же время я бы не отказался загнать сейчас оленя! Или пойти на лису вместо всех этих приемов!», – воскликнул я. Весь городок ожил из-за моего приёма, где к толпе всякого люда примешались горожане.
Я отошёл от окна, спустился по лестницам, вышел в сады, невольно очутился в обществе породистых кабелей. Праздник был восхитительным, кружева и драпировки белыми и воздушными. Темно синий, почти что чёрный фрак на мне, красные перчатки и светло-серый цилиндр не выделяли меня из большинства городских модников и модниц. Я увидел Эвелину. Сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони, где была организована чайная. Она глядела на чистое голубое небо, и мне казалось, что мы не виделись все 40 тысяч лет. Мы провели все утро вместе, а когда Зуманн в очередной раз отказался играть в подвижные игры, Эвелина удивила каждого выйдя на поле. Она вполне успешно выступила! После развесёлой игры мы с Эвелиной, усталые и вспотелые, стояли в стороне под елью и язвительно пререкались. К нам подошёл Зуманн.
– Здесь есть неглубокая река за холмом, – сказал мне итальянец и ринулся бегом к калитке, выскальзывая к опушке леса.
– Хорошо! Я очень рад.
Я бросился следом, и через пару минут мы с другом выбежали к шуму воды. Сбежав с праздника, будучи в статусе владельцев приёма, мы с Зуманном, словно мальчишки, не обремененные обязанностями, сбросили дорогие материи и прыгнули в воду, да и погребли вглубь вод. Я плыл и слышал, что где-то на берегу лают собаки. Утки с утятами неслись прочь по водной глади от нас. Эвелина вышла на наш след, когда мы лёжа просыхали на берегу. Пышные ткани её юбки испачкались от прогулки по лесу, но продолжала она выглядеть так элегантно, так нежно. Эвелина уселась на мох древнего пня.
– Знаете, господа, я могла бы жить в одном доме с чьим-то мужем и его женой, – сказала Эвелина.
Она улыбнулась небу, и Зуманн за ней рассмеялся облакам. Эвелина рассказала, что с детства обожает воду, и я подержал ее, разделив ее страсть к озёрам, рекам, шумному дождю и грязным лужам.








