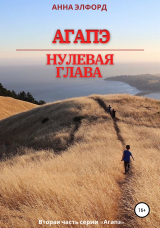
Текст книги "Агапэ. Нулевая глава"
Автор книги: Анна Элфорд
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Анна Элфорд
Агапэ. Нулевая глава
233 года остались позади. Поделюсь же я своими впечатлениями и своей эпопей!
Хронологически расположенные имена:
Дилан Барннетт (1791-1812)
Àдам Нил (1812-1837)
Àртур Хэмптон (1837-1849)
Плутарх Райан (1849-1899)
Лайдж Филлипс (1899-1918)
Генри Уоррен (1918-1945)
Сэмюэл Флеминг (1945-2014)
Дилан Барннетт (2014-2024)
Коллекция видов любви:
Сторге – Эвелина
Людус – Мисс Бёрт
Мания – Анечка
Филия – Мона
Прагма – Элен
Эрос – Венера (Ви)
Агапэ – Грейс Хилл

Уточняющие понятия:
Знакомый – это человек, с кем у вас поверхностный контакт.
Приятель – это обладатель схожих интересов, взглядов. Приятели могут жить друг без друга; нет той самой привязанности.
Привязанность – процесс становления той или иной личности неотъемлемой частью жизни; при привязанности особенно трудно расстаться.
Любовник следует за приятелем (привязанность отсутствует) – это лишь физический контакт.
Отношения, связь – это явление, при котором возможно полностью понять другого человека, когда этот человек становится неотъемлемой частью жизни. Отношения – это желание остаться рядом.
Виды любви по Платону:
Людус – гедоническая игра, выстроенная без эмоциональной привязанности. Это замирание сердца, флирт, дрожь от пойманного взгляда, эйфория, игривость. Людус – это всегда отношения без серьёзности, частая смена предмета обожания. Секс – средство выражения сексуальности, занятная игра без глубинных интимных желаний. Даже если влюблённые соблюдают вынужденную дистанцию, то они начинают охладевать друг к другу, но также хорошо сочетается с физией.
Эрос – эгоистическая страсть, сексуальное притяжение двух личностей, желание полностью обладать им или ей. Это быстролетная искра, почти сразу же тонущая в толще людской жизни. В эросе преобладает скорее биологическое людское начало, чем социальное. Эрос крайне редко приводит к основательному союзу. Этот тип любви вспыльчив, динамичен, агрессивен, способен привести к глобальному конфликту и импульсивно разбитому сердцу. В греческой мифологии эрос – это одержимость, которую испытывает каждый, поражённый стрелой Амура. Живая и бурлящая, она толкает, управляет человеком для продолжения рода.
Сторге – прочная и спокойная любовь, похожая на родительскую любовь, любовь матери, брата, бабушки. Она нежна, надёжна, вялотечна, строится на фундаменте общих интересов. Этот тип любви не может перенести даже недолгую разлуку.
Мания – синтез людуса и эроса, любовь-одержимость. В основе этого типа любви лежит ревность и страсть. Это иррациональная любовь. Древние греки говорили «безумие от богов»; считали ее наказанием. Страдают все – и влюблённый (внутренняя неуверенность, постоянное напряжение, душевная боль, смятение), и также возлюбленный. Если отношения и реальны, то факт согласия с таким ходом жизни больше похож на мазохизм. Мания – полнейшая зависимость, больше оцениваемая как «американские горки»; от возвышенного, чистого духа до стремительного завершения, попыток сбежать, исчезнуть из жизни партнера.
Агапэ – тот самый сентиментальный, романтический идеал; золотое сечение; бескорыстное смешение сторге и эроса. Агапэ характерно полное уважение желаниям возлюбленного, альтруизм, обожание, привязанность, нежность, страсть. Это явление редко; любовь агапэ – эта связь на духовном уровне; возлюбленные доверяют друг другу и не боятся неверности. Пара развивается, растёт вместе. Но также данное понятие подразумевает под собой любовь меж друзьями без сексуального влечения. В Библии об агапэ пишется: «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».
Прагма – рассудительная, «практическая» смесь сторге и людуса; любовь «по расчету». Партнеры (именно партнеры, а не влюбленные, ибо голова здесь главенствует над сердцем) бескорыстно помогают друг другу, делают добро, помогают в жизненных, например карьерных, испытаниях. Многие отношения, начавшиеся с людуса или эроса, переросли в прагму или сторге. Может быть комбинирована с людусом. Со временем этот вид любви становится лишь теплее, надежнее.
Филия – любовь друзей друг к другу; любовь, проверенная временем. Сам Аристотель считал, что человек испытывают филию по трём причинам: его друг полезен ему, приятен ему, рационален и добродетелен.
Аутофилия – любовь к самому себе; повышенный уровень аутофилии имеет родственные связи со смертным грехом – гордыней и высокомерием.
Детство
Глава 1.
Дилан Барннетт
В руках я держал шесть различных подвесок из прозрачного пенистого ирландского обсидиана. Я купил их, когда мне было 3 года от роду у эпатажного евнуха в Париже; так вышло, что уже 17 лет я вожу с собой вышеупомянутые украшения; они стали частью меня.
Это была конечная цель моего паломничества – графство Кент; не глухая, но всё же деревенька подле пролива Па-де-Кале. Я ехал в экипаже, вспоминая прошлые свои имения в сумеречных огнях: имение Ле Мар, затем Дувр-Хаус. Ещё был особняк с геральдикой (когда я был мальчишкой, я положил руку на здешний подоконник, чтобы отворить окно, и кисти руки, и пальцы окрасились в голубые и жёлтые цвета – я любил тот дом). Сегодняшний день – жаркое майское утро 1812 года. Я выглянул за кружевную шторку экипажа, выслушивая рассказ итальянца Зуманна о его женушке в Шотландии. Землянистое лицо и голубые глаза Зуманна демонстрировали поразительное чутьё хозяина и его страсть к деликатесам.
За стеклом, у берега озера среди камышей утка двигалась урезками. Раз, и она остановилась. Два, продолжила свой ход. Экипаж ехал таким же образом, также отрывисто, а два породистых жеребца били в упряжке копытами, следом поднимая пыль. Я погладил свой левый бакенбард. Лошадьми правил молодой человек лет этак двадцати, с сигарой в зубах. Вокруг была изумрудная гладь холодного дерна полян; выборочно, местами стояли то высокие ели, то низкие лиственные кустарники. Паслась пара светлых лошадей. Где-то в кирпичном доме тикали часы. Лаяла собака, да и выводки свиньи бились за место у брюха матушки, где можно вдоволь насытиться. И слышал я колыхание нависших качелей.
Мой род держал во владении доходные поместья; раньше, в путешествиях мы с отцом прожигали две тысячи фунтов в год, а ныне, после его гибели, первым моим решением было продать семейное гниющее поместье, в котором я бывал пару раз за жизнь; и сейчас медлительно, но верно я плёлся в графство, где когда-то от оспы погибли и моя мать, и младшая сестра (я трудно пережил их смерть).
Я вышел из тёмного экипажа в невзрачный серый английский городок, а Зуманн, мой друг, в камзоле зелёного цвета отправился в Хорнфилд-Хаус, мое имение. Я вышел в майскую долину, где когда-то высадился Цезарь; я поднялся на холм и увидел поместье с охотничьими угодьями. Поместье было окружено елями и сине-лиловыми цветочными аллеями.
Долго я стоял на месте у проселочной дороги, где сошел. Я стоял неподвижно, выдохнул наконец: «Я один». И пошёл я сквозь папоротники и кусты поляны, распугивая диких птиц и насекомых. Я вышел на низменность к месту посаженных елей. Было свежо; на мху я ускорил шаг; на горизонте рдела последняя полоса заката. Небо тускнело, переходя к водянистым тонам сквозных облаков. Этот мой дом, Хорнфилд-Хаус, был скорее аббатством с протяженными тоннелями и роскошными лестничными пролетами со своими ненавязчивыми историями. Поля вокруг были моими, и леса, и олени, и лисы, бобры и бабочки. И длинная каменистая дорога, по которой я вошёл в дом. Вышколенный дворецкий и пожилая экономка, пара слуг – я не желал большой толпы в доме. Моя экономка, весьма прекрасная собой дама в зелёном, направилась кормить павлинов в сопровождении горничной; входная дверь захлопнулась. Зуманн возбудил своим приездом прислугу, а я взлетел на этаж выше. Мальчик нёс остатки моего багажа. Я зашёл в комнату с кофейно-ромбовидными обоями и нарёк её своей. Солнце было уже на востоке, оно золотило шторы, балдахин тёмной и воздушной кровати. Подвески, которые я сжал в ладонях, я швырнул на кровать и хлопнул руками и начал их потирать в предвкушении работы.
– Да, теперь у меня нет выхода. Быть мне здешним хозяином и придётся отвлечься от своей коллекции видов любви по Платону.
Была ночь, и было решено не давать ужина. Кухарки, горничная, экономка, – одним словом прислуга, – давно спали; мне было необходимо написать письма старым Лондонским знакомым о завершении жизненной эпохи, об окончании баллов и иных радостей жизни. Всю весну после расставания с приятелями зимой одно-два письмеца в неделю да приходили. Живые и бодрые послания. Парафиновая свеча сгорела на половину, продолжая тускло светить. Я вертел в руках тонкое воронье перо, взял ножик, и стал подрезать перочинным ножом ногти. Было холодно. Темно. Я подошёл к распахнутому окну, тени слились со светом в единую, но неоднородную эмульсию. Было тихо, немо; от этого звенело в ушах, и лопухи перебирал ветер. Заброшенное кладбище и призраки могли полноправно дополнить эту тусклую атмосферу. Я установил свечу на подоконнике. Тогда меня заметил Зуманн.
– Барннетт, я иду к тебе! – крикнул итальянец.
– Мы можем обойтись и без дружеских сантиментов! – Входная дверь под моим шатким окном оглушительно захлопнулась, и я слышал торопливые шаги по долгому вестибюлю, по гостиной, по прихожей и лестнице, по коридорам с душами не упокоенных.
Зуманн – верный приятель. В равной степени верности он забывчив, уютен, недальновиден.
Я вскочил на ноги и поспешно надел кальсоны, лежавшие на полу посредине комнаты; и когда я взглянул на древний рабочий стол, моя рука разбуянилась. Я скомкал последние написанные мною письма, оставив их на столе. Мой лондонский друг ссутулился в дверном проёме, когда я вновь оперся бёдрами о подоконник. Душа гурмана в миг отхватила контуры графина на прикроватной тумбе с эмульсионным ликёром. Но сперва Зуманн заговорил о важном:
– Настал этот день! Ты ведь знаешь, Барннетт, ты завидный жених-симпатяга, но тебе придётся отвлечься от коллекционирования видов любви по Платону, – я не ответил, погруженный в свои думы, и на этаже наступила неловкая тишина. – Девушки и их мамочки не могут отказаться от такого состоятельного наследника, как Дилан Барннетт. В тебе есть этот противный лондонский шик, все достоинства и землю в придачу.
Я наконец заговорил задумчиво:
– Мой друг, я вовсе не такой, каким ты меня изображаешь. У меня нет ни вечных принципов, не твёрдых убеждений, ни философии. Есть только терпение, да крепкий склад характера! Откровенно говоря, своими выходками я могу довести любого. Я сам знаю, что во имя своего будущего мне следует забыть о поисках редких людей с широким взглядом на мир! Этот год я полностью посвящу работе и ведению дел в новоприобретенных имениях, и буду я последовательным и обязательным.
(И буду я слишком часто встречать людскую неточность. Читатель, в этом году я действительно собираюсь избавиться от унизительных проявлений невежества, корня всего зла, и привычки ходить по заседаниям светских клубов и борделям ради удовлетворения низших инстинктов).
– Откуда же у тебя в спальне бутыль этого изумительного напитка? – У Зуманна был гибкий, пропитанный винным эликсиром голос.
– Это был мой первый приказ в этом имении – принести сосуд спиртного и стаканы к нему.
– Отличное начало, Барннетт. Так, утопая в заботах, ты, как и остальные аристократы, сопьёшься и растратишь всё своё состояние в карты со здешними мошенниками. – Зуманн откупорил крышку графина и плеснул настойки по бокам стакана, и ликёр собрался на самом его дне.
– Твоя добродетель распространяется и на тебя самого, – стоя у подоконника, я вновь наблюдал, как выпирающий кадык Зуманна под кафтаном поспешно двигается в такт поспешным глоткам. – Оберегая друзей и сам не спейся. Ах! Да ты уже спился!
– Категорично не согласен! Я не пьянчуга! – Я скептически изогнул брови. – Жизнь слишком хороша, чтобы туманить литрами водки воспоминания о прожитых днях. К примеру, погостив в Хорнфилд-Хаус, я вскоре отправлюсь к мужу сестры в Шотландию.
Мы минуту помолчали.
– Вновь ты бродил по садам в ночь, Зуманн, – начал я. – Ради чего? Думаешь, будешь лучше спать, надышавшись ночными порами отравленного тумана?
– Тише, Дилан! Не горячись! А ни то вновь прострелишь мне ногу! Вдобавок ты просто на просто не поймёшь мою нужду в прогулках для сна, ведь ты вечно бодр. Ты словно совершенно не нуждаешься во сне. Феноменальное явление. – Зуманн прокрутил запястьям и поджал пальцы к ладони, как он делает всегда, и уставился в окно.
Я оттолкнулся от подоконника руками, и поспешным шагом под никогда не осуждающим, долгим взглядом Зуманна пробежал к столу сквозь комнату. Зуманн приступил расстраивать древние заплесневелые книги. Свечной огонь, слабо поддерживаемый дуновением ветра, тускло колыхался; свеча убаюкивала вечер и Зуманна.
– Не путай бодрость с моей горячностью, часто не дающей мне уснуть, – моя своенравная рука в соответствии со словами швырнула комки бумаги со стола об стену, подняла их, и выкинула в окно. – Снова и снова закапывая тело друга во сне ты не захочешь ложиться в кровать. Знай это, – вдобавок отрезал я, упоминая свои кошмары.
– Да, со мной ты всегда остёр на язык. В этом и состоит своеобразная прелесть твоей натуры: тебя не каждый вынесет!
– Наш юмор непристоен, Зуманн. Я всё же верующий. Надеюсь, Бог простит нас. Мы танцуем вокруг ереси каждый разговор.
– Бог простит. У него, должно быть, широкое сердце. Бог прощает все грехи, но в качестве испытания эти грехи и посылает. – Итальянские брови Зуманна приняли этакую рассудительную форму. – Бог часто бывает не справедлив. У тебя вот великолепный разворот плеч, стройное тело, насыщенность души природными талантами, отличное положение в обществе. А кто-то с самого рождения прозябает в нищете, обременённый жизнью, наполненной животной примитивностью и детской похотью.
– Каждому предназначена своя судьба. Чьи-то праотцы – шахтёры, а мои предки скакали верхами по кремнистым полям, омываемым чужими реками. С каждого путешествия они привозили трофеи. Ты и сам знаешь почти всё о моем отце, – начал я свою исповедь. – Он был общительным, эксцентричным человеком. Он был лично знаком с Томасом Гейнсборо! Но в то же время он страдал от постоянного пребывания среди людей. Отец… не сказать, что он был жесток со мной, но часто высмеивал. Но его слова не так сильно меня задевали, в отличие от его равнодушия. Однажды, когда я был ребёнком, я подрался с сыном нашей экономки. Мальчишка был добр ко мне, а я вспылил; я опять сказал, что ненавижу его, и мальчишка ударил первым. Конечно, когда ты ребёнок, любая царапина – это ужасная боль.
– И что же дальше?
– Я упал и покатился со склона холма. Я кричал, задыхался от вопля, плакал, звал отца, но затем вспомнил: «Да он не придёт! Никогда не приходил». И я был прав. Отец высунулся в окошко на крик, посмотрел, как двое пиратов с рёвом барахтаются в траве, и равнодушно задёрнул штору. Вскоре мы переехали, и я больше никогда не видел того мальчишку.
Зуманн с неуклюжим грохотом швырнул стакан обратно на прикроватную тумбу, а я упёрто выдворил друга за дверь, вспоминая об отце. Мы разошлись по покоям, и я вспомнил времена, когда я узнал о болезни отца – это была настоящая катастрофа. Такой здоровый, сильный! Трудно было поверить, что с ним могло случиться подобное несчастье. Отрезанный от всего мира болезнью, преданный своими братьями и сёстрами, в последние годы не в ладах со своим взрослым сыном, со мною, он медленно умирал. За несколько дней до его естественного конца я пришёл поддержать его перед самой страшной поездкой в жизни, из которой он не вернётся. После похорон я получил наследство, и вместе с состоянием и свободой обязанности землевладельца.
Свеча, обгоревшая до половины около часа назад, резко потухла. Это разбудило меня и отогнало мысли. Была половина двенадцатого, и звон святых колоколов проникал в моё сердце. Возможно, я не желал признаваться самому себе, но меня часто посещали мысли, что было бы лучше не уезжать от отца, ибо несмотря на всю пустоту, в которой я вырос, я тосковал по редким вечерам, когда мы сидели вместе в гостиной; он ворчал на нерадивые имения, запивая негодование выдержанным бурбоном, а я лежал на пушистом ковре, который раз перечитывая любимые «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. С самого начала жизненного пути я был повреждён своим воспитанием.
Засыпая, я вспомнил, как Египетский продавец в детстве всучил мне в руки в Каире чудное ожерелье; я желал отдать экзотическое украшение сестре, но уже приняв подарок я вспомнил, что она мертва. Тогда я отдал бедняку обратно его подарок и все мои золотые монеты – он столько и в жизни не заработал бы. Обычно я плохо сплю, но эта ночь стала исключением. Постепенно я уходил всё глубже и глубже в сон, и вскоре я видел пустыни Египта.
Глава 2.
Дилан Барннетт
Настало следующее утро. Минутами, я ценил цивилизацию, даже в таких ее проявлениях, как свою собственность, как английский обычный завтрак. И тогда, глядя в окно солнечной, роскошно обставленной столовой и очищая вкус куриного яйца, меня взяла небывалая гордость за Англию; за дворецких, за английских сеттеров, за недосягаемых девиц. Приглашённая на завтрак экономка разделила со мной стол, а служанка разливала чай по голубому фарфору. "И ничем такие завтраки на Родине не уступают тем феноменальным, но запоминающимся и усталым завтракам заграницей!", – рассуждал я про себя.
Солнечные лучи, столь ярко освещающие столовую с гостиной, ложатся на паркет, слепя в моё лицо и освещая волосы и грудь. Голубые глаза Зуманна оглядели сервированные блюда и позолоченные убранства (вилки, ножи, тарелки), и внутренний гурман итальянца, ныне ведающий его мыслями, руками и зубами, разломил ломоть свежего хлеба с безукоризненного вида коркой, когда ножом я раскрыл письмо от владельца соседнего имения, и мои глаза быстро пробежали по строкам. Я положил прочитанное письмо на тумбу у двери, спрашивая Зуманна, когда он хотел бы посетить званый ужин. «Сегодня я не в настроении, а тебе нужно работать», – ответил он на предложение отправляться на зов сегодня же.
Холмы тронуло лиловостью, и была уже середина дня, когда я закончил с делами. Из города на холме доносились пронзительные голоса суеты, всё более настойчивые зовы. Слуги мельтешащими, поспешными огоньками бегали по коридорам на господние колокольчики в каждом из здешних имений. Мы с Зуманном, прихватив цилиндры и трости, отправились в здешний сад, смежный с рощей мистера Уилсона. Мы шли несколько миль и старились никого не встретить, ибо всеобщий интерес к нашему положению заставил нас убыстрить бег и склонить головы. Мы обошли стороной целый город, где гремели экипажи; город, гудящий людьми, занятыми разными ремёслами, – и, до этого никем не замеченные, мы вышли на заросшую тропку, бежавшую вверх по холму. На опушке мы заметили гуляющих дам, и пока мы не были ими обнаружены, никому не было дела до наших жизней.
–
СТОРГЕ
Сквозь клубы дыма человеческих душ я наблюдал, как одна из девушек двадцати шести лет, пожалуй, непринуждённо собирала ветви сирени, чтобы та лучше росла. Очарованный её свежестью и метафизической, притягательной энергией, я шёл вдоль по вытоптанной трапе. Она не была похожа на хозяек здешних имений. Пожалуй, она была не замужем. Я имел возможность разглядеть её чёрные убранные пряди волос под длинными бортиками её шляпы. Но в миг мы с Зуманном скрылись за высокими живыми изгородями кустарников, усыпанных красными ягодами. Для Зуманна она была смазливой, набитой дурой-простушкой; мой друг продолжал рассуждать, что род Барннетт пал, подобно Вавилону. Последний своей породы! Вот он я – Дилан Барннетт, со своими глазами Барннеттов.
Я доверился потоку времени, и успокоил дух в дрожи восторга перед толпой горожан; я потонул в толще имён. Я не боролся с ходом жизни, просто позволил потоку времени обучать меня. Но к моему стыду из моей памяти давно уж стрелой вылетела дивная девушка, повстречавшаяся во второй день пребывания в долине.
Настал июнь того же года. Прикорну, порой, часок-другой, а проснусь – и опять та же скука: главы семейства влекут в мой дом своих дочерей на знакомство (а точнее, на знакомство с моим состоянием). А порой бывает и так: я проснусь раньше всей цивилизации, и в 5 утра напьюсь чая среди ромбовидных обоев здешних комнат, да и брожу из комнаты в комнату. А в двенадцать часов наливаю себе коньяка, ведь какая мука выслушивать всех моих гостей, ездить с ними по здешним провинциальным балам. Я был отравлен иллюзией жизни в гармонии. И это надменное «проезжайте» у ворот мистера Уилсона прозвучало стиснуто, подобно «ступайте к черту». Единственная служанка проводила нас к накрытому столу. И мы остались с Зуманном вдвоём; приличия никогда меня не заботили, и я предложил сесть уже за стол без хозяина, но воспитанность Зуманна унимала мою нетерпимость (не позволял он мне сделать неверного шага – лишь только от кресел к стенам, к комодам, где помещались серебристо-серые пледы и кухонное серебро; чудное серебро!). Обыкновенное дело, когда в домах аристократов сияли важные, высокие огни в пустотах пиршественных залов, а здесь всё было тихо, было мрачно. Мы не увидели ни экономки, ни камердинера, ни дворецкого, и только стукнуло десять минут нашего ожидания, как мы услышали сварливые крики мистера Уилсон на служанку.
Они недолго пререкались; его китайские узкие глаза горячим взглядом следили за нами.
– Ах, проклятье на мою голову! Провалились б такие гости к… А кто привёл вас в дом? Кто привёл? Я вышвырну за порог нарушителя сейчас же!
Но никто не ответил; в этом не было необходимости. Старик, бранясь, присел за дальний угол крытого стола, так и забыв получить ответ.
Моя первая мысль о нем была быстра и абстрактна. Старик с ирландским акцентом – в прошлом иссякший дикий пожар; джентльмен, сравниваемый с танцующими тенями на стенах глубокой ночью; на его лохматых жёстких седых волосах, что рассыпались неровными прядями, можно прочесть тонкий почерк из следов вещей, о которых не принято говорить вслух. Одним словом – мистер Уилсон, вдовец, мастерски превращающий жизнь в одну единую драму.
А я с наивной радостью и деловитой спешкой посматривал на клубничные розы в вазе. Я и не догадывался, что «драматический злодей» моей истории скрывался тогда за глазами, обременёнными морщинами. Мне шёл лишь 21 год – и тот факт был важен, что я был глуп и недалёк, и что идеи и верования тех времён сейчас уж мне кажутся вымороченными. Мистер Уилсон оказался той личностью, которая обратиться в кроваво-красную искру в камине моей молодой жизни.
И сейчас, сквозь года я помню, как я взял на себя обязанность заговорить первым; я поинтересовался, все ли обитатели имения спустились в нашу мужскую компанию, и мистер Уилсон проворчал что-то о своём осиротевшем племяннике.
– Зуманн! Ну, вы уже сунули голову в святую петлю замужества? – спросил старик дурным тоном.
Хозяин дома профессионально орудовал столовыми приборами: ножом и вилкой. Колко отрезав кусок вареного клубня картофеля, он искусно отправлял его в рот, а затем по-ирландски, особенно, звонко выговаривал «р» при разговоре. Вдовец древней английской выдержки! Воплощение самых мерзких черт английской отшельнической буржуазии!
Зуманн ответил на заданный вопрос:
– Давно уж сунул, пару лет назад. Ещё когда мне было 20, как и мистеру Барннетту. Однако я женат только на бумаге. В реальности я не видел её и дочь 3 года. – В легкой драме, первоклассно думал Зуманн, а я сопоставлял частности, желая восстановить целиком образ.
Я взглянул на приятеля, наслаждающегося здешней едой.
– 20 лет… звучит божественно. И чем же вы занимаетесь в свои 20, мистер Барннетт? Вы похожи на миссионера.
– Нет, я не служу Богу, хотя в нём и можно найти определённое натянутое за уши успокоение души. В данный момент я учусь вести хозяйство, а затем собираюсь провести остаток жизни в разъездах по миру.
– Расскажите о девицах. Вы приударили за одной из городских барышень? – Совратительная улыбка подкосила его грязного цвета китайские глаза; мистер Уилсон снова зажевал.
– Когда я был мал, отец часто рассказывал мне о Платоне, ученике Сократа. В 4 года я поставил себе цель – не бежать от людей вопреки боли, которую тебе причиняют, ибо только тогда мы живем. Я поклялся испытать на собственной шкуре пытку привязанностью души, отведать шесть видов любви Платона: любовь к сестре; к подруге; к наслаждениям; к пассии; к жене; к предмету обожания и всему вместе одновременно во время Агапэ.
Когда я замолчал, я словно увидел, как шестерёнки мозгов в их голове вертелись и убыстрялись. В этот же миг, словно на стыке планет, я услышал мельтешащие шаги. И девушка позади, быть может, не более красивая, чем другие, заставила меня вскочить на ноги неожиданностью своего появления.
– Я велел тебе не спускаться, Эвелина. Что ты забыла на моем ужине? – воскликнул мистер Уилсон, цедя из себя слова. Он метнул на неё какой-то странный взгляд – взгляд ненависти.
Небольшого росточка, хрупкая и ласковая, но беспокойная, с решительной осанкой, девушка съёжилась. Она, лет двадцати шести, украсила пепельно чёрные волосы красной лентой; и я вспомнил её, гуляющей с другими девушками по садам долины в мой второй день пребывания здесь. Ее тонкую талию отлично подчёркивал лиф черного платья, лента под грудью и корсет. Она, – чудо, – вся настоящая и одарённая талантами от природы.
– Как же я могла пропустить первое посещение гостей за долгие года? – уютная девушка ответила героически смело и прытко, пусть её тело словно и парализовало перед отцом. – Ты представишь меня гостям, папенька?
Подвижный алый, как пион, рот и её акварельно-тусклые глаза выделяли ее миловидность. Жизненные силы вышли из моих ушей; меня оглушила тишина. Никто более не говорил. Воздух не циркулировал. Свечной огонь как замер в едином положении, так более и не колыхался. Мистер Уилсон буркнул под нос имя девушки «Эвелина», а я склонился перед ней в глубоком поклоне. Допотопный инстинкт заставил меня с учащённым биением сердца ждать от неприлично юной жены мистера Уилсона невольной ласки, но благопристойности заставили меня только поцеловать её руку.
– Миссис Эвелин, очень рад знакомству с вами, – сказал.
– Она мне не жена! – возмутился Уилсон.
– Я мисс Уилсон, сэр. – Девушка смущённо отвела глаза в пол. – Я его дочь.
– Вы говорили, что у вас есть лишь племянник, – встрял итальянец Зуманн, до этого аналогично вскочивший на свои ноги.
– Это и не важно, – присёк я повисшую в воздухе неловкость. – Прошу прощения перед Вами за моё невежество, мисс Уилсон.
– Что мне ещё остаётся, кроме как простить Вас, мистер…
– Мистер Барннетт. Дилан Барннетт.
(Это были последние месяцы, когда я мог звать себя тем именем, что дал мне отец и дед)
Эвелина сосредоточенно отошла от меня к отцу; но между нами успела проскочить искорка – я улыбнулся при виде её глаз, без капли кокетства разглядывающие меня. В девушке не было ни капли высокомерия; она была хозяйкой всего малолюдного серебра перед мной, которое достают изредка. (Она имела общие черты склада лица в профиль, что и моя покойная сестра)
– Эвелина, ты просто неблагодарный кусок ребра, – вспылил ее отец. – Сидела бы в своих покоях.
– Папà! – Его терпеливая дочь положила руки на узкие плечи отца. Она говорила без ирландского акцента, в отличии от старика.
– Неблагодарный кусок рёбра? Ужасно, мистер Уилсон! Женщины всё знают и всё могут изложить; всё понимают, они ведают миропорядком. – На этом месте я замолк, покуда я решил воздержаться от дальнейших споров.
– Ваше мнение! Но переубеждать меня вы не посмеете. – Тогда меня возмутил тон старика: резкий, жеманный, надменный. – От моего усыновлённого маленького племянника больше пользы, чем от дочери. Мужа ей иметь непристойно. Вот и тратит состояние папеньки! Эвелина, ступай к себе, и не смей выходить.
– Отец, если наши гости не будут против моей наглости, то я бы хотела запоздало присоединиться к ужину, – сказала Эвелина юношеским голосом и приобняла отца со спины.
Девушка так самодостаточно настояла на своём (девицы в те времена не смели пререкаться с уважаемыми пожившими родителями). Мы услышали, как в дом вошла гувернантка с мальчиком лет восьми, лепет которого прервал тишину и в миг разнёсся по помещению этажа. Мальчишка с родимым винным пятнышком на шее побежал к своей нежной кузине, привлекая всеобщее внимание. Понаблюдав за лепетом сестры и брата я осознал, что оба изнеженные, не приспособленные к жизни и труду, гоняются за мотыльками по полям, хохочут и собирают цветы (от Эвелины исходила какая-то своя, особенная атмосфера). Эвелина поставила светловолосого брата на ножки, отряхнула и поцеловала. После племянник вновь ушел играть в сад, но один.
На закате вдруг похолодало, и появились тучи. Весь ужин Эвелина была добродушна мила со мной. На мой вопрос о увлечениях она ответила лишь одним словом «антиквариат». На первом этаже дома у мисс Уилсон была отдельная комната для её совершенно жутких игрушек. «Надеюсь, я когда-нибудь смогу их увидеть», – сказал я в тот вечер. В подростковом возрасте Эвелина увлекалась каллиграфией и имела страсть к ведению дневников, которые, впрочем, в основном были заполнены не распорядком дня или впечатлениями от произошедшего, а небольшими рассказами, завораживающими своей атмосферой (вскоре я удостоился прочесть их). Весь ее характер прошит мягким обаянием.
Неожиданно мы вчетвером услышали стук входной двери, когда мальчишка-племянник, неся в руках дворовую собаку, положил её тушку напротив огня камина, разожжённого в холод ночи. Мистер Уилсон дожевал последний кусок; брат Эвелины стоял на коленях перед лохматым трупом своего друга. Сейчас казалось, что мальчик не плакал, нет, но когда он обернулся и невинно залепетал, на его бледных щеках виднелись мокрые, солёные следы.
– Собачка просто замёрзла. – Теперь уж было очевидно, что он плакал. Мальчик и сам не верил в то, что говорил. – Но сейчас она согреется и проснется. – Вошедшая служанка тонко, высоко закричала. Мистер Уилсон и не оторвался от своего чая.
Я наконец ощутил запах смерти, и почувствовал на острее плеча мурашки, словно сотни мелких пауков. Мистер Уилсон и гурман итальянец продолжили пить чай, не обращая внимания на всеобщее молчание внутри хаоса; служанка почти упала в рыхлый обморок, и Зуманн кинулся успокаивать её; гувернантка подбежала и подхватила мальчишку на руки. Кошка на подоконнике и её 27 позвонков изогнулись, в испуге сигая на пол вместе с ушами и лапами. Эвелина среагировала необычайно быстро: она взяла на себя смелость восстановить порядок. Я помогал мисс Уилсон, пока этот ее деспотичный отец приговаривал: «Ох, грешница, ты грешница».








