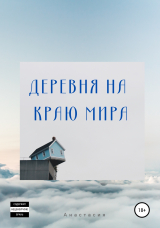
Текст книги "Деревня на Краю Мира"
Автор книги: Анастасия
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
И она думала. Она умела думать. Много лет она только и делала, что думала внутри себя, внутри своей души… И теперь её необыкновенное терпение, все её таланты заработали. Теперь она думала для себя, для других и для помина. Странное слово крутилось в её голове, как шелест юбок незнакомой тени, посетившей избу ещё до рассвета.
– Помин, помин, помин, – сама не заметила, как быстро зашептала Валя.
Иванна порой бросала быстрые, испуганные взгляды на внучку, но молчала. Ей уже хотелось и поесть, но она не смела притронуться к блинам. И вдруг у старухи в голове щёлкнуло:
– Мать мою один раз-то поминали, да…, поминали бабы, – вспомнила она, – Я мала была, думала про комсомол, про всё про это. Но бабы меня взяли в баньку. Там поминали.
– Как? – для Вали поминовение усопших казалось едва ли не торжеством. Ей было удивительно и ново всё.
– Ну, значит, была старая… – Иванна поправилась, – Старшая баба. Баба Варя, но она, правда, была и старая тогда уже, сильно старая, – и Иванна засмеялась, – Не думала тогда, что стану ещё старее, чем она была.
Итак, в тот день собрались поминать мать Иванны. Её зарубил, забил отец.
– Сашенька Егорова, Сашенька Егорова, – всюду слышались голоса и голоски.
Саше казалось, что эти шепотки похожи на осенние листья в лесу и особенно в школе, во дворе которой их с царапаньем и тихим шорохом периодически подметали. Но листья, может слегка пугали её, как будто листья эти были чьими-то холодными руками. А в шёпоте, в шепотке-то что-то слышалось, ускользало, что-то жалостливое, что-то похожее на материн плач. И от шепотков было страшнее, чем от шорохов.
Она поднимала свои по-детски огромные глаза и смотрела на взрослых. От их взглядов Шуре казалось, что она выцветает, как картинка, которая висела в избе на гвоздике. Ей отчаянно хотелось убежать. Смыть эти взгляды, может, даже пописать, как она делала в кустах. Чтобы смыло, чтобы не было, чтобы это всё вышло.
Но вместо того, она шла, ощущая боль и непонятный стыд от каждого шага. Она возвращалась от тётки. Позавчера, когда отец стал колотить мать, та крикнула Саше: “Убегай, Сашенька, Сашуля, убегай, моя девочка!” И Саша убежала, когда такое происходило, она всегда убегала. Мать её научила. Один раз, правда, Саша осталась. И так было хуже. Отец бегал и за ней, и за матерью с топором, едва не зарубил и, когда мать бросилась укрывать ребёнка, так сильно ранил её, что сам протрезвел от крови.
Обычно Саша оставалась у тётки Марии – доброй, дородной, жалостливой бабы с чуть узенькими глазами только на ночь. Но в этот раз тётка её сама не пустила.
– Пусти, пусти меня, тётка Маша, – плакала Сашенька, но её не пускали.
Маша заливалась слезами, прижимала Сашу к своей большой, настоящей груди, пахнувшей и сеном, и молоком, и печкой, и женщиной, и матерью. Прижимала, плакала и не отпускала. Саша пугалась таких слёз, не понимая, в чём горе, она заливалась и голосила не меньше своей тётки. Посидев, они обе глядели друг на друга красными, заплаканными глазами. Маша кормила ребёнка кашей и, притуливши щёку на красный, обветренный от работы кулак, снова заливалась тихими, огромными слезами.
Наконец, на третий день, Сашу выпустили, но с хутора до деревни путь оказался тяжёл. Все эти взгляды, все эти слова… Саше хотелось к маме, пусть отец и говорил, что мать – дура, коммунизма не знает, но Сашенька чувствовала от мамы нечто другое, не коммунизм – любовь. И ещё сейчас маленькая Саша чувствовала себя зверьком, а взрослых вокруг – хищниками. Она знала, что, если вдруг с криком кинется бежать домой, все эти страшные звери бросятся за ней. Иногда ей даже казалось, что лица взрослых приторно-натянутых в горестно-понимающих улыбках, вот-вот оплывут, как воск, обнажая злорадные ухмылки.
– Мама-мама, – тихо шептала Саша Егорова, так, чтобы никто, даже воздух не услышал её.
Изба была какой-то особо грязно-серой в этот день. На бревне, как всегда лежавшим у самого входа в избу, сидел пьяный отец. Саша машинально сделала шаг назад, прижала ушки к голове и втянула голову в плечи. Но отец был столь пьян, что даже не видел её. На одной его ноге был не до конца натянутый сапог, на другой – ничего, босая нога с чёрными-чёрными пальцами. Мать мылась часто, а отец – нет. Он говорил, что настоящий коммунист должен быть чёрен от работы, но сам был чёрен от пьянства. Рядом была бутыль, слишком большая, чтобы удержать её и в трезвом состоянии, но пьяные силы придавали отцу сноровки.
Саша, стараясь даже не дышать, тихо-тихо пробралась мимо отца. Ей оставался шаг до прохудившихся косых ступенек. Как она почувствовала сильный удар и лицом уткнулась в гнилое дерево лестницы, ведущей к двери.
– Так тебе и надо, чёртово племя, – заржал отец, это он толкнул ребёнка.
– Где мама? – Саше вдруг стало так всё равно, что она перестала бояться, ей хотелось к маме. Обнять её, пусть избитую, пусть с опухшими руками и лицом, но обнять, спрятаться.
– А-а-а не-э-э-т мат-ри тва-а-ией большииии аха, – снова невменяемо засмеялся отец.
Саша не поверила. Встала, отёрла окровавленные лоб и нос, пошла, прихрамывая в избу. Она громко кричала тогда, каждый раз всё отчаянней и громче:
– Мама! Мама!! Мама!!! – обошла всё. Влезла на чердак, в подпол забралась. Там загадочные тени поблёскивали и поскрипывали, стояли бочки, висели какие-то вещи, но среди них не было мамы. И её не было нигде. Вообще.
В избе пахло чем-то кислым, не капустой. Хуже. И запах этот был самым отчаянным отражением творившегося в душе маленькой Саши Егоровой.
– Убл-бл-би-жилась? – хрипло засмеялся отец.
Саша, наконец, выпустила страх, она громко закричала и бросилась вон, проскользнув мимо страшной, словно вилы, руки отца.
– Сашенька! – мимо шла женщина – Галина.
Эта Галина потеряла всё. И раскулачили. И сынов сослали. И невестка повесилась. А муж ещё давно умер.
Галина была женщина добрая. Она истово молилась в церкви. И была такой особенной верующей. Она не была ни грамотна особо, ни в молитвах толку не понимала. Но она молилась, горячо и с такой всепоглощающей верой, что за Христом прошла бы и по воде.
Галина была блаженной. Она настолько сошла с ума от потерь, что теперь видев какое-либо зло улыбалась бессмысленной улыбкой, кивала и причитала:
– С Христом, с Господом страдаем, – тихо говорила она.
И пусть уже всё разрушили, и Галинину семью, и Галинину церковь, её ни у кого рука не поднималась трогать.
Галина была вся худая. Она усохла, когда её беременная невестка наложила на себя руки – повесилась в сарае. И с тех пор, сколько бы лет ни прошло, Галина, была словно мёртвая ветвь: своими жилистыми и костлявыми руками она бросала корм курам. Ей нравились белые куры. А когда наступал момент особого блаженства, Галина пела что-то не то о белых лебедях, не то о белых голубях. Её тонкий, чуть фальшивый напев уносился в небо, а люди проносились мимо неё. Видеть Галину, – значило видеть, что с ними всеми стало.
И, вот, эта Галина, едва державшаяся на ногах, Галина, которая разумом уже давно вознеслась на небеса к своей семье, эта утомлённая жизненными перипетиями женщина, вдруг очнулась, как птица распахнула она свои руки и приняла маленькую Сашу Егорову в свои объятья.
– Ма-а-ам-ма, – простонала Саша, захлёбываясь от раздиравшей её боли.
По улице в этот момент медленно, но неотвратимо, словно ледокол шагала другая старая женщина. Она была полной противоположностью Галине. Это была Варвара Петровна.
Варвара Петровна всю жизнь жила основательно. Она основательно и в большом весе для младенца родилась. Основательно тихо лежала в колыбели и не мешала своей матери заниматься делами, основательно сосала грудь, основательно сделала первый шаг, да и все последующие напоминали медленное и величавое снисхождение, величаво она вышла замуж и родила основательных сыновей – двух. Но они погибли в войну. И тогда баба Варя стала основательной вдовой по своим сынам и по мужу. И горе своё она несла с таким тяжёлым горестным достоинством, что люди расступались перед ней, как перед царицей. И хотя её семью раскулачили, а лошадей отобрали, никто не стал добивать эту могучую старуху, – столько силы было в ней. Боялись.
Варвару нельзя было назвать чрезмерно верующей. Всё в жизни она делала “как положено“, “как завещали предки”. “Не нами положено”, – бывало говорила она, когда гоняла сынов, двух высоченных лбов с пшеничного цвета волосами, красивыми, открытыми лицами. Сыновья ржали и скакали, как кони, но мать слушали и терпеливо сносили её “учение”… Когда было всё то?
И сейчас старшая и главная из всех баб на деревне решила сделать положенный помин. По Сашиной, по матери.
– Пошли, Александра, – Сашенька при звуках этого сильного голоса, забилась даже глубже в усохшие груди старухи Галины.
– Пошли, пошли-ка, Сашенька, – протянула, проплакала Галина своим небесным голосом, – Маму, маму надо помянуть.
– М-м-ааа-м-м-а, – заплакала Саша. Она не понимала этого “помянуть”, только знала, это плохо.
– Пойдём, – Галина, ласково направляя своими руками-крыльями, вела девочку в старую покосившуюся баню.
Чья это баня, впрочем, как и имя своей матери, Иванна не могла вспомнить до конца жизни. Она знала, где была материна могила, даже хранила какие-то бумажки, что писала мать. Но каждый раз, глядя на её имя, стоило ей отвернуться, Александра Егорова забывала…
В бане, которую, скорее всего, топили по-старому, по-чёрному собрались почти все бабы. Все они были биты судьбой, и почти все мужиками. И все потеряли на войне хороших, красивых мужиков. А тех, что не потеряли на войне, тех унесла революция ещё раньше.
Они принесли какие-то колченогие табуретки, своими бабьими молчаливыми усилиями сняли дверь у бани и сделали из неё столешницу.
Было холодно. Осень. Все сидели в платках. Все сидели в каком-то тёплом тряпье, сером и унылом, как осенний день, как жизнь вдов, погасшая по смерти любимых, как жизнь матерей, потерявших сыновей…
– Надо выпить, – сказала Варвара.
Остальные бабы молча, в каком-то дико слаженном, массовом кивке, согласились с ней.
Одна из баб расторопно потянулась к огромной бутылке с мутной жидкостью. Самогон. Он туманно лился в битые и уродливые стаканы, какая-то последняя зелень, солёные огурцы и корочки полусухого хлеба лежали на белой застиранной простыне, служившей скатертью. Над ручкой банной двери простыня некрасиво натянулась. Саша не знала, куда ей смотреть и уставилась на эти складки полупрозрачной от старости тряпки.
– Кто-то обмыл? – спросила одна женщина, как бы между делом.
Саша вздрогнула. Она отчего-то знала, что они обмывали… Или кого. Не то её воображение, не то особое знание на миг застило её глаза. И она увидела мёртвую, неподвижную мать. Какие-то тени двигались по кругу и текла вода, смачивая чуть ссохшееся тело, наполняя его мёртвой жизнью.
Саша видела мёртвое, желтоватое тело матери и понимала, что мама её больше никогда не откроет глаза. Она летела над матерью, а та лежала не то в сосуде, не то в гробу, и чёрные тени, напоминавшие женщин, танцевали вокруг, направляли воду движениями рук. И она в то же время сидела за столом, с бабами, которые молча и угрюмо пили самогон.
Из странного состояния её вытянул шёпот:
– Кутья, кутья.
Саша чуть вытянула голову. Какая-то добросердечная женщина одновременно сунула ей огромный, сочащийся солёным соком огурец и блестевшее, лопавшееся изнутри от сладкого сока яблоко. Девочка боязливо и лишь слегка протянув руки, дотянулась до еды, обхватила маленькими детскими пальчиками. Но её интересовало не это. Она смотрела влево, откуда показалась баба с тазом той самой кутьи. Детское сердце колотилось, ощущая какую-то смертельную странность обряда. Она знала, что кутью едят, она знала, что, когда она съест, её мать тёмной тенью пойдёт по другому миру, по чёрной дороге, среди чёрного леса и у неё тоже будет эта кутья. И это будет вся еда, чтобы пройти этот долгий путь, в котором и железные сапоги износятся, и посохи, а и хлеба железные съедятся.
Саше стало страшно и грустно. Маленькая слеза, которую она спрятала, тряхнув коротко стриженной головой, была тоской по матери, страхом, что её родной любимой маме… О это тёплое слово “маме”! Её маме придётся уйти по чёрной страшной дороге, и у неё будет только горсточка кутьи на этом одиноком, страшном, холодном пути!
– Ты – родная кровь, – сказала Варвара своим грозным голосом, – Ты ешь больше всех.
– Помянем, помянем, – нестройный хор голосов, кутью раздавали всем.
Кутья была сделана из каких-то осколков пшена, овса, местами попадались куски и грибов, и яблок, кажется, мак, а может это были какие-то дикие травы, которых росло много вокруг. Кто-то расщедрился, – во всей этой дикой смеси было много мёда. Вкус был неописуемый. До вкусного неправильный.
– Ешь больше всех, – ещё раз поучительно наказала Варвара.
Сашенька кивнула. Она и без этих всех баб знала про кутью, неясно откуда, но точно знала. Она знала, что и делали её неправильно. И что на правильную кутью у них не было нужной еды. Она знала откуда-то, что кутья эта худая, но что её мать счастлива и такой. Сашенька Егорова ела кутью. Бабы молча смотрели.
– Молодец, – выдала Варвара. Она только это и могла сказать.
– Блины! Блины! – бабьи голоса даже в горе звонки. Напоминали неведомые Сашке церковные колокола. Звенели. Разрезали пространство. Саша от напряжения уже теряла сознание. И мир весь сократился до каких-то обрубков жизни. Небо. Пасмурно. Варвара. Блин. Ещё блин. Мама. Летит. Саша летит. Маму видит. А у неё в руке блин. А в блине кутья. Съешь, Саша. Съешь ещё блинок. Саша ест. Кто-то из баб дал самогону. Выпила. Горько. Плохо. Рвёт. Не. Не дам. Не вырвет. Блины для мамы. Кутья для мамы.
Потом стало тише. Самогон подействовал. Что-то отпустило. Сашенька почувствовала, что горит, что всё вертится. Кажется, откинулась она в руки сердобольной Галины. Она помнила, что Варвара сказала на стол положить блин, водку поставить, на стакан корочку и блюдце с кутьёй. Когда это было?
Шура Иванна очнулась от воспоминаний. Лоб её горел. Всё вокруг вертелось, и в ноздрях стоял запах старой бани.
– Бабушка-бабушка? – спросила осторожно Валя, – Ты чего, бабушка?
– Вспоминала, – тяжело вздохнула старуха, – Я знаю, как теперь поминать. Вспомнила уж.
Иванна задумалась, поминать ей свою мать (а для себя она решила помянуть именно её) не хотелось самогоном. Хотелось чего-то правильного, что ли. Но вина у Шуры не было никогда. Как-то раз только попробовали какую-то кислую бурду в колхозе. Не было ни обычной водки. Ни клюковки, ни сливовки.
– Вина у нас нет, – со вздохом сказала старуха.
– А что за то вино? Нужно? – серые глаза Валечки уставились на бабушку.
– Хорошо бы, или хоть что, – она стала осматривать, что есть, чего нет.
В старом буфете уже в самой избе нашлась старая банка мёда. Нет, мёд не закис, он просто засахарился так, что колом встал в банке. Его не брал даже нож.
– Мёд будет, пусть мёд, раньше мёд пили, – бормотала старуха.
Девчушка с любопытством смотрела на мёд, пыталась представить, как его пить. Ей думалось, что пьют такой жидкий, но всё равно густой акациевый мёд, что он лениво катит свои медовые волны по чашке и заливается в рот какого-то любителя такой сказочной выпивки. Она аж плечами передёрнула: фу, как сладко!
– Раньше из мёда делали напиток, как пиво, – пояснила старуха, – И пили.
Это уже меняло дело. Наверно, это не так сладко. Это наверно пиво, как мёд. Или мёд, как пиво. Хотя Валя не знала ни того, ни другого…
– Валюшка, помоги мне, – старуха достала кипятильник, его засунули в чайник. Сели кипятить воду.
– Зачем это бабушка? Делать пиво из мёда? – спрашивала Валя.
– Нет, – засмеялась тихонько Иванна, – Это чтобы мёд сначала вытащить из банки.
Мёд отставал от банки медленно, но всё же верно. Получившуюся медовую водицу подразбавили самогоном, добавили яблок. Вышла, надо сказать, редкостная бурда, но лучше всё равно ничего не было.
– Ба, это точно можно пить? – Валюша морщила свой смешной вздёрнутый носик.
– Не знаю, но это самогон, не тот, что я ироду даю, – старуха, как и внучка склонилась над загадочной жидкостью, – Для помина – самое то, – неуверенно сообщила Иванна.
Они с внучкой одновременно друг на друга скосили глаза и весело рассмеялись.
– Кутью бы ещё, – вспомнила Александра, – Кутьи бы надо. Без неё не тот помин будет, – сказала, будто хорошо разбирается в помине. Она точно, конечно, ничего не знала, да и годы коммунистической веры взяли своё. Но ей не хотелось ударить в грязь лицом перед внучкой.
В доме нашлись рис и гречка, Иванна сварила их и добавила опять яблок и последнего, должно быть, в этом году редиса, в дело пошли и остатки оттаявшего от банки мёда.
Обе сели за стол. Выпили. Вале разрешено было только пригубить. Иванна и сама была не в восторге от бурды собственного изготовления и сама пригубила только раз. На столе третьим стоял большой стакан, наполненный до краёв самогонной бурдой, поверх лежала корочка хлеба. Кутья и блины были несказанно лучше. На них обе накинулись не то, что с жадностью, скорее, с жадным голодным любопытством.
– Кутья покойникам идёт, – вспоминала Иванна, – Мы их кровь, – ей даже в голову не могло прийти, что они кого-то другого поминают: мать, образ матери стоял перед её глазами, и она пила и ела за неё и для неё, – Чем больше мы едим, тем больше им там, на том свете. Рядом со стаканом на столе лежали пять блинов и большая тарелка кутьи. Иванна плохо разбиралась в обрядах, но её честная душа требовала дать покойникам достойную долю.
Для Вали всё было иначе. Она думала об утренней потусторонней гостье и не думала о ней. Она, словно впервые, пробовала блины. У них был необычайный сливочный вкус. Они словно таяли тёплым, чуть тяжёлым облаком на языке. Они были настолько хороши, что хотелось проглотить их, почти не разжёвывая. Но осторожной, неизбалованной жизнью Вале, нравилось долго держать блины на языке, вдыхать их пьянящий сливочный аромат, слегка раздавливать языком нежное блинное тесто и просто ощущать, просто наслаждаться тем, что есть утро, нагретые солнцем доски, запах блинов и бабушка с особым её запахом огорода, тёплых рук и строгой нежности, идущей от самого сердца.
Ели они преимущественно молча. Каждая думала о своём. Александре в голову даже не приходило вспомнить, как звали её мать. Разум Саши Егоровой осторожно ускользал, обходил этот подводный камень памяти. Она вспоминала короткие моменты, которые подёрнулись дымкой прошедших лет. Голос, блестящие волосы, но уже с проседью, руки, какие-то фразы, какие-то шаги и бег навстречу друг-другу, возню на заднем дворе. Когда то всё было? Недавно вроде, но почему так давно? А если давно, почему сердце так сильно болит? Почему время не лечит?
После поминок вечером Валя никак не могла уснуть. Было чувство, что что-то они не доделали. Она всё ворочалась с боку на бок. Представляла тёмную тень. Думала. Гадала, кто это. Не нравилось ей и бабкино состояние. С тех пор, как баба Шура вспомнила, как поминать, ходила она совершенно пришибленная. А в глазах застыли слёзы и боль. Когда она поднимала свои старческие, выцветшие глаза, они, наоборот, – ярко светились всем этим внутренним, невыплаканным, невысказанным.
“Может эта тень знает бабушку, а бабушка её?”, – задалась вопросом Валя, перевернувшись на правый бок. Чтобы спать было легче, она подложила руку под голову.
– Валь, Валя, ты чего ворочаешься? – услышала она голос бабушки.
– Ничего бабуля, – ответила ей внучка, – Просто…
– А что просто? – заворчала Иванна, – Просто надо спать.
– Хорошо, хорошо, бабуля, я сплю.
– Вот то-то и оно, что ничего хорошего, – проворчала старуха и грозно, всем своим могучим телом перевернулась на бок, спиной к деревенским оконцам.
Иванна тяжело дышала, на самом деле, сон и к ней не шёл. Она чувствовала, что тело её, толстое, большое и бесформенное давит на неё, мешает ей. Не меньше давили и мысли. Каждая – чернее другой. Все воспоминания, которые она много-много десятков лет гнала от себя, вставали, как наяву. Отец, мать, старые бабы, школа, злая учительница, колхоз, клятвы и возгласы. И всё же она уснула, провалилась в ад своих сновидений, увлекаемая призраками прошлого и застонала во сне.
Валя не могла уснуть дольше. Новизна всего произошедшего призывала бессонницу. А вдруг тень придёт? А вдруг она – Валя увидит, как это бывает, как тень появится? А вдруг тень станет с ней говорить? Тут Иванна застонала, чуткие ушки внучки тут же среагировали на звук.
– Ба? – тихо позвала Валя. Но старуха не ответила, только пуще прежнего засопела.
Валя успокоилась, снова удобно положила голову на руку. Прислушалась. Что-то в темноте ухало. Ветки шелестели. Издалека раздавались какие-то лесные, неведомые звуки.
И снова застонала старая Иванна. Валя вскочила с кровати, на цыпочках подбежала-подлетела к старухе. Огромная бабкина ночная сорочка сделала Валю похожей не то на призрака, не то на птицу. Баба Шура крепко сцепила зубы, поскрипывала ими, на лбу выступила испарина, руки крепко сжимали одеяло. Постанывала она почти постоянно, только тихо, лишь в особо тяжёлые моменты она позволяла себе выдохнуть чуть громче.
Действуя больше интуитивно, не совсем понимая, что она делает, Валя села рядом, положила свои холодные руки на бабкин лоб и запела полушёпотом:
“На небе серое облако плывёт,
На месяц оно наплывёт,
Придёт заяц поскакать,
Придёт лисица побежать,
Придёт волк повыть,
Как я скажу, так тому и быть:
Спать Александре спать,
До утра глаз не раскрывать.
Ключ, замок, язык…”
Рифма была не самой гармоничной. Слова если и несли какой-то особый смысл, то Валино поколение вряд ли его бы обнаружило. Но это было не главное. Закончив на выдохе читать-напевать, Валя отвернулась в сторону, глубоко вдохнула, а потом подула бабке на веки. Александрины морщины расправились, лицо потеряло запуганное и зверское, загнанное выражение. Она тихо задышала и кошмары больше не тревожили её.
Валя, пошатываясь, встала. Она не думала, что так устанет от каких-то слов. Но до кровати она еле дошла. В отличие от спокойно теперь спавшей бабки, Валю сразили старухины ночные кошмары и какая-то больная, недобрая ломота во всём теле.
Ранним утром, которое ещё было ночью, Валя снова проснулась от ощущения, что в доме кто-то есть. Но по звукам кто-то бесился снаружи дома. Бил в дверь, по стенам. Девочка сначала было подумала на алкоголика – единственного их соседа в этой забытой всеми и Богом, и коммунистами, и капиталистами, и демократами, и правыми деревне, но тут же почувствовала внутренний ответ: “Нет”. И поняла, действительно, нет, не он, не Сашка. Прислушалась ещё, прислушалась не ушами, не разумом, всем телом, как зайчик слушает, спрятался ли он от хищника или нет, и почувствовала – там кто-то неживой, немёртвый, недобрый колотится.
Что-то рухнуло со звоном на летней кухне. Но тут от печи порхнула вчерашняя тень. Она тоже была немёртвой и неживой, но она была иной. Валя это поняла, едва снова задалась внутренним вопросом. Эта тень, по сути, была совсем не из этого мира. Тень пошелестела куда-то к кухне. Что-то снова страшно стукнуло в стену дома, так что звук глухой волной промчался по всем полусгнившим доскам и брёвнам, но потом всё стихло. Больше Валя уснуть не могла, но сколь она ни вглядывалась, ни тени, ни полтени больше не появилось в избе.
Когда первые лучи утреннего солнца рассекли предрассветную серость, Валя посмела встать с кровати. Она быстро, по-детски глянула под кровать, но там не оказалось ничего кроме пыли и двух старых коробок. Она осторожно встала на холодный пол, сейчас больше похожий на каменный, чем на деревянный, босиком, мелкими-мелкими шагами прошла вперёд к двери из избы. Прижалась ухом и щекой к этой обитой синтепоном и дермантином двери, но разве что так услышишь? На всякий случай, не снимая цепочки с двери, она открыла все остальные замки и стала медленно открывать дверь. Валя страшно боялась, сердце отбивало кровь бешеными, судорожными толчками.
– Валя? Ты чего? – голос бабушки заставил Валю подпрыгнуть на месте.
– Дверь открываю, – сказала она.
– А чего цепочку не сняла, – старуха с невероятным для её возраста проворством дошла до внучки, – А ну, постой-ка, там что ли этот… Как его… Ирода этого… Ну, Сашка, да? Вот, поганец!
– Нет, там не Сашка… Я-я боюсь, ба, – призналась Валя, – Кто-то утром в избу колотил.
– Ну точно, этот ублюдок! – Иванна всей силой своего мощного корпуса сдвинула внучку в сторону и волевым движением руки сдёрнула цепочку.
– Нет-нет, ба, там не он! – звонко, с ужасом воскликнула Валечка, попыталась выбраться вперёд бабки, но та легко, как мячик, заталкивала внучку позади себя.
В коридоре пахло тухлыми яйцами и несвежим мясом.
– Гадёныш! Он мне ещё воздух будет портить! – уверенная Иванна всё ещё считала во всём виноватым доходягу-алкоголика.
– Ба, не, не он это! – плакала от страха Валя, – Не он, что-то страшное, ба!
– А кто ещё? – Иванна ещё не отвыкла от своего материального мира, вообразить хоть плохонького да призрака ей было тяжело. Она даже и не думала об этом. Отвыкла. Или, скорее, не привыкла.
– Ба, страшное, страшное что-то, – тонкими, словно ветки руками, Валечка обхватила большое бабкино плечо, потянула её на себя, – Не ходи, не ходи, там страшно, – плакала девчонка.
– Это мой дом! – воскликнула бабка, – Мне ли кого тут бояться?!
На кухне валялся расколотый стол, а на стекле виднелись еле заметные чёрные отпечатки. Настолько еле заметные, что было их видно только под определённым углом, только наблюдательному человеку с хорошим зрением. Остальным, даже если бы они и увидели, эти следы показались бы пыльными овальными пятнами на не слишком чистом, чего уж греха таить, стекле.
– Да-а, – протянула Иванна устало. Убираться ей не хотелось. Годы не те, тело не то, – А чего это, Валь, а?
– Не знаю, что-то нехорошее, – Валя склонилась над осколками стакана и острожно, обернув пальцы краем сорочки, убирала стёклышки. Опять проснулся её внутренний голос, и к ней пришло знание, ни в коем случае нельзя, чтобы ни она, ни бабка, ни, вдруг, другой какой кровник порезались этими осколками. На краю зрения она видела, как нечто чёрное, нехорошее струится с самых краёв осколков, пытается прикоснуться к пальцам, притянуть их к острой кромке, но натыкается на ткань сорочки и отступает. Иванна тоже потянулась к стеклу, и тогда Валя страшно крикнула:
– Не трогай! Не трожь!
Иванна, с характером жёстким и жестоким, обычно бы огрызнулась, но ещё свеж был в памяти обряд в Верином доме.
– Можно совком и веником? – с почтением, с опаской спросила она у внучки.
– Можно, но веник надо сжечь, а совок прокалить на том же огне и с пеплом утопить в какой-то трясине, в болоте. Чтобы глубже было. Лучше всё в чёрный мешок и с камнем. И камень потемнее возьми. Покрепче возьми камень, не известняк, не песчаник, а крепкий чёрный камень.
Пока Валя всё это говорила, она не отрывалась от осколков, которые укладывала на остатки порванной клеёнки.








