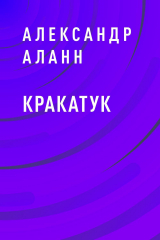
Текст книги "Кракатук"
Автор книги: Александр Аланн
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Души слепой веры есть даже среди нас… – выдержав довольно продолжительную паузу, заговорил мужчина вновь и невольно натолкнулся взглядом на неимоверно сгорбленную фигуру, возникшую у входа в церковь. Очередной гость. Приметив его, мужчина перевёл многозначительный взгляд на горбуна, – Энди…
Уродец подобострастно закивал и бросился к вновь прибывшей. То, что гостем оказалась женщина, а вернее старушка, я поняла почти сразу. По походке, по виду. Энди бережно приобнял за плечи закутанную в шерстяное пальто фигуру и повёл её к северной стороне внушительного помещения. Вскоре он вернулся на прежнее место. Спустя время я приметила старушку уже с каким-то серым мешочком в руках.
– Мир играет самыми разными красками, – говорил мужчина, возвышаясь над гостями, – и мы должны это понимать. Есть среди них грязные и невзрачные, но есть и светлые, указывающие дорогу…
Не поднимая закутанной в бледно-коричневый платок головы, старушка медленно семенила между рядами лавок и вкладывала каждому из собравшихся в ладонь – будь то манекен или живой человек – тонкую свечу янтарного цвета.
– …первые – самые пустые, самые ненужные, давно отыгравшие свою роль. Вредить им нет смысла, ибо рано или поздно они сотрутся сами. Напротив, их до последнего нужно беречь…
У старушки отсутствовало несколько пальцев на обеих руках, – я приметила это, когда она ощупывала спрятанными в рваные варежки ладонями очередного манекена. Видимо, старуха была ещё и абсолютно слепа.
– …ведь когда-то они смешались между собой, и тогда появились мы. Они дали нам жизнь… – полицейский потянул за замок; молния с приглушённым треском разошлась. Мужчина стянул форменную куртку с плеч и выпрямил руки по швам, – под курткой оказалась белоснежная рубашка. Разыгравшееся зрелище было столь фееричным и странным, что на мгновение я даже успела позабыть о том, насколько сильно замёрзла.
Но странности на этом не закончились. «Поющий» прежде граммофон вдруг зашипел и, несколько раз взорвался недовольным скрипом, затих. Старушка к этому времени успела выполнить свою нехитрую работу и беззвучно усесться за орган, и только тогда я осознала, что часть незаметной прежде рельефной груды в стене и была непосредственно самим инструментом. Покрытый толстым слоем пыли и едва видимый среди остального хлама, он всё это время прятался за горой обломков, образовавшейся после обвала внушительной части чердака.
Старушка отчего-то медлила. Наверное, годы просто брали своё, и в этом было что-то неимоверно грустное, пусть и естественное. Маленькая и жалкая, старушка стянула дрожащей рукой паутину с подставки для нот, вызволила из глубокого кармана пальто пожелтевшую от времени книжечку и закрепила её перед собой. Будто что-то видя, она долго склонялась над мятыми листочками, «муслякала» палец и листала, пока не набрела на нужную страницу.
Выходит всё же, что старушка была зрячей.
ДЕЙСТВИЕ 7
Улица Хей Бакке, церковь преподобного Трифона Печенгского (29 ноября 1984 год, 01:13).
Церковь наполнялась всё более праздничной атмосферой, но совсем не в том смысле, в котором обычные люди привыкли это выражение понимать. Так, светодиоды лениво перемигивались и освещали то один клочок помещения, то другой, а некоторые из присутствующих начинали танцевать. Некоторые подхватывали ближайший к себе манекен и, бережно прижимая его к себе, кружились под грозные ритмы органа в по-своему трогательном танце; другие же находили себе живого партнёра, ведь среди собравшихся были и женщины, и мужчины, и даже старики.
Странный полицейский больше не говорил. Он всё ещё стоял у пюпитра и, подобно мне, наблюдал за суматохой. Я видела, как Энди притащил откуда-то закопчённую буржуйку и развёл в ней огонь. Перебитая труба нещадно дымила, но к счастью, сквозняк, гулявший в основном над крышей, уносил прогорклые облачка на улицу. Стараясь не поднимать головы, я, тем не менее, так же замечала, как лавки заполняются всё новыми людьми, и не переставала удивляться той немногословной и жуткой сплочённости, что прослеживалась в каждых их движениях и взглядах.
Всё более усугубляющееся действо заставляло меня трепетать, и я с дрожью во всём теле осознавала, что каждый в этом зале, в отличие от меня, в полной мере понимал происходящее, знал о тех ужасах, что творились в кладовке, и принимал их как должное. Не смея отвечать на любопытствующие взгляды бродяг, я наблюдала за Энди. На фоне всех остальных он теперь казался мне каким-то по-своему знакомым и даже привычным… но при этом всё таким же пугающим.
Горбун был мне отвратителен. Прежде всего потому, что я замечала, с какими гримасами он отвечал на приветствия гостей, с каким подобострастием посматривал на полицейского, и как необъяснимая ненависть искажала его уродливое лицо, когда он поворачивался на парнишку, сидящему в некотором отдалении. Вообще, как оказалось, больше всего Энди уделял внимание той жалкой маленькой старушке. Он часто подходил к ней и, серьёзнея, что-то шептал, склонившись к самому уху.
– Алва – наш особенный гость, и моя давняя подруга, если так можно выразиться, – вдруг прозвучал отдающий металлом голос совсем рядом. Тяжёлая ладонь опустилась на плечо.
Я вздрогнула и обернулась, – воспользовавшись моим отстранённым состоянием, полицейский подошёл ко мне. К счастью, взгляд его был обращён на Энди, иначе, если бы мужчина ещё раз окатил им меня, то я бы наверняка свихнулась окончательно.
– Как и тридцать лет назад, Алва до сих пор приходит сюда каждый день, чтобы помолиться за души мёртвых и живых, – в своей характерной задумчивой манере промолвил полицейский. – И я позволяю ей соблюдать все её бесполезные обряды, даже когда зала полна людей. Энди покупает ей свечи, а она играет.
Я молча слушала, а мужчина продолжал беспечный монолог, будто был со мной уже много лет как знаком. Поначалу это меня пугало, но постепенно я даже начала невольно проникаться к полицейскому неким подобием симпатии. Он не пытался меня напугать, и одно это уже располагало к себе.
– Когда-то это место было полным верующих прихожан. Люди склонялись перед богом на колени и беззвучно молились. В такие моменты все чувствовали на себе его взор, его безграничную защиту. Когда я был ребёнком, мама часто приводила меня сюда и, даже толком ничего не понимая, я, как и все, заражался всеобщей атмосферой умиротворения и покоя. Довольно символично, что в своё время Советы приобщили церковь к имени Трифона – убийцы и разбойника, исконного грешника, ставшим вдруг впоследствии отшельником и святым. Ты знаешь его историю, Мария?
При обращении ко мне по имени я внутренне похолодела, но затем вспомнила о том, что мужчина – полицейский; наверняка он знал имя из сообщения диспетчера.
– Нет… – едва слышно ответила я.
Мужчина глубоко вздохнул и, наконец, отвернулся от Энди. Затем он опустился передо мной на корточки и, будто бы за что-то извиняясь, вкрадчиво произнёс:
– Слышащие называют меня Учителем, но, честно говоря, мне не по нраву это прозвище, – выцветшие зрачки обратились в сторону. – Я никого ничему не учу, а лишь показываю путь к истине…
Учитель бросил на меня быстрый взгляд и пояснил:
– К примеру, Алва видит правду, – память, как и забота о близких, впрямь важна, и если для этого ей нужно во что-то верить, пусть будет так. Но правда – лишь одна из многочисленных граней истины. Существует множество закономерностей и причин, которые всегда приводят к определённому результату. Однажды, много лет назад, я это понял и даже увидел, – Учитель странно улыбнулся и медленно выпрямился. Казалось, его сухой силуэт заполнил собой всё обозримое пространство. – В тот вечер отец напился сильнее обычного. Видишь ли, он был учёным. Не знаю, что он разрабатывал, чем занимался, но работа забирала у него многое. В первую очередь время, конечно, а там уж здоровье, нервы, рассудок…
По всей видимости, тот день выдался особенно тяжёлым, – отец провёл в баре не менее пяти часов, а когда вернулся домой, то поставил пластинку Элвиса Пресли и убил маму. Она даже не успела проснуться. Папа убил её во сне, чтобы меня не разбудить. Но я проснулся. Может, услышал отголоски песни, раздающиеся из закрытой гостиной, или попросту захотел в туалет. В любом случае, помню, как на цыпочках пересёк коридор и заглянул в приоткрытую спальню как раз в тот момент, когда отец бережно прикрыл маме рот и медленно перерезал её горло скальпелем. Помню тот его взгляд…
Учитель по-прежнему улыбался, а я чувствовала, как, несмотря на то, что мне было холодно, по спине скатываются струйки пота. Старушка в этот самый момент закончила играть размеренную композицию и принялась за новую – несколько более мрачную и высокую в сравнении с предыдущей.
– В ту ночь я увидел истину, – продолжил, между тем, Учитель, – Музыка ушедшего времени до сих пор помогает пересечь мне черту. Любовник мамы включал все эти песни, когда отца не было дома. Те пластинки теперь здесь. Они ведут меня и моих детей к свету. Только испытывая страдания, мы становимся ближе к истине. Ты ведь и сама это знаешь, я прав?
Кажется, вопрос был риторическим, и потому я не ответила, но на поверку он вызвал в моём сознании самую настоящую бурю, которая стихла нескоро. Я знала…
Больше Учитель не говорил – лишь стоял подле меня и взирал на толпу. Пространство перед пюпитром уже полностью заполнилось танцующими парами. Оборванцы довольно умело двигались в такт «ступающей» музыке и прикрывали глаза в немом экстазе.
– Вфе фдесь! – подобравшись к краю возвышения, возбуждённо закричал Энди и хихикнул. Учитель серьёзно ему кивнул и посмотрел на меня.
– Все мы здесь не ради меня, а, прежде всего, ради каждого, – произнёс он. – Энди отведёт тебя к матери. Уверен, она найдёт тебе платье.
Энди и впрямь повёз меня к своей матери, – той самой загадочной старушке Алве, о которой рассказывал Учитель. Я не сопротивлялась, потому что не видела в этом никакого смысла, – будучи калекой, мало что можно было сделать. Отмалчивалась я по той же причине; чувствовала, что каждое моё слово может стать последним, обернуться непоправимой ошибкой, – благо собеседники были в этом плане не слишком ко мне требовательны.
Но не все. Энди был куда назойливее Учителя. Не знаю, что послужило на то поводом, но мне начало казаться, что уродцу понравился мой голос, и поэтому он искал малейший повод, чтобы заставить меня говорить.
Так, пока горбун вёз меня к Алве, он болтал, не переставая. Он спрашивал о том, что мне нравится и хочется ли мне услышать его пение, какие цвета я предпочитаю и что думаю о классической музыке. Стоило больших сил ему отвечать, поэтому я старалась ограничиваться односложными фразами.
Наконец, мы пришли. Старуха оборвала мелодию и обернулась. Танцующие чуть поодаль замерли, но Учитель уже возобновил пение граммофона. Толпа зашевелилась вновь.
Старушка и впрямь оказалась совсем маленькой, щуплой, но при этом на поверку и необъяснимо жуткой. Я едва могла на неё смотреть. Может, меня пугал грязный ворсистый материал, из которого было выкроено пальто, а, может, отталкивала её серая шаль. Точно не знаю. Скорее, дело даже было не в одежде, а в низко надвинутом платке. Он совсем не давал разглядеть спрявшееся в глубоких складках лицо, и потому становилось неуютно под невидимым взглядом, сквозившим где-то снизу, в районе ног. Ещё больше пугал тот факт, что я так и не определилась с тем, была Алва зрячей или нет.
Она заговорила не сразу. Прежде старушка внимательно меня изучила. По крайней мере, мне так показалось.
– Красивая, как сахарная куколка… и упрямая, – влажно прочмокал округлый проём. То был странный, ни на что не похожий голос, который, казалось, рождался в самом горле без участия языка и рта. – У меня для тебя кое-что есть…
Энди заинтересованно встрепенулся и склонился вслед за матерью, потянувшейся к холщовому мешочку, лежащему на полу. Алва пошарила в мешочке рукой и, выхватив из него свечу, протянула её мне. Горбун удивлённо отстранился.
Я потянулась было рукой к восковой палочке, чтобы её взять, но сначала оглянулась на Учителя, – он всё ещё стоял у пюпитра. Учитель помедлил, но всё же кивнул. Я взяла свечу.
Тогда Алва вызволила из кармана самый обыкновенный коробок спичек и, достав из него одну, несколько раз почиркала головкой о шероховатую стенку. Вспыхнул огонёк, заискрился фитиль, и свеча обрела свой свет.
Старушка удовлетворённо закивала.
– Как тебя зовут, милая?
– Мария… – отозвалась я.
– Мария… – эхом повторила Алва и покачала головой. – Плохое имя, страстное, коварное. Но ты не виновата… Девочка моя…
– Мамофька, – встрял Энди. – Девофке нувно плафье.
– Платье… – неразборчивым эхом отозвалась старуха и на короткое время замерла, а затем мелко затряслась, словно бы едва сдерживая беззвучный смех. – Платье… Я знала, что мы встретимся вновь… В эту ночь капустница с отрезанным хоботком наконец-то вспорхнёт к погасшему небу, и то решит её жалкую судьбу… Энди, проводи нас к Светочу.
Светоч. При одном упоминании о нём меня затрясло. Безжизненное лицо среди кусков мяса улыбнулось.
– Н-нет… – всхлипнула я. – Т-только не туда…
– Тише-тише, детка… – старушка вдруг неловко приблизилась и крепко прижала меня к себе. – Что такое?
– Т-там лицо… И… все мертвы…
Энди стоял за спиной. Я буквально ощущала на себе его пронзительный взгляд, его зависть и бессилие. Наверняка горбун был в ярости, но инстинктивно чувствуя на себе защиту Алвы и догадываясь о большом её влиянии на сына, я сдерживалась от того, чтобы вырваться из объятий.
Старушка же всё утешала меня и что-то беззвучно бормотала. Энди шумно выдохнул, взялся за поручень на спинке кресла, и наша троица неспешно двинулась к каморке. Меня трясло, и зажатое в ледяные тиски сердце судорожно билось, но я понимала, что иного пути нет. Гости Учителя, да и он сам, были ничем иным, как самим безумием, скрывающимся за масками какой-то странной, не поддающейся пониманию веры.
– Тебе не следует бояться слепого глупца, милая… – приговаривала старушка, склоняясь иногда ко мне ближе. От тёмного проёма на месте её лица ощутимо веяло старостью и лекарствами. – Он всего лишь раб божий, как и все мы. Давние его тёмные и богохульные дела теперь в прошлом, и он живёт одним лишь страданием… Печать его грехов с ним навсегда, но кто мы такие, чтобы не дать ему шанс на искупление…
О, если бы я только знала, свидетелем каких событий мне было суждено вскоре стать. Дожидалась бы я их так же смиренно и безропотно?! Какая разница. Теперь это не важно…
С дрожью и трепетом я входила в тесное помещение, и когда жуткий лик высветился в самой центре мглы, там, в отдалении, среди скоплений ящиков и всяческого прочего хлама, душа моя столь полно пресытилась страхом, что так и не раздавшийся крик застрял ещё на подступе к горлу.
Энди и старушка, не сговариваясь, ступили следом за мной и вытянули свечи в Его сторону. Бесстрастное лицо степенно возвысилось к потолку и повернулось к нам. Чёрный, словно смоль, взгляд, не выражающий никаких эмоций, а одно лишь тихое истинное зло, был обращён в никуда и в то же время на каждого из нас.
Энди при виде обитателя коморки странно засопел, заскрипел остатками зубов. Алва, в свою очередь, пробулькала:
– Ну, здравствуй, Эваранди…
ДЕЙСТВИЕ 8
Улица Хэй Бакке, церковь преподобного Трифона Печенгского (29 ноября 1984 год, 01:41).
Если и было в этом мире что-то действительно ему самому чуждое, не предназначенное для глаз простых смертных, а тем более для слабой людской памяти, то этим чем-то был Эваранди. Эваранди – он же Светоч, как обмолвился ранее Энди. Светоч рождал в душе лишь мрак. Всё в высоком тощем существе было неправильно, странно, жутко. Особенно бросалось в глаза отсутствие у него правого предплечья. Безобразный обрубок был как будто бы только что срезан, но при этом он странным образом не кровоточил, – и капать бы тёмной жиже размеренно на пол, навевая мысли о сгнившем напрочь джеме, – но не осталось в жилах ни капли влаги.
Всей моей смелости хватило лишь на то, чтобы бросить на Светоча быстрый взгляд и тут же отвернуться, но и этого оказалось достаточно, чтобы образ горделивого уродца впечатался в мою многострадальную память навсегда. Не смея больше открывать глаза, я часто дышала и видела проносившиеся перед внутренним взором детали – иссиня-бледная, бликующая в свете свечей кожа; такая гладкая и липкая, словно это была и не кожа вовсе, а покрытый имбирным маслом воск. Я помню неестественно прямую осанку и угрожающее бездвижье, с которым Светоч на всех нас смотрел, и в особенности на меня. В его гладком лице не осталось практически ничего человеческого, но не прибавилось и звериного, – лишь что-то потустороннее, не причастное ко всему видимому, могло исказить человеческий облик столь естественно, но в то же время и ужасающе.
Светоч ничего не говорил. Зато говорила старуха. Лишь её булькающий голос не давал мне окончательно потерять нить реальности и впасть в бездну тяжелого бездумья, пересечь границу между разумом и Сумасшествием, неразборчивый шёпот которого я слышала всё более отчётливо.
– Ты снова вырвался… Почувствовал, что я приду, да? Ведь так, беленький? – выдержав паузу, прошамкала взволнованно Алда и шикнула на сына, когда тот попытался что-то сказать.
Светоч сделал навстречу старухе шаг. К этому моменту я уже нашла в себе силы открыть глаза, но оторвать взгляд от пола не смогла. Видны были лишь большие белые ступни. Они нисколько не боялись ледяного пола и ступали по нему спокойно и уверенно.
– Ты многое отдал ради себя, – сказала старуха, качая головой, – а затем ради меня, но на самом-то деле снова ради себя. Знаешь, Светлячок, душа женщины ведь ничего не стоит без красивой обёртки, поэтому я потеряла куда большее, нежели ты… И всё же… спустя столько лет я тебя простила…
Существо теперь стояло к Алве вплотную. Высокое и обнажённое, оно вглядывалось в самую глубь шерстяного платка. Взгляд пылал смертью и неутолимой жаждой тепла.
– Ты всё ещё любишь меня? – спросила Алва, и я решилась посмотреть на Светоча.
Тот долгое время не двигался и отвечал старухе своим пронзительным нечеловеческим взглядом, а затем вдруг дотронулся единственной ладонью до шерстяного платка и начал нежно вести по нему кончиками пальцев. Сгибая их по мере движения и подхватывая складки ткани, он медленно стянул платок с головы старухи.
И там, за ним…
Я что-то увидела, а затем ослепла от чернильной вспышки, уводящей прочь, за собой. Там, далеко-далеко…
…когда я была совсем ещё крохой, отец каждую неделю покупал целый пакет фруктов. То была, как правило, пятница – день закупок продуктов на следующую неделю, ну и, конечно же, домашней уборки. Мама неизменно раскладывала в плетёной корзинке на кухне бананы и мандарины, киви, яблоки… а ещё хурму. Последнюю я никогда не любила – хватило пару неудачных опытов, чтобы увериться в полной непригодности вяжущего каменного фрукта в качестве ночного «подкрепления».
И вот однажды, в один из вечеров папа подхватил с корзинки эту гадость и привычно уселся на продавленный диван. Последовало несколько укусов, после чего от внимания папы не ускользнуло моё скривившееся лицо. Он улыбнулся с полным ртом, а я спросила:
«Как ты это ешь?»
«Ртом».
«Бе…»
Папа усмехнулся и поманил меня пальцем. Я отстранила тряпичные куклы и подошла ближе. Доверительно склонившись к моему уху, папа прошептал:
«Хочешь фокус?»
Папу позабавило в крайней степени заинтересованное выражение моего пухлого личика, но он попытался выглядеть серьёзным. Я же в свою очередь спросила:
«А он интеесный?»
«Скорее вкусный».
По воле папы говядина в морозилке были безапелляционно отодвинута вглубь короба, а один из фруктов, завёрнутый в полиэтиленовый пакетик, помещен в центр освободившегося места «на часок».
Ну а затем последовал вечерний киносеанс с рождественским фильмом. Мама с папой устроились на всё том же стареньком диване, которого уже давно нет, а я как обычно между ними. Не прошло и пол фильма, а мы уже крепко спали, мерно посапывая и прижимаясь друг к другу сквозь сон. А потом наступило утро, следом новый вечер и снова ночь, затем следующий день и ещё один…
О хурме мы вспомнили, когда наступило Рождество. В то утро папа полез в морозилку и озадаченно хлопнул себя по лбу.
«Малышка…» – качая головой, позвал он.
Громко и часто топая забранными в шерстяные носочки ногами, я пулей промчалась по дому и предстала перед папой.
«Тиво?» – тяжело дыша, громко вопросила я.
Папа молча подхватил пакетик и передал его мне. Вспомнив давний разговор, я звонко рассмеялась.
«Как думаешь, час уже прошёл?»
Я вновь рассмеялась и отрывисто воскликнула:
«Да!»
«Да уж…» – протянул папа с улыбкой и, шурша, вызволил из целлофана заледеневшую хурму. – «Возьми тарелочку и поставь возле трубы. Главное – не оставить её на ещё один час…»
Через полтора дня фрукт не только успел растаять, но и почернеть. Потыкав для верности обмягчившуюся шкурку пальцем, я быстро его схватила, да так крепко, что перележавшая в морозилке хурма податливо промялась под моей хваткой… и превратилось в безобразное, окутанное тьмой мессиво – лицо Алвы…
Я смотрела на тёмный ошмёток без всяких признаков носа, глаз и губ и всё никак не могла отвести от ужасающе сюрреалистичной картины взгляд. Женщина увяла и испортилась, будто перележавший в морозилке фрукт, и теперь ей уже не суждено было стать прежней.
Впрочем, Светочу было всё равно, как Алва выглядит. Кажется, он даже был в неё влюблён… Осторожно приподняв липкими пальцами место, где у старухи должен был выступать подбородок, он нежно прильнул губами к уродливому кому, состоящему из одних лишь жил и высушенных дыр.
Две крайности ужаса слились в единое, чудовищное переплетение плоти, и тленное подобие мгновения любви неимоверно затянулось; до тех пор, пока происходящее не осознал Энди. Когда это произошло, он разъярённо захрипел и, обиженный, ринулся было к матери, как случилось то, что заставило его испуганно отступить.
Секундой ранее, когда Светоч обнял «бабушку Хурму», та нежно прильнула к нему в ответ, обхватила его шею, а уже спустя какую-то жалкую долю секунды выхватила из-за пазухи скальпель и одним резким движением всадила его в иссиня-белый живот.
Это было так неожиданно и волнительно, – я смотрела и внимала, и руки дрожали не преставая. Реакция Светоча оказалась ничуть не хуже.
Существо не кричало и не попыталось ударит старуху в ответ. Вместо этого оно неестественно судорожно задёргалось и схватилось за переплетённую жёлтой изолентой рукоятку, торчащую из брюха. Удивительно, но сколько бы усилий Светоч не прилагал, железка впилась в плоть подобно нашедшей свою добычу змее. Наконец, бившееся в ужасающей агонии тело медленно осело на пол, а вскоре и вовсе затихло. Осталась лишь белая плоть и чёрная как сам космос рана.
Так мы и стояли молчаливой троицей, ожидая биения кровавых подтёков, но их так и не последовало.
– Я никогда не любила его, – холодно бросила старушка и, кряхтя, подняла с пола шаль, – А он меня любил… Даже после того дня… Видит Бог, шанс дают лишь единожды, – и у Эваранди он был. Этот несчастный дурак столько всего наобещал – он обещал и вечную молодость, и богатство, и счастье. А что я получила в итоге?! Лишь это!
Внезапно Алва оказалась рядом, и ужасающий во всех своих деталях лик предстал перед самым моим лицом. Я видела переливающиеся в глубине провалов мышцы и кости, ощущала на себе гнилостное дыхание, но не смела отвернуться. Старуха на поверку всё же оказалась слепа – глаз попросту не было – багровели лишь бездонные провалы, вычерчивающие контуры деформированного черепа следами коросты и язв. Хурма испортилась окончательно.
Когда изрезанный провал на месте рта задвигался, я поспешно задержала дыхание, чтобы не потерять сознание от запаха гнили. Растягивая между краями этого самого «рта» розовую пену, старуха вновь заговорила. Она принялась меня наставлять, и хотя я была неимоверно напугана, но всё же заметила, что прежнее возбуждение старухи спало, и тон её заметно смягчился.
– Гнев ни к чему, милая… Запомни – есть решения, и есть их последствия. Последствия моего решения перед тобой. Последствия решения Светоча – в его животе. Как думаешь, я сделала плохо?
– П-плохо? – дрожа, промямлила я.
– Да-да… – подхватила старуха. – То, что я убила его – плохо?
Энди неуверенно хихикнул, а я вспомнила, сколько раз за долгие безлунные ночи я представляла, как в темноте подле моей кровати бродят несуразные и необъяснимые, а от того ещё более жуткие монстры. Осознание собственной беспомощности и незнания порождает поистине глубокие страхи. То же самое я чувствовала сейчас.
– Я не знаю…
– Как и я, – после задумчивого молчания внезапно поддержала меня Алва и отстранилась. По мановению костлявых рук платок обернулся вокруг изъеденной болезнями головешки. – Скальпелем Эваранди вычертил проход в свой дьявольский мир, а оказавшись в нём, ничего не нашёл. Отдал лишь обозлённому хозяину мою плоть и свою душу. Не всякие ошибки могут быть прощены… Не всякие…
Алва говорила и говорила, рьяно рылась в ящиках и ворчала, сетуя на то, что слишком рано избавила Светоча от страданий, а Энди завороженно взирал на свежий труп и шаг за шагом подбирался к нему всё ближе.
– Я знаю, мой наивный беленький дурачок хранил платье все эти годы… – приговаривала Алва, освещая каждый уголок комнаты своей трескучей свечой. – Всё надеялся… Нужно было спросить и уже после…
Энди беспокойно дёргался и тянул свои культяпки к заветной рукоятке. Я совсем ничего не понимала, но как-то неосознанно переключила всё своё внимание на него. Впрочем, ненадолго…
Очередная деревянная крышка опрокинулась на пол, – старуха в который раз слепо пошарилась, а затем, наконец, торжественно вытянула на свет самое настоящее свадебное платье. Старомодное и кружевное, оно в контраст с мрачной обстановкой выделялось своей вычурной красотой, своим непередоваемым изяществом форм.
И в то же мгновение тишину разорвал истеричный хохот Энди.
Горбун выхватил из руки мертвеца скальпель и рванул к дверям, да так резво, что из узкой раны в воздух взметнулась чёрная полоса и с мрачным шлепком обозначила путь уродца.
– Я фтану как ты, и ты фнова полюбиф меня… – кричал Энди, отдаваясь удаляющимся эхом от стен.
– Стой! – сорвавшись на хриплое бульканье, завопила Алва и ринулась следом за безумным сынком.
После были крики и суматоха. Моё кресло кто-то выхватил из тьмы, и я вновь оказалась в просторной зале. Прежде чем Учитель сумел утихомирить толпу, я успела заметить, как в приоткрытых входных дверях церкви мелькнула приземистый силуэт старухи. Энди скрылся в зимней ночи, и его мать вместе с ним.
Когда Учитель погрузил собравшихся в прежнее состояние туманного транса, он обернулся на меня. Его тусклый взгляд был преисполнен необъяснимой печалью. Голос, однако, сохранил прежнее хладнокровие.
Учитель коротко расспрашивал меня о произошедшем в коморке, а я сбивчиво отвечала постепенно переставала что-либо чувствовать, – медленно, но верно страх становился неотъемлемой частью меня, да и постоянный холод давал о себе знать. Подобно мармеладным червячкам, безжалостно источающим черничный пирог, он проникал всё глубже, подбирался к самому моему сердцу.
И внезапно, в какой-то особенно задумчивый момент, Учитель прижал меня к себе, совсем по-родственному так – крепко и даже бережно. Я вздрогнула и затихла. Объятья показались мне жуткими, абсолютно неправильными и странными, но при всём при этом… на удивление искренними.
– Каждый високосный год, – прошептал мужчина на мне ухо, неожиданно усиливая хватку, – грань между привычным и иным видением мира в этом месте становится едва различимой. Звучат песни былых времён, и в их чарующем звучании я вновь различаю мгновения своего безумия… Находят их и мои спутники.
– Прошу… – смогла лишь сдавленно пискнуть я.
– Что бы ни произошло, концерт должен пройти как должно…
Объятья стали невыносимо болезненными. Кажется, я даже услышала треск собственных рёбер. Ну а Учитель, дождавшись, пока я начну терять сознание, стремительно скользнув за кресло, пережал тонкую шею и ввергнул меня в бескрайние пучины вечной мглы.
В моём сознании проносились разрозненные картины злосчастной коморки и прекрасного платья, бесстрастный взгляд Учителя и собственное тело, облекаемое в нежные ткани, а так же удивительно однообразные и фанатичные выражения лиц безымянных уличных скитальцев.
Да, пожалуй, те минуты моего забытья были одними из самых странных и неоднозначных мгновений в моей жизни. Я пребывала в полубессознательном состоянии и отчасти всё понимала, но в то же время нисколько себя не контролировала. Увечье, что забрало чувствительность ног годы назад, теперь словно бы завладело мною полностью. Тело двигалось лишь в такт движениям Учителя.
Ну а сам он абсолютно бесстрастно смахнул одеяла, снял с меня всю одежду, а затем, приподнимая то ногу, то руку, а то и вовсе подхватывая безвольное тело с кресла, нарядил меня, подобно куклу, в платье Алвы. Порой я замечала взгляд мужчины, а он замечал мой. В серых глазах не было похоти – одна лишь необходимая решительность.
– Умница… – прошептал он, когда дело было сделано.
После всех приготовлений меня вывезли к центру возвышения и расположили рядом со старой шарманкой. Расставленные подле друг друга звериные черепа торжественно взирали на обветшалые стены полукруглой залы и сквозили по ним своими суматошными взглядами.
И безумное торжество началось. Вначале была музыка. Какой-то безликий бродяга осторожно выхватил из кипы пластинок одну, наверняка особенную, и установил её под тонкое жало граммофона.
Громыхнули клавиши органа, затрубили трескучие ряды саксофонов и мой замыленный взгляд приметил «бабушку Хурму», вернувшуюся, как оказалось, несмотря ни на что обратно в пределы осквернённой церкви. Казалось, её сгорбленный силуэт стал ещё ближе к земле, но горе не повлияло на качество игры. Старуха тяжело склонялась над клавишами и выводила скрюченными останками пальцев невообразимые ритмы. Тяжёлые удары смешивались с потрескивающим уютом ушедшей эпохи и приглушали в собравшихся всякие признаки здравомыслия, но так оно, как мне показалось, и должно было быть. Ближайшее ко мне окружение вверглось в безостановочное движение, и мелодичная музыка поддерживала её первобытный танец. Возведённые к пробитому потолку руки сжимали горлышки какого-то дешёвого пойла и дымящиеся окурки, а лица выражали собой одни лишь пороки и необъяснимую страсть.
И всё же в собравшихся что-то неуловимо изменилось. Бродяги постепенно обратились в умелых танцоров, отринувших всё мирское, вобравших в себя одни лишь движения и сопутствующие им чувства. Огромные высокие тени суматошно мелькали среди подмигивающих гирлянд, сливались с затемнёнными углами в мрачных объятьях и уходили сквозь снежную пелену в прорехах здания прямо на улицу, но всякий раз послушно возвращались обратно.








