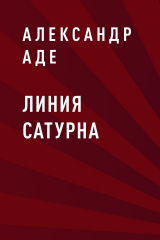
Текст книги "Линия Сатурна"
Автор книги: Александр Аде
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Пересказываю то, что услыхал от Алеши.
‒ Не может такого быть! ‒ упоенно выдыхает она. ‒ Мы попали в сказку, Королек!
На Сероглазке здоровенный пуховый бледно-зеленый свитер, в котором она едва не тонет с головой, и обтягивающие джинсики. Мои шлепанцы на ее крохотных ступнях кажутся ластами.
Наша первая ночь. Неужто ‒ на пороге начинающегося века ‒ мы станем самыми близкими людьми?
Разве это – не сказка?
* * *
26 сентября 1971-го года.
Алексей
Голос Королька пропадает.
Озираюсь ‒ и на секунду мутится голова, в мозгу рождается глупейший классический вопрос: «Где я?»
Я ‒ на улочке Бонч-Бруевича, рядом – Алешка и Немая.
‒ Придется возвращаться в Заборье. Не исключено, что отец и неведомая женщина – в кинотеатре «Победа»… Эх, проклятье! Нужны деньги на такси! Можем опоздать.
‒ У меня рубль, ‒ нетвердо заявляет Алешка. ‒ Бабушка дала на обеды в школе.
‒ И у меня рубль, ‒ тихо говорит Немая.
Ловим попутку. Минуты через две у наших ног тормозит обшарпанный фиолетовый «москвичок». Восседающий за рулем мордатый дядька коротко бросает:
‒ Куда?
‒ В Заборье, к кинотеатру «Победа».
‒ Садись.
Я усаживаюсь рядом с пузатым водителем, Алешка и Немая ‒ на заднее сиденье. Центр города накатывается и тут же пропадает невесть куда.
Водила оказывается словоохотливым.
‒ В киношку собрались? ‒ спрашивает для затравки.
‒ Да, ‒ отвечаем хором.
‒ А что за фильм?
‒ Понятия не имеем. Пойдем на первый попавшийся. Воскресенье. Надо как-то развлечься.
‒ В «Победе», похоже, показывают «Белорусский вокзал», ‒ размышляет толстяк. ‒ Смотрели?
‒ Нет еще.
‒ Сходите. Обязательно. Я в конце уревелся! Честно скажу, только после этого фильма уразумел, какую войну сломали. Я ведь и сам воевал в пехтуре. Начал в сорок третьем и протопал на своих двоих аж до самой златой Праги. Там войну и закончил. Трижды ранен, одно пулевое, два осколочных…
У меня отваливается челюсть.
Я уже привык к тому, что ветераны Великой Отечественной – глубокие старики. Самым молодым – за семьдесят, кому-то вообще за девяносто. И вот сидит рядом со мной крепкий мужик с круглыми тяжелыми кулаками, крутит баранку и повествует о том, как бил фашистов. Ему нет и пятидесяти, если и старше меня, то ненамного. Кепка, темно-серый плащ.
А словоохотливый водила уже болтает о том, что в Тольятти выпускают новый автомобиль. По итальянской технологии. Называется «жигули». Сам-то он еще не видел, но, говорят, кузов из тонкой стали, хлипкий. Консервная банка, а не машина. Вот «москвич» ‒ это вещь. Крепкий, надежный, как танк. В двух авариях побывал – хоть бы хны.
Так, слушая россказни веселого левака и только поддакивая, добираемся до кинотеатра.
‒ Счастливого просмотра! ‒ напутствует он и укатывает.
Останавливаемся перед серым конструктивистским зданием кинотеатра. Господи, до чего же он неказистый и грязный!
С первого по восьмой класс я учился в школе, которая была недалеко от моего дома, в десяти минутах ходьбы. Но однокашники и учителя почему-то не вызывали у меня приятных чувств. И я, пересилив свою обычную робость, выбрал другую школу, расположившуюся в Заборье, практически на границе между Заборьем и Оборонкой. Меня зачислили в математический класс, где нас, «оборонцев», было восемь, остальные ‒ заборские аборигены.
И каждый день, за исключением воскресений, я отправлялся из глубинки Оборонного района в сорокаминутный путь. Возле кинотеатра «Родина» мы, две девчонки и шесть пацанов, встречались и дальше отправлялись гурьбой. И так же ‒ ввосьмером ‒ возвращались в свою Оборонку.
Дорога от «Родины» до школы занимала полчаса. И столько же обратно. Итого ‒ час блаженного счастья, сумасбродной трепотни обо всем и ни о чем.
Если какая-нибудь училка болела, и урок срывался, мы ‒ всем классом ‒ удирали в «Победу». А иногда сбегали в киношку просто так, из озорства. И тогда фильм казался немыслимо волшебным – это была сладость запретного плода.
Мое детство и подростковые годы прошли между двумя кинотеатрами ‒ «Родиной» и «Победой».
В «Победе» два зрительных зала, синий и красный. В одном показывают «Белорусский вокзал», в другом ‒ «Возвращение «Святого Луки». Фильм про «Луку» я, кажется, не видел. Во всяком случае, не припомню такого. Судя по афише, детектив.
На моих часах без десяти три. Похоже, сейчас завершится «Белорусский вокзал».
‒ Следите за дверью, ‒ предупреждаю ребят. ‒ Зрители скоро повалят на выход.
Принимаемся ждать. Мысли ‒ лихорадочные, донельзя нелепые ‒ снуют, суетятся в голове…
Наконец-то!
Дверь отворяется…
‒ Гляди внимательно, Алешка!
Держимся в сторонке. Сосредоточенно наблюдаем.
Зрители вываливаются из дверей кинотеатра и движутся мимо нас. Кое-кто, в основном, немолодые женщины, плачут, осторожненько сморкаются в платочки. Да и у остальных лица скорбно-окаменелые.
Смотрим, не отрываясь.
Отца нет.
Стискиваю пальцы. Ладно, теперь дожидаемся тех, кто смотрит «Луку».
Только теперь до меня доходит катастрофический ужас ситуации. Если отца в кинотеатре не окажется, шансов его найти уже не будет! Единственная надежда – на Судьбу. Она отправила меня в прошлое, значит, должна помочь отыскать отца. Но ее терпение не безгранично. Возможно, ей уже наскучило подсказывать мне, куда идти, что делать. Я оказался олухом царя небесного. Каюсь.
Стоим, не произнося ни слова. Во мне растут разочарование и усталость.
Снова отворяется дверь.
Напрягаюсь, чувствуя свое не на шутку разбушевавшееся сердце. Слегка кружится голова. Сейчас все решится! Ну – пан или пропал!..
Но проходит и эта толпа…
На меня наваливается неимоверная тоска. Такое опустошение, как будто вынули внутренности, остались только кости и повисшая спущенным флагом кожаная оболочка.
‒ Что теперь? ‒ тихо спрашивает Алешка.
‒ Что теперь! ‒ раздраженно передразниваю я. ‒ Ну почему ты все время надеешься только на меня?! Скинул ответственность на кого-то и доволен! А я не господь бог… ‒ и, опомнившись, виновато выдыхаю: ‒ Извини, Алешка, сорвался.
‒ Да ладно, ‒ он слабо машет рукой. ‒ Я понимаю.
‒ А ты чего молчишь? ‒ спрашиваю Немую. ‒ Помоги нам, убогим. Ум у тебя светлый, рациональный.
Она краснеет.
‒ Я бы рада помочь, но…
‒ Не ломайся. Сейчас не до политесов. Предлагай. Мой бедный котелок уже не варит.
Опускает светло-русую голову с гладко зачесанными волосами. Молчит. Потом неуверенно предлагает:
‒ Позвоните своему другу. Туда, в 1999-й.
Вздохнув, достаю сотовый…
* * *
31 декабря 1999-го ‒ 1 января 2000-го.
Королек
В моем мозгу, во всех моих расслабленных телесах бродит сухое бордо – подлинное или подделка, ‒ легонько дурманит голову и будоражит сердце.
Блестит нарядная елочка, домашним солнцем сияет люстра, по-кошачьи светятся глаза Сероглазки. Чувствую – немедленно следует совершить нечто эпохальное, чтобы запомнилось на оставшуюся жизнь.
Это желание свербит неотвязно. Новорожденное тысячелетие неслышно отворяется, как исполинские ворота, за которыми – звездная тьма.
Скоро пробьет двенадцать!
Хлопает пробка. Наливаю в бокалы шипящее, пузырящееся шампанское. Включаю телик ‒ только для того, чтобы не упустить время, ‒ и вижу седого усталого человека со слегка гнусавым, мгновенно узнаваемым голосом.
‒ … Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми…
Свершилось!
Когда он пришел во власть, я был начинающим следаком прокуратуры и не понял, что произошло. Но старшие были в восторге: свой в доску мужик ‒ прямой, непреклонный, неодолимый! Этот не будет хитрить, кривить душой, рубанет так, что мало не покажется. Да, языком трудно ворочает, слова будто тяжести таскает. Но именно краснобаи завели страну в тупик.
Наворотил он немало. Словно сама собой возникла полунищая кровавая страна, которая волочилась невесть куда, раскачиваясь из стороны в сторону, как не держащийся на ногах алкаш.
И вот он уходит, пьющий обрюзгший несчастный старик. Незадачливый Дед Мороз, который меньшинству притащил огроменный мешок подарков, а большинству – проблемы и горе. Растворяется в прошлом. В двадцатом веке. Во втором тысячелетии. Третье тысячелетие нам начинать без него.
Бьют куранты.
‒ Счастья тебе, Сероглазка, самого большого, какое только возможно!
Вижу: нос у нее красный, глаза мокрые. И пугаюсь.
‒ Что случилось?
‒ Ельцина жа-а-а-лко!
Обнимаю ее пушистое тельце. На моих щеках ‒ соленые Сероглазкины слезы.
Тихонько говорю в маленькое ушко:
‒ Сероглазка, выходи за меня замуж!
Господи, твоя воля, что произнесли мои очумелые губы! От великолепия невероятной ночи, от бордо и шампанского, от прощальных ельцинских слов я рассиропился и потерял контроль над собой!
Но сказанного не воротишь.
Сероглазка отодвигается, смотрит на меня сияющими мокрыми глазами.
‒ Королек, ты сделал мне предложение?
‒ Вроде того, ‒ соглашаюсь уныло.
‒ Я буду самой лучшей женой! Самой лучшей во всем мире!
‒ Охотно верю.
Сероглазка обвивает мою шею своими ручонками, прижимается крепко-крепко, целует, и мои щеки становятся мокрыми от ее счастливых слез.
Так незаметно скользим в третье тысячелетие. И абсолютно нет никакой помпезности, пафоса, только за окнами трещат и взрываются петарды. Но так происходит каждый Новый год, и этот не исключение.
Пьем за нас двоих, Королька и Сероглазку. И я уже не вполне понимаю, доволен я или удручен?
Завтра разберемся. Впрочем, завтра уже наступило…
Названивает мобила.
‒ Наверное, твой приятель, ‒ невозмутимо предполагает Сероглазка, как будто только что не запрокидывала голову, изнемогая под моими поцелуями. ‒ Который звонил насчет женщины и мужчины.
Хмыкнув, беру трубку.
‒ Королек, ‒ раздается в моем ухе, ‒ мы побывали в «Победе». Отца нет. Что делать дальше, не знаем. Подскажи! Время уходит! Отца скоро убьют!
Негромкий Алешкин голос действует на меня куда сильнее истеричного крика. Парень действительно на грани срыва.
Обреченно вздыхаю. Даже если невообразимая история Алеши – истина чистой воды, как я смогу помочь? За считанные часы, отсюда, из 2000-го!
К тому же непостижимая Алешина история меня ничуточки не зацепила, поскольку не вжился в нее, не проникся аурой, ароматом.
‒ Ладно, ‒ говорю неохотно. ‒ Позвони минут через пять. Покумекаю.
И, когда в трубке пропадает Алешин голос, обращаюсь к Сероглазке:
‒ Снова прошу совета. Не оказалось в «Победе» нужного нам человечка. Теперь где искать?
Сероглазка в раздумье надувает щеки, с шумом выдыхает. Беспомощно признается:
‒ Вопросище! ‒ И тут же радостно сообщает: ‒ Неподалеку от «Победы» ‒ скверик. ‒ Там иногда влюбленные парочки сидят.
‒ И ты сидела? ‒ спрашиваю ревниво. И сердце останавливается.
Она потупляется и сникает. Набираю номер Алеши.
‒ Погляди рядом с «Победой», в скверике.
‒ Ага, понял, ‒ нервно подтверждает он и пропадает.
Понятия не имею, что там, в 71-м году, происходит, но во мне закипают тревога и азарт.
‒ А мне нравится вот так расследовать, ‒ признается Сероглазка. ‒ Давай вместе будем сыщиками! Между прочим, Агата Кристи работала медсестрой. Как я.
‒ Поглядим, ‒ уклончиво говорю я. ‒ Все еще впереди…
* * *
26 сентября 1971-го года.
Алексей
‒ Ну, что, ‒ спрашивает Алешка, глядя на меня снизу вверх. В его голосе сквозит безнадежность. ‒ Теперь куда?
‒ Здесь рядышком должен быть скверик. И я даже знаю, где. Есть шанс, что отец и женщина – там.
Плетемся в сторону сквера. Надежда во мне иссякла. Кажется, что тащу на спине сорок кило усталости и апатии. Ноги передвигаются еле-еле, словно бреду на костылях.
Алешки и Немая шагают бодрее. Они молоденькие, на них не лежит груз сорока лет кривой и косой судьбы. Тащусь за ними, чувствуя себя дряхлым и больным.
Вот и сквер. Под ногами похрустывают невесомые листья.
‒ Погуляйте, поглядите, ‒ обращаюсь к ребятам. ‒ Я подожду здесь.
Совершенно опустошенный, без сил опускаюсь на скамью. И застываю.
Хорошо вот так расслабленно откинуться на спинку скамьи, подставить лицо нежаркому сентябрьскому солнцу и не думать ни о чем…
Какое-то неясное беспокойство заставляет открыть глаза.
Ко мне приближаются Алешка и Немая.
‒ Он тут! ‒ звенящим голосом сообщает Алешка.
И указывает пальцем. Его глазенки торжествующе горят.
‒ С женщиной, ‒ покраснев, добавляет Немая. ‒ Сидят на скамейке.
У меня сбивается дыхание.
ОТЕЦ!..
* * *
14 мая 1956-го года.
Автор
Им по семнадцать лет. Обоим – ему и ей.
Время шальное, беспокойное: окончание школы. Деревья надели шапки из молодой зелени, поработали дворники, ‒ и город разом похорошел, засиял. Угрюмый замарашка, весной и осенью погруженный в непролазную грязь, он ‒ как Золушка в принцессу ‒ вдруг превратился в крупный респектабельный советский город.
Скоро экзамены, а Косте заниматься не хочется. Он с трудом заставляет себя идти в школу. Да и у других ребят из его класса настроение чемоданное. Самые твердокаменные учителя двоек уже не ставят: скоро прощаться, и нет никакого желания напоследок портить настроение и школярам, и самим себе. И в памяти выпускников желательно остаться со знаком плюс: добрыми, все понимающими и снисходительными.
Костя и вовсе не ходил бы в школу, но там – Ленка.
Дружат они с девятого класса. Сначала после уроков бродили по своему невысокому району, мало чем отличающемуся от рядового поселка, болтали о разной ерунде. Потом стали целоваться.
В классе приняли как данность: эти двое ‒ будущие муж и жена.
И они оба уверены, что поженятся, как только исполнится восемнадцать (хотя он даже не делал ей предложения). Поэтому в их отношениях есть уже нечто будничное. Они сидят за третьей партой среднего ряда, остро ощущая, что все вокруг чужие, хоть и симпатичные, а они – семья.
Лена запросто заглядывает в его квартиру. Костина мать, которая просит называть себя просто Зиной, принимает будущую невестку доброжелательно. Но, едва та уходит, сразу супится и принимается твердить сыну, что рано ему жениться, молоко на губах не обсохло. А детишки пойдут – тут вообще пиши пропало, кончится его спокойная жизнь. На что Костя резонно возражает, что сама мать выскочила замуж в девятнадцать. «Зато твоему отцу было двадцать шесть», ‒ возражает Зина, улыбаясь и вспоминая прошлое.
В их чувстве практически нет эротики, им достаточно вполне невинных поцелуев. В Косте иногда вспыхивает тяжелое желание, но Ленка ведет себя естественно, как друг или жена, и это охлаждает его пыл.
Урок еще не начался, в классе царят благодушие и раздолбайство. Доска исчеркана удалыми каракулями. Какая к чертям учеба! Сердца то колотятся, то цепенеют в предчувствии последнего звонка, экзаменов ‒ и неизведанной жизни, которая распахивается перед ними, взрослая и блаженная.
‒ Привет, Топилка! ‒ кричит Генка Семицветов.
‒ Здорово, ‒ бурчит, насупившись, Костя.
Он с независимым видом валится на скамейку парты, хлопает крышкой изрезанной и изрисованной, крашеной-перекрашеной черной столешницы.
‒ А где Ленка? ‒ спрашивает Семицветов.
‒ Понятия не имею. Я ей кто, сторож?
‒ А разве нет? ‒ хохочет Семицветов.
Рослый, по-мужски красивый, с великолепно вылепленной головой, он в классе не лидер и обычно держится в тени. Но едва школяры пронюхают, что учительница заболела и урока не будет, немедленно раздается зычный голос Семицветова: «Айда в киношку!»
И все отправляются смотреть фильм. Любой. Лишь бы вместе. Лишь бы чувствовать, что рядом – свои ребята, которые покатываются от хохота ‒ или сглатывают застрявший в горле комок.
На Семицветове, как на многих мальчишках класса, как на Косте, серо-синяя школьная форма. Мятая и неряшливая. Куцая гимнастерка, из которой давно вырос, не прикрывает лоснящиеся на заднице брюки.
Семицветов плюхается на Ленкино место.
‒ Ну что, Топилка, скоро на свадьбе плясать будем?
‒ На какой еще свадьбе? ‒ хмурится Костя.
Ему неприятно, что Семицвет беспардонно влезает в тайные уголки его души. Он ни с кем не собирается обсуждать свои с Ленкой отношения, а уж с Семицветом подавно.
Тем более что у сидящих впереди девчонок ушки на макушке. Вроде бы болтают между собой, а сами ловят каждое слово. Этих хлебом не корми, дай только потрещать о любви. Сороки. Интересно, какими они станут лет через сорок? Должно быть, противными старухами, которые торчат целыми днями на лавочке перед домом и сплетничают о соседях.
Он с раздражением и горечью осознает, что его и Ленкина жизнь крайне любопытна одноклассникам. И почему-то злится на Ленку.
А вот и она.
Входит в класс, тут же отыскивает его глазами, и лицо тут же озаряется улыбкой.
«Чему обрадовалась?» ‒ по инерции сердится Костя, а рот уже привычно расплывается в ответной улыбке.
Семицветов с коротким хохотком уступает Ленке место и исчезает. Она усаживается рядом с Костей.
‒ Привет. Как дела?
‒ Нормально. А у тебя?
‒ Мама заболела, ‒ выговаривают дрожащие Ленкины губы.
Только теперь Костя замечает, как она осунулась, глаза светятся сухо и неспокойно. Сердце его нехорошо екает.
‒ А что у нее?
‒ Не знаю. Вчера ‒ вдруг, ни с того ни с сего, ‒ пошла горлом кровь.
Костю передергивает. Он не терпит, когда говорят о болезнях, а мертвых видел только в кино.
‒ Да, проблема, ‒ с печальной миной произносит он, не зная, что сказать. И тут же добавляет, боясь, что его слова прозвучали слишком бесчувственно: ‒ Ее в больницу отправили?
‒ Ага, ‒ небольшие серые Ленины глаза наполняются слезами.
‒ Так ты сейчас одна дома?
‒ Ага.
‒ Слушай, у тебя, наверное, продуктов нет? Давай, сходим после школы в магазин, купим. Да еще твоей маме надо занести в больницу.
‒ Костик, я так боюсь, что с мамой что-нибудь случится!
‒ Не бойся, ‒ авторитетно заявляет Костя. ‒ Обойдется.
‒ Ты уверен? ‒ с надеждой спрашивает Ленка.
‒ Само собой. И не такие выздоравливают. Она ведь еще не старая.
‒ Конечно, ‒ вздохнув, соглашается Ленка. ‒ Она совсем молодая.
Ей не дано знать, что через месяц вернувшаяся из больницы мать вдруг побелеет, рухнет навзничь посреди комнаты (из горла потоком хлынет кровь) и умрет до приезда «скорой».
Лена останется одна в ‒ маленькой комнате двухкомнатной квартиры. И тут же, словно бы ниоткуда, явится бесцеремонная младшая сестра покойной с двумя малолетними отпрысками, водворится в комнатке, даст кому следует на лапу, пропишется и исподволь начнет тихую племянницу выживать. Лена из гордости враждовать с теткой не станет и, выйдя замуж, тотчас переедет к мужу.
Внезапно Костя ощущает прикосновение к своей щеке. Как будто кто-то легко, но упорно давит на правую сторону его лица. Поворачивает голову. На миг его взгляд схлестывается с бесцветными, глубоко посаженными глазами Ледогорова, стоящего возле двери.
Тот, потупившись, отворачивается, но Костина щека горит, как от удара. Костю так и тянет подойти к Ледогорову и выяснить, чего уставился, да еще с такой нескрываемой ненавистью, но неловко при Ленке.
Этот Ледогоров – странный субъект. Белесый, неказистый, низкорослый, неразговорчивый, злобный. Слышно его лишь тогда, когда отвечает у доски. Да и в этом случае старается не глядеть ни на кого. Опустит голову и бубнит.
На него частенько покрикивали учителя: «Ледогоров, прямо перед собой смотри! Пол глазами прожжешь». Потом привыкли. Что с него взять? Никого еще не прирезал, и то ладно. В нем действительно есть нечто такое: попадет вожжа под хвост, выхватит нож и…
Как-то, месяца два назад, заявился к Косте домой. Нежданно, как снег на голову. Спросил, что задали по математике. Педантично переписал задание и ушел. Костина мать, впервые увидевшая Ледогорова, сказала тогда: «Ну, этот добром не кончит». ‒ «Почему?» ‒ удивился Костя. ‒ «Такие в своей постели не умирают», ‒ убежденно ответила Зина.
Костя выслушал мнение матери вполуха, он не слишком-то считался с ее словами, но постарался реже общаться с Ледогоровым. Впрочем, он и прежде ‒ как и остальные ребята ‒ сторонился этого малосимпатичного пацана.
Гремит звонок, гулко раскатившись по невидимому за дверью коридору, и в класс, быстро стуча каблучками, вбегает круглолицая, похожая на кошку учительница истории…
Бойкая звонкоголосая историчка напористо рассуждает о превосходстве социалистического планового хозяйства Советского Союза над загнивающей капиталистической системой.
Лена ощущает на себе пристальный взгляд Ледогорова.
Вот уже год Ледогоров преследует ее, сует в руку записки с неистовыми признаниями в любви, например: «Я не могу без тебя жить! Ты будешь моей и больше ничьей! Тот, кто завладеет тобой, не проживет и дня». И в каждой записке – стихи, корявые, яростные, кружащие голову.
До весны 1956-го года Ледогоров в упор ее не видел, а в марте как будто остервенился. Во время уроков, на переменках пялится на нее, а после школы неотступной тенью следует за ней и Костей. Просто поразительно, что Костя ничего не замечает.
Чудной этот Ледогоров.
Одиночка. В классе ни с кем не дружит. То ли Печорина корчит из себя, то ли Демона. А сам тусклый, лицо заурядное, как у солдатика. Аккуратный, ботинки всегда начищены до блеска. По виду ‒ типичный отличник, зубрила, а учится, между прочим, средне. Глубоко погруженные в череп глаза тяжелы, неподвижны, точно у сумасшедшего.
Лена о записочках Косте не рассказывает. Еще чего! Недоставало, чтобы Костя и Ледогоров подрались из-за нее! Некоторым девочкам нравится, когда парни из-за них друг дружке лица разбивают. Она, Лена, не такая.
Поздний теплый майский вечер. На улицах еще полно прохожих. Костя от возбуждения кричит, размахивает портфелем.
‒ Пойми, сейчас главное – две вещи: ядерная энергия и космос!
‒ Ты что, сразу двумя заниматься будешь? ‒ смеется Лена.
Ей отлично известно: от смеха она хорошеет.
Костя коротко взглядывает на нее, прижимает ее руку своим локтем.
‒ Лично я стану создавать ракеты. За ними – будущее. И оно наступает, Ленка! Оно совсем рядом! Представляешь, мои ракеты доставят космонавтов на Луну, на Марс, на Сатурн!
‒ На Венеру, ‒ подсказывает Ленка.
‒ Нет, ‒ морщится Костя, ‒ на Венере жуткая жара, она ближе к Солнцу, чем Земля… Пойми, я нисколечко не хвастаюсь. Я не какой-нибудь Манилов. Скоро закончим школу. Поступлю в институт, стану инженером и ‒ клянусь! ‒ обязательно попаду туда, где делают космические корабли! И тогда…
‒ Ах ты, фантазер, ‒ Лена ерошит его волосы. ‒ Я верю в тебя, честное-пречестное слово! Бесконечно верю!..
Целуются в полутьме возле ее дома (мерзкие бабки, обычно сидящие на лавочке, отправились ужинать и спать). Костя нехотя удаляется. Лена входит в подъезд ‒ и от неожиданности обрывается сердце: навстречу по ступенькам спускается Ледогоров, шепчет:
‒ Ты будешь только моей! Моей женой! Соперника я убью! Смирись, не противься судьбе!
И целует ее безвольную левую руку (правой она держит портфель). Лена холодеет, вырывается, мчится наверх, едва соображая, куда и зачем…
На ночь она запирает окно и засыпает с трудом.
Утром она вспомнит вчерашнее происшествие с улыбкой. Щупловатый Ледогоров покажется ей опереточным злодеем, а его романтические фразы – пародией на речи трагических героев из старинных пьес.
А все же страшно.
Нужно потерпеть, совсем чуточку, и Ледогоров навсегда исчезнет из ее жизни.
Только бы дождаться окончания школы!
Костя возвращается в свою квартиру.
Открывает мать. Уставляется на сына бешеными заплывшими глазками.
‒ Опять с Ленкой шатался? У тебя экзамены на носу, оболтус, а ты о чем думаешь? Жениться собрался? Всю душу повынимал, поганец! Знал бы отец!
‒ Он бы меня понял! ‒ в запальчивости кричит Костя.
‒ Он просто выпорол бы тебя, паразит!
Зина срывает с плеча полотенце, намереваясь по привычке огреть сына.
‒ Не позволю меня бить! ‒ кричит Костя. ‒ Лупцевала, когда маленький был, а теперь – не позволю!
‒ Вот оно как! ‒ подбоченивается мать. ‒ Он не позволит! Вырос, дубина стоеросовая, на мое горе. Хорошо, не видит тебя отец, как бы он расстроился. Он смертью храбрых полег на фронте за то, чтобы у тебя была светлая жизнь, чтобы здесь фашистов не было, а ты…
Опускается на сундук, плачет. Зине под сорок. На ней безвкусный халат ‒ синий, усыпанный красными розами.
‒ Ну ладно, мам… Чего ты?… ‒ Костя неловко обнимает сотрясающиеся толстые плечи.
Она продолжает сквозь слезы:
‒ Тебе три с половиной годика было, когда на отца похоронка пришла… В сорок втором… В похоронке так и написали: «Пал смертью храбрых». Вот какой у тебя отец, ты на него равняться должен… Я одна тебя поднимала, на ноги ставила, кормила-поила… Одна… Того и гляди, фашисты нагрянут, а я с тобой на руках… Одна… А ты так матери отплачиваешь!..
По ее пухлым щекам текут слезы.
‒ Мы же почти нищенствовали. Я билась, как рыба об лед, во всем себе отказывала, чтобы ты ни в чем не нуждался. Вон у соседей, Боровиковских, и холодильник, и этот… телевизор. А у нас – шаром покати.
‒ Мамочка, послушай, я после школы поступлю в институт, а по вечерам стану вагоны разгружать. Я здоровый. А всю зарплату ‒ тебе. Обещаю. Мам, ты погляди, какая жизнь начинается! Скоро человечество выйдет в космос!
Мать улыбается сквозь слезы.
‒ Глупыш ты, ‒ она, как недавно Лена, взлохмачивает волосы сына. ‒ И не заметила, как вырос. Про космос говоришь, про ракеты, да так красиво. И уже жениться надумал.
Костя мучительно краснеет.
‒ Еще ничего не известно.
Зина хохочет. Машет рукой.
‒ Ладно уж, кавалер…
‒ Мамочка, ‒ Костя обнимает ее, прижимается к материнской щеке, ‒ ты у меня самая замечательная!..
* * *
26 сентября 1971-го года.
Алексей
Теперь ‒ уже втроем, Алешка, Немая и я ‒ шагаем по усыпанной палыми листьями дорожке, направляясь к отцу.
Вижу его. И с этого момента во мне как будто отключается способность чему-либо удивляться. Я привыкаю к тому, что со мной происходит.
Так должно быть.
Живой и здоровый отец должен сидеть на скамье рядом с черноволосой женщиной, а мы должны подойти к нему и заговорить. Это так естественно.
Подходим.
Отец поднимает голову – и краснеет. Выдавливает хрипло:
‒ Алеша?
‒ Здравствуй, пап, ‒ лепечет Алешка.
‒ Ты что здесь делаешь? ‒ спрашивает отец.
Алешка рдеет и мнется. Отвечаю за него:
‒ Да вот гуляем.
Отец и его спутница ошеломленно уставляются на меня.
‒ Извините, с кем имею честь? ‒ спрашивает отец.
Страшно хочется обнять его, прижаться, закричать: «Папка! Живой! Как же я люблю тебя! Погляди, это же я, твой блудный сын, который старше тебя на восемь лет!»
Но лишь приятно осклабляюсь:
‒ Я – знакомый Алеши. Приехал из Москвы. В командировку.
‒ Вот как? А ведь вы на Алешку похожи.
‒ На этой почве и подружились.
‒ Присоединяйтесь, пожалуйста, ‒ приглашает отец с аристократической вежливостью. ‒ Друг моего сына – мой друг.







