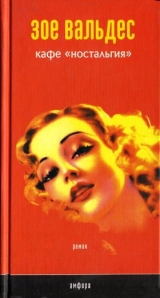
Текст книги "Кафе «Ностальгия»"
Автор книги: Зое Вальдес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Ах ты бесстыжая тварь! Так ты изрезала покрывало, чтобы сделать туфли и продать их! Торгашка!
Она уже замахнулась, чтобы влепить мне пощечину, но сдержалась, увидев, что Эмма сунула ей под нос двести песо, заработанных на других торговых махинациях, например, продаже флаконов с яблочным шампунем, приготовленным из жидкого мыла, которое превращалось алхимической реакцией с перекисью водорода в цветной шампунь, если в него еще добавить пару капель красного асептика или метиленовой сини. На эти деньги моя мать могла бы купить два таких покрывала, и у нее бы еще сдача осталась.
– Как жаль, что такого оттенка красного цвета уже не найти. Какой бесподобный был тот пунцовый цвет! – вздохнула она уже спокойнее.
Рэнди учился танцевать степ, подражая Джину Келли в фильме «Поющий под дождем», [110]110
Популярный фрагмент из фильма (1940, реж. Стенли Донен и Джин Келли), в котором герой Джина Келли танцует чечетку под дождем.
[Закрыть]мы с Эммой все еще дурили народ, занимаясь нормальными (или ненормальными?) торговыми авантюрами. Однажды мы возвращались домой после очередных политических занятий, проводимых у нас в школе. Мы шли по улице Трокадеро в направлении авениды Гальяно. Совсем маленький котенок шмыгнул нам под ноги. Эмма пнула его так, что тот пролетел метра два, но приземлился все-таки на лапы – удивительно, как кошки живучи. Тут же нам стало стыдно: Эмме – за свою жестокость, а мне – за то, что позволила ей это сделать. Впрочем, Эмма ненавидела животных, особенно кошек. Она сказала, что ей осточертело учиться, жить, все время выпрашивая себе на жизнь, что она уже не выносит никого, кроме меня и своего брата.
– Ты никогда не думала уехать отсюда? – вдруг спросила она.
– Нет, я отсюда не уеду никогда, я не смогу жить где-то еще, – ответила я убежденней некуда.
– А что ты знаешь о жизни где-то еще, ведь ты дальше Гуанабакоа никогда не бывала? – спросила она и тут же добавила: – Ты даже не знаешь никого, кто смог бы тебе рассказать о жизни вдали от этого ада.
– Эмма, несмотря на все это, я считаю, что нам нужно жить здесь. Лучше попытаться изменить что-то здесь, чем иметь что-то, нам не принадлежащее. Здесь я знаю: вот это мое солнце, мое небо, мое море. Мои родители живут здесь, друзья. И все это мне дорого. Знаю, что это сентиментально, но я такая, – я выдала эту тираду со всей той верой, на какую только способно человеческое существо.
– И что здесь твоего? Что тебе здесь принадлежит? И что за собственническая мания у каждого живущего на этом острове! Я не хочу, чтобы какая-то страна была моей. Я лишь хочу, чтобы моим было то, что заработано мной в поте лица своего.
Крылья ее носа стали раздуваться, грудь заходила ходуном, руки потянулись к ушам, пытаясь зажать их. Она с трудом выговорила:
– У меня шумит в ушах.
Я знала, что у нее астма, но сейчас налицо были симптомы высокого давления – такое бывало и с моей теткой, сестрой отца, когда у нее начинался приступ, делая ее похожей на пенящуюся в масле котлету. Я отвела ее в ближайшую поликлинику, врач удивился не меньше нашего, обнаружив у пятнадцатилетней девочки давление сто восемьдесят на сто двадцать. Она выпила лекарство, чтобы снизить давление, врач посоветовал тут же обратиться в больницу своего района, ведь ей нужно серьезное лечение.
– Единственно верный способ вылечиться – это убраться отсюда, – процедила Эмма сквозь зубы.
Я изобразила на лице улыбку, притворившись, будто приняла шутку, но я же понимала, что Эмма опять говорит мне о своей навязчивой идее – уехать. Возможно, так она пытается отомстить за своего отца, у которого отняли мастерскую, которого лишили своего дела, подумала я. Нет, Эмма никогда ничего не скрывала. Уехать было единственно возможным выходом. Когда мы вышли из поликлиники, Эмме стало уже лучше, и я успокоилась; нам захотелось присесть на аллее бульвара Прадо, на нашей старой позабытой аллее, на скамейках которой мы когда-то читали Рафаэля Альберти. [111]111
Рафаэль Альберти(1902–1999) – крупнейший испанский поэт XX в.
[Закрыть]
– Представляешь, в прошлом веке здесь гуляли люди, одетые в кружева и белые креольские халаты, с зонтиками, обшитыми стеклярусом и фальшивым жемчугом. С этих скамеек можно было созерцать экипажи, едущие в сторону Кортина-дель-Вальдес, тогда еще парапет Малекон не заслонял моря, – завела я разговор.
– Не знаю, Марсела, где мое место в этом мире. Но только не здесь. Я не хочу видеть этого загнивания. Я верю, что человек станет лучше, и во все остальное, о чем ты говоришь, но здесь отчего-то давно уже пованивает.
Меня прорвало, как канализацию, трещала я без умолку. Нужно смотреть на вещи шире, не все плохо и не все хорошо, следует понимать, упорствовала я. Эмма встала, взяла меня за руку и почти упросила, чтобы я провела ее по моим самым сокровенным местам Старой Гаваны. Хотя она и родилась в Центральной Гаване, ее восхищали дома, во дворах которых сочатся потом отбиваемые на ящиках и блестящих жестянках румба и гуагуанко. [112]112
Гуагуанко– кубинский танец под барабанный ритм.
[Закрыть]Мы прошли перед кинотеатром «Пайрет», пересекли Фабелу, углубились по улице Теньенте Рей в сердце старинной части города. Задержались возле церкви Ангела в парке Кристо. Посмотрели на балкон, опоясывающий угол здания.
– Исмаэль сейчас, должно быть, пишет свои философские стихи, – заметила Эмма.
– Это ты так думаешь. Исмаэль, должно быть, тычется задницей о пластиковую трубку, самозабвенно глядя на фото из порножурнала, обернутого страницей «Бунтующей юности», [113]113
«Бунтующая юность»– «Juventud rebelde» – кубинская ежедневная газета.
[Закрыть]– рассмеялась я.
– Ты думаешь, что Исмаэль педик? Ведь он объяснялся мне в любви, – когда дело касалось любви, наивней Эммы, пожалуй, не было никого.
– Педики специально объясняются в любви, чтобы скрыть свое пристрастие. А Исмаэль» должно быть, и вправду сейчас читает. Это единственное, что ему нравится, и я согласна с ним. Правда, у него кишка тонка, чтобы признаться хоть в этом, – заключила я.
Исмаэль был самым примерным учеником в нашем классе, любившим как математику, так и литературу. Впрочем, предпочтение отдавал последней. Он с ума сходил по Хосе Инхеньеросу [114]114
Хосе Инхеньерос(1877–1925) – аргентинский социолог и психиатр-криминолог, один из блестящих национальных мыслителей своего времени.
[Закрыть]и знал наизусть «Человек ограниченный», которого читал нам, когда хотел показать, как нужно продвигаться к своей цели, никуда не сворачивая и нигде не задерживаясь. Однако больше всего он любил Хосе Марти. [115]115
Хосе Марти(1853–1895) – кубинский поэт и борец за независимость, национальный герой Кубы.
[Закрыть]Было время, когда Исмаэль притворялся отчаянно влюбленным в Эмму, но это длилось недолго, до тех пор, пока он снова не замкнулся на самом себе. То есть до тех пор, пока не стал пропадать в вестибюлях гостиницы «Пласа», известном месте встреч геев. Наше поколение – это поколение женщин без мужчин. Кто бы нам ни понравился, он оказывается парго. Я не говорю это в уничижительном смысле, меня как раз восхищает тот факт, что на нашем жаргоне их называют изысканным морским кушаньем. И это при том, что в гомиках есть что-то особенное, некое нестандартное мышление, непривычная мягкость, оригинальность, остроумие. У нас, женщин, две возможности. Или мы живем с ними, даже не прикасаясь друг к другу, и тогда в нашей жизни поддерживается лишь внешнее благообразие: каждый сам по себе, никаких чувств, а вопрос, с кем заниматься любовью, так и остается подвешенным в воздухе. Или же мы любим женщин и, когда захотим детей, находим себе донора спермы. Случаются в качестве исключения (а как раз должно быть наоборот) и обычные браки, но они составляют жалкий процент, который чем дальше, тем меньше и меньше, потому что мы, женщины, становимся требовательнее. Это те самые исключения, которые подтверждают правило анормальности. На Том Острове поставлен рекорд по разводам.
– У Исмаэля здесь тоже нет будущего, – сказала Эмма.
– Как я погляжу, по-твоему, здесь ни у кого нет будущего, – я понемногу стала раздражаться, потому что у меня в голове не укладывалось, как это можно все отвергать. Но сколько же мне пришлось вынести после! Вспомнить хотя бы мою сестру Ильду, с которой меня разлучили, сколько злобы мы держали друг на друга по вине этой разлуки, сколько ругани было по поводу того, кому больше досталось родительской заботы; это все сильно ранило мне душу.
– Давай сменим тему. Пойдем посмотрим, что осталось от города, который мы так любим. Покажи мне его, ты же здесь пацанкой бегала в компании мальчишек, – сказала Эмма и улыбнулась, и улыбку эту я никогда не забуду. Кто бы сказал тогда, что первой уеду отсюда именно я. Ведь как ни билась Эмма, чтобы навсегда уехать из страны, она не смогла этого сделать даже через пять лет после того, как самолет, в котором сидела я, взмыл в воздух. Прощание в аквариуме аэропорта было жестким но внутренне мы понимали, что вновь встретимся, только под другим небом, конечно же, менее жарким.
Но тогда она просила меня провести ее по древним черепкам, и я согласилась, потому что гордилась моими развалинами, ни одному историку не известна такая коллекция камней и разбитых плит. Я провела ее по всей Теньенте Рей до парка Гавана, мы шли мимо аптеки «Сарра», одной из трех старейших, потому что другие – «Джонсон» и «Такечель», – а точнее то, что от них осталось, находятся на улице Обиспо. Потом я показала Эмме типографию, возле которой я играла ребенком, начальную школу, в которой училась, дом 67 по улице Муралья, где я со своим другом нашла труп ребенка, гостиницу «Куэто», жемчужину гаванского арт-нуво; мы прошли по улице Инквизитор, которая уходит на другую сторону бухты к Элевадос. Когда мы переходили через перекресток улиц Инквизитор и Санта-Клара, я рассказала об одной моей подружке, мулатке Тамаре, которая подражала Саре Монтьель, [116]116
Сара Монтьель(р. 1929) – испанская киноактриса.
[Закрыть]самым большим ее желанием было превратиться на один вечер в кинозвезду и выйти замуж за Тони Кёртиса. [117]117
Тони Кёртис(р. 1925) – американский киноактер.
[Закрыть]Я ничегошеньки не понимала в ее причудах, но она была моей подругой и потому мне приходилось выслушивать весь репертуар «Кармен родом из Ронды», [118]118
«Кармен родом из Ронды»– фильм с участием Сары Монтьель. Ронда– город в Испании.
[Закрыть]наши шутники прозвали ее Кармен родом из морды. Мы дошли до развалин особняка, где жил барон Александр Гумбольдт, [119]119
Александр Гумбольдт(1769–1859) – немецкий путешественник, посетивший Кубу в начале XIX в. и оставивший ее описание.
[Закрыть]вернулись назад на Инквизитор, дошли до колоннад, свернули в сторону улицы Сан-Игнасио. Дома моего детства, заваленные кучами мусора, разрушались, их подпирали столбами, обносили проволокой, но в конце концов они рассыпались от сырости и ненависти. Мы свернули направо, на улицу Акоста, прошли по улице Куба до старинной Пласиты, перед церковью Святого Духа. Миновали церковь; я показала Эмме место на улице Куба между улицами Иисус-Мария и Мерсед, куда меня относили родители, чтобы вколоть мне дозу пенициллина, когда я подхватывала тонзиллит. Присели на крыльцо дома, где жила моя тетка, напротив фасада другого храма, Мерсед. Мы присели, чтобы дать отдохнуть ногам, ведь прошли мы немало; пыль, сопровождавшая нашу необычайно печальную прогулку по старому городу, забила мне глотку, в носу образовался целый комок. Вдруг я увидела себя совсем маленькой, на крещении двоюродной сестры Аселы, мне было два с половиной года, должно быть, это первый момент в моей жизни, который я отчетливо помню.
Боксерский ринг оказался закрытым. Как-то, когда я еще и в школу не ходила, моему дядюшке Элисео пришла в голову замечательная мысль: он напялил на меня свою дырявую дальше некуда футболку фирмы «Така», военные бермуды, срезал мне ножом волосы, оставив только клок спереди, точно как у уличных хулиганов, вытащил из ушей серьги, обмотал мне руки и ступни бинтами, которые стащил у жены из аптечки, и выставил меня, словно бойцового петуха, на ринг. Он предупредил, чтобы я защищала грудь и лицо, добавив, что мое превосходство в том, что в отличие от мальчишек мне не нужно защищать пах. Все вечера я, переодетая в парня, дралась на ринге голыми руками с мальчишками из нашего квартала. Я выступала под псевдонимом Марсель, и тренер нисколько не сомневался в том, что я парень, но однажды меня нокаутировали. Тренер потащил меня в душ, чтобы ополоснуть холодной водой. Каково же было его удивление, когда он раздел меня и вместо отростка обнаружил щель – его просто затрясло с перепугу. Дядя мой смутился, однако признался, что мечтал о парне, а жена родила ему девочку, вот он и решил, что в нашей семье боксером стану я. Эмма чуть не умерла со смеху. В то время смех доставлял нам просто удивительное наслаждение. Мы прошли по улице Паула до железнодорожного вокзала, добрались до дома, где родился Хосе Марти. Поглядели на увеличенные каракули его почерка, выставленные для обозрения посетителей; это единственная достопримечательность, связанная с Апостолом кубинской революции, которую охраняют с безмерной гордостью. Как бы то ни было, это место хранит тайну, и – не скрою – сюда мы захаживали нередко.
Вечером мы – я, Эмма и Рэнди – уселись на парапет Малекона, чтобы слопать манговые дольки. Мы купили их у старухи кошатницы, абсолютно беззащитной нищенки, которая занималась прикормом бездомной кошачьей братии Центральной Гаваны. Она таскала с собой две большие, полные объедков, корзины, а за ней плелись вонючие, чесоточные кошки. Рэнди взял с нас обещание, что, где бы мы ни оказались в будущем, мы не перестанем общаться друг с другом. Упрямая в свои тринадцать лет, я заявила, что никуда не уеду отсюда, хоть зовите меня в Эльдорадо.
– Что это? – спросил Рэнди.
– Ты разве не изучал в школе географию и историю Латинской Америки? – спросила я в ответ, вытаскивая застрявшее между зубов волоконце манго.
– Изучал, но это все скучно и быстро забывается.
– Значит, если однажды я смоюсь куда-нибудь в Сальвадор или Боливию, то ты, черт возьми, и представления не будешь иметь, где меня найти, – ответила я с иронией.
– По твоему вкусу, – отшутился он, цитируя слова болеро и обсасывая гладкое семечко манго. – Ты должна быть вкуса манго.
– Вкус не оставляет следа, мой милый, – возразила Эмма. – Каков стол, таков и стул.
– Ладно уж, какая сегодня остроумная ту sister! [120]120
Моя сестра (англ.).
[Закрыть]
В этот момент к нам подошел какой-то человек с «полароидом» в руках, делавший снимки за пять песо. Мы попросили, чтобы он сфотографировал нас, сидящих на парапете Малекона, всего три снимка, каждому по штуке, чтобы не забыть, что когда-то мы были молодыми и красивыми. Столько радости в наших лицах, а впереди – долгая разлука. Смех сквозь слезы. Эмма одета в белое: юбка-солнце и блузка с вышивкой, в тот день я одолжила ей взятую у матери плетеную сумочку. На Рэнди темно-синие, точно пригнанные джинсы, чешки, бывшие последним отголоском ввозимого капитализма, светло-коричневый пуловер с короткими рукавами. На мне юбка такого же, как у Эммы, покроя, только из нейлона и в цветную полоску – белую и зеленую; льняная блузка, хотя выцветшая, но все-таки красная, с кружевами на рукавах и на вороте – подарок одной мадридской архитекторши, которая купила ее в «Английском Дворе», она подарила ее мне во время своей поездки по Кубе, когда в бесплодных поисках фамильных корней пересекала страну с востока на запад; дед ее был архитектором; построить Астурийский центр – его идея. На том фото позади нас – Эммы, Рэнди и меня – плещется сверкающее море, а в бухту входит советский нефтяной танкер.
Несмотря на моральную поддержку Эммы и Рэнди, я не смогла полностью забыть своего любовного увлечения, обратившегося в пепел. Поначалу меня вдруг неожиданно охватывал страх, но потом время сгладило и притупило полузабытые ощущения. Не отрицаю, что приняла эту историю как знак судьбы, ей я обязана своей непреходящей меланхолией. Но порой моя грусть переходит в беспросветную депрессию. Хуже всего, когда я заново начинаю переживать тот случай, снова проваливаюсь в тот дьявольский кошмар, надолго отвадивший меня от любовных увлечений. Даже роман с Самуэлем не сложился как надо, хотя здесь-то уж вроде не могло быть никакого возвращения назад. Да и с чего это я взяла, что его присутствие сможет победить прошлое, все еще терзающее меня? Если вдруг я вновь вспоминаю ту любовь, у меня целый день ужасно стучит в висках. А вот еще сон, менее мучительный: отец и сын, играющие в бейсбол в залитом солнцем парке Влюбленных, который раньше называли парком Философов; я вычитала это в книге рассказов Кальверта Кейси, [121]121
Кальверт Кейси(1924–1969) – кубинский писатель, известный своей нетрадиционной сексуальной ориентацией.
[Закрыть]там даже упоминаются греческие статуи; а сейчас я вспоминаю статую Лус-и-Кабальеро [122]122
Лус-и-Кабальеро– Хосе Сиприано де ла Лус-и-Кабальеро (1800–1862) – кубинский мыслитель, педагог.
[Закрыть]с его гривой на средневековый лад и вздернутым носом, а также бюсты Феликса Варелы [123]123
Феликс Варела(1788–1853) – кубинский писатель, философ, публицист.
[Закрыть]и Хосе Антонио Сако, [124]124
Хосе Антонио Сако(1797–1879) – писатель-историк, автор известной книги «История рабства».
[Закрыть]и я шуршу, опустив руки, покрывалом из опавших, затоптанных и уже подгнивающих листьев. И бродит счастливый ребенок, он все время повернут ко мне спиной. Хочу видеть его лицо! Как мне хочется провести языком по его щеке, мне необходимо знать, какой он на вкус! Хотя, быть может, когда-нибудь мне удастся это узнать.
Глава третья
Слух, забвение
Сновидения – это то, что мы забываем? Реальное, исключительно наше, пространство свободы? Забвение и свобода – к чему им друг другу противоречить, они могут и дополнять друг друга. Забвение освобождает нас от ночных кошмаров? Разве забвение освобождает? Не уверена, хотя лишь в снах, не думая об этом, я могу коснуться запретного. Если слова не записывать, то их унесет ветром. Интересно, какой-нибудь индеец Амазонки или дикий африканец также будет видеть сны и забывать их, как гаванец или парижанин? Сомневаюсь. В своих сновидениях я слышу то, что вычеркнуто из моей памяти.
Перестань быть такой доверчивой, Марсела, займись-ка лучше собой. А на сегодняшний день это значит: выскочить на улицу, услышать голоса приезжих и горожан, погреться на солнце – ведь сегодня оно наконец появится, – поболтаться без всякой определенной цели с «кэноном» на шее, увековечить какую-нибудь неожиданную сцену. Например, новых хиппи с проколотыми ушами, носами, губами, языками, пупками и, подозреваю, даже гениталиями, обремененных бутылками, где-нибудь на входе станции «Сен-Поль», – я видела как-то таких, но у меня не было с собой камеры. У Шарлин не хватило доводов, чтобы отговорить меня от переезда во французский дом старогаванского стиля на улице Ботрельи в квартале Маре. Она предсказала, что в моей жизни произойдет нечто из ряда вон – даже хуже того, что уже случилось! Она была уверена, что этот район полон голосов, запахов и всяких прочих странностей, к которым, несомненно, относятся и бродящие по частной гостинице, в которой я поселилась, всевозможные призраки: как древние, века шестнадцатого, так и совсем свежие. И это правда, в доме напротив когда-то отправился на небеса певец Джим Моррисон, [125]125
Джим Моррисон(1941–1971) – американский рок-певец, лидер группы «The Doors», символ бунтующего поколения 60-х гг.
[Закрыть]оттого что вогнал себе в вену слишком большую дозу; меня ласкает его дыхание, легкое и пьянящее, и порой, когда я иду по тротуару, оно обволакивает меня, окружая неким странным амфетаминным ореолом, проскальзывает ко мне в горло, принося вкус пачули, а голос певца нежно нашептывает мне в ухо одну из своих песен. Однако этот призрак и есть самый соблазнительный в квартале, он до сих пор сохраняет свое очарование, потому что днем здесь постоянно бродят такие же, как он, нереальные персонажи – привидения его песен, на самом деле знаменитые или бесславные, насмешливые призраки, и он отказывается уходить со своей музыкой куда-нибудь в другое место.
Я сменила квартал после своей скоротечной поездки в Гавану. Едва ли я могу касаться этой темы без того, чтобы у меня не начался спазм в гипофизе. Я уже решила бросить работу фотографа, но один французский коммерсант упросил меня поехать вместе с ним, поскольку ему нужны были наглядные результаты его поездки. А мне нужны были деньги. Я поклялась, что никогда больше не вернусь, но чего отрицать, определенного рода зависть овладела мной. Хотя я и не ждала чего-то особенного от этой поездки. Боялась столкнуться с живыми трупами. Мне следовало оплатить визу на въезд в мою собственную страну. Я бросила в чемодан четыре смены белья, чистые пленки и фотопринадлежности. Самолет приземлился в гаванском аэропорту рано утром с привычным для «Кубинской авиации» опозданием; старая шутка: «Какая компания самая религиозная в мире? – "Кубинская авиация" – летает как Бог на душу положит». Я провела два часа в таможне, ожидая, когда досмотрят багаж. Шум, крики да еще нервозность – хоть уши затыкай, коммерсант попросил меня не привлекать к себе особого внимания: он не хотел, чтобы всем стало известно, что я кубинка, на что я иронично улыбнулась: даже сам Папа Монтеро [126]126
Папа Монтеро– культовый герой Гаваны довоенного времени, пьяница и исполнитель песен в злачных заведениях, герой одного из стихотворений Николаса Гильена.
[Закрыть]сейчас не догадался бы об этом.
Выйдя из этого ничейного пространства, перейдя эту ужасную для психики границу, я ступила на размягченную мостовую и вдохнула полной грудью аромат моей земли. Боже, я почувствовала запах детства, моих друзей! У меня было немного времени, нас тут же посадили в ведомственный автобус и отвезли в гостиницу такого же ранга. Я провела четыре дня в автобусе с тонированными стеклами, разъезжая по министерствам с одной встречи на другую, с объективом у глаз, который отделял от меня реальный мир. В последний вечер я смогла выбраться на Малекон, оттуда укатила на такси в Санта-Крус-дель-Норте, а на обратном пути прошлась пешком по опустевшей и разрушающейся Старой Гаване. Я поплакала возле своего дома, потом поехала туда, где мы гуляли с друзьями. Попросила таксиста притормозить возле тюрьмы «Ла-Кабанья», где досиживал свой срок Монги.
Я вернулась и не вернулась, так как не смогла бы толком ничего рассказать, потому что не увидела ничего, кроме нищеты, лишений и душевной боли. Несмотря на то что кое-где в старинных патио народ танцевал под барабан бата и девушки, промышлявшие на Малеконе, выглядели здоровыми и жизнерадостными, вялость сквозила повсюду. Но где-то рядом текла настоящая жизнь, и этому городу нужно было стараться жить без уныния, хотя бы внешнего. На следующее утро я улетала.
На таможне у меня изъяли пачку отпечатанных фотографий под тем предлогом, что на них зафиксированы стратегически важные объекты. Французский коммерсант брызгал слюной, он был на грани нервного припадка, ведь ему не удалось добиться своей цели – купить жене пляж, чтобы понастроить на нем разных отелей. Он прошел через таможню, изрытая налево и направо проклятия – как нас только не арестовали?! В принципе, я была довольна: черт тебя дери, жополиз проклятый, ты и теперь будешь говорить во Франции, что Этот Остров – просто чудо! Я поднялась на борт самолета с ощущением, что меня здесь и не было, с угрызениями совести от того, что приехала сюда почти как сообщник, с тоской, разъедающей душу. Больше ни ногой. Никому не скажу, что возвращалась, подумала я. Никогда себе этого не прощу. Вот таким вот штришком, прямо скажем дерьмовеньким, я завершила свою эпопею с фоторепортерством и ура-патриотическим затмением.
Спустя несколько месяцев мне предложили должность визажиста на телевидении, я без колебания согласилась, закончив перед этим наискучнейшие курсы, в результате которых в совершенстве овладела данным ремеслом; у меня теперь днем полно свободного времени, потому что основная часть передач записывается и транслируется по вечерам. Таким образом, я могу поздно ложиться и спать по утрам, а мой квартал так и живет, бодрствуя по ночам, и мне это нравится. Чем дальше, тем спокойнее я отношусь к удовольствиям; я тщательно отбираю их, предпочитая те, которые не доставят мне никаких душевных мук. Хотя, как бы я ни старалась избежать соблазнов, все равно мне перепадают разные сомнительные наслаждения; в конце концов, страданий в жизни мне хватало, и чего там отрицать, я уже говорила прежде: когда мне плохо, тогда как раз и укрепляется мой дух, увеличивается во мне созидательная энергия. Недавно я гримировала одного политика. После того как я облагообразила его лысину, то есть промокнула жир, которым сочились приклеенные к черепу четыре волосинки, и припудрила голову бежевой пудрой, я нанесла на кожу лица слой крема-основы «Ланком»; а дальше мне нужно было подвести брови коричневой тенью, подчеркнуть благородство взгляда, сгладить невероятно большой лоб и безразмерную лысину, а еще выделить глаза, ведь они такие у него маленькие, совсем как у крысы, пройтись по ресницам тушью «Мэйбеллин»; я истратила целый флакон крема-основы, только чтобы замазать неровности лица, рукой художника обвела кистью «Шанель» его тощие сморщенные губы, чтобы потом розовым тоном «Ив Сен-Лоран» создать впечатление, что рот у него, как у юноши, красивый и здоровый. Наложив последние штрихи, я подумала, что передо мной сидит марионетка, достойная кукольного театра. Невероятно, как он беспокоился о малейших нюансах, зависящих от чудес светотехники: а будет ли свет сочетаться с таким колором губной помады, а не будут ли зубы слишком пятнистыми или желтоватыми от того, что его щеки и подбородок такого розового оттенка – и он настойчиво просил, чтобы я подкрасила ему зубы жемчужно-белым и чтобы ни на шаг не отходила, пока он будет перед камерой, чтобы вовремя промокнуть ему жир на носу, ведь от этих прожекторов из кожи сразу же выделяется холестерин. Я пришла к выводу, что если бы этот политик разбирался в политике так же, как в косметике, то, возможно, жизнь стала бы лучше. Ни один политик, который беспокоится о том, чтобы выглядеть как Кен (жених Барби), больше чем о связности своей речи, не избавит планету от охватывающей ее ненависти.
Я размышляю, направляя свои шаги на улицу Сент-Антуан, эта улица – моя лестница на небо; можно сказать, что, начиная с нее, для меня все дороги ведут в вечность. От Сент-Антуан прямиком в облака. Когда я иду по ней, меня окружают ароматы самых изысканных приправ и захватывают самые чудные мелодии. Вот потому-то я и могу бродить туда-сюда по ее тротуарам, и не перестаю воображать, что схожу на берег в бухте Гаваны или Матансаса. [127]127
Матансас– провинция и город на Западе Кубы.
[Закрыть]Стоит только мне вспомнить соленый вкус моих волос, как язык сам собой высовывается изо рта, а в ушах пищат автомобильные клаксоны и гудят сирены торговых кораблей.
На углу улиц Ботрельи и Сент-Антуан банкомат банка «Креди-дю-Нор» выдает мне триста франков, в киоске напротив я покупаю газету. На первой полосе – статья о Том Острове, я сразу же переворачиваю страницу, чтобы чего доброго не испортить себе день очередным дурацким рассказом. Ведь такое ощущение, что каждый раз ты читаешь одну и ту же статью: красота природы, тропический климат, музыкальность, девушки на выбор, здравоохранение и образование гарантируются, низкий процент бедных, эмбарго, никаких диссидентов, а если и есть, то они сами виноваты, слишком привередливы. Короче, наш каждодневный идиотизм. Сдается, что эти журналисты ездят на деньги газеты туда, чтобы только оторваться в полный рост, а потом старательно переписывают чужие статьи, в свою очередь тоже содранные, и вся эта стряпня ничем не отличается от того, чем кормят в школе детей, и не имеет ничего общего с действительностью.
Я не собираюсь вычеркивать Самуэля из списка моих предпочтений, мне не удается забыть, что было между нами; меня пробирает дрожь, от копчика до кончика языка. Чего я только не делала, чтобы заглушить тембр его голоса, не слышать его успокаивающих слов, но мне не удается выкинуть его из головы, напрочь выдавить из подкорки. Хотя не стану отрицать, что его отъезд стал бальзамом, в то время как его присутствие было больше похоже по действию на обезболивающий укол, который дантист делает в нёбо, – зуд онемения. Я не хочу, чтобы меня терзали угрызения совести. Пусть будет так, даже хорошо, что он уехал в Нью-Йорк, я рада, что он нашел работу у мистера Салливана, который займется им, как если бы это была я, его ненастоящая дочь. Самуэль будет чувствовать себя свободнее, работая над тем, что его увлекает, он будет снимать то, что захочет, точнее то, чего потребует момент, но вряд ли он на этом остановится – таланта ему не занимать. Он снимет кино (возможно, и не то, которое захочет), когда наконец переберется в Лос-Анджелес, в эту киномекку. И чего это я структурирую его жизнь, мне бы привести в равновесие свою собственную вселенную. Он не виноват, а если и отомстил мне чем-то, то сделал это неосознанно. Так бывает, и он воспользовался случаем deus ex machina, [128]128
Букв,«бог из машины» (лат.), здесь– счастливая развязка.
[Закрыть]чтобы изменить направление судеб. Ах, Марсела, притворись, что ты можешь одним махом покончить со случившимся, плюнь на все и наслаждайся жизнью; пусть тебе одиноко, но ты броди по улицам другого города, который так далеко от города твоего детства, гляди, кругом идут люди, у них полно проблем, посмотри, как они прекрасны, несмотря на свои заботы; ты должна уметь вспоминать и не делать при этом себе больно. Вечеринки, ах, эти юношеские встречи! Но всякое воспоминание, всякое напряжение памяти связано с Самуэлем. Ах, Самуэль, мой последний выстрел! Во всяком случае, кровь не полилась потоком, лишь капля красного вина упала в канализацию.
Глядя в сторону улицы Сен-Поль, я, словно театральный режиссер, созерцаю мизансцены: парижане, туристы и поселившиеся здесь иностранцы в первый день весны наслаждаются своей nonchalance (своей леностью – слово, которое я обожаю во французском) в кафе на свежем воздухе. Я знаю, что дышу так же, как и они, я еще одна, кто смакует этот воздух и вслушивается в гудение и шум улицы. Большинство из них сменили кир [129]129
Кир– алкогольный напиток.
[Закрыть]на пиво, женщины выставили обнаженные ноги, слишком бледные, но что поделать. Я замедляю шаг возле обувного магазина «Жиро», в котором продается поношенная или вышедшая из моды, но еще в отличном состоянии обувь; мне хочется взглянуть, что там продается по дешевке, и тут я слышу родной грубый акцент:
– Ты только погляди на эти туфли, это как раз то, что можно послать моей маме, – девушка вертит в руках пару итальянских туфель с каблуками-шпильками, ища, к чему бы придраться, спрашивает цену, а продавщица ограничивается лишь поворотом ценника. – Пятьдесят франков? Ого, нет, мать моя женщина, это перебор, возьму за тридцать, да их не купит даже твоя прапрабабушка, если воскреснет и припрется сюда босиком с кладбища «Пер-Лашез».
Это Анисия, кузина Веры, подруги первых месяцев моего пребывания в Париже. Она журналистка и приверженец буддизма. Анисия живет в Париже всего пять лет, а ведет себя так, как будто родилась здесь, вернее, как будто никуда не уезжала из Сите, с такой же развязностью, граничащей с издевкой. Она белая с черными волосами, правда, обесцвеченными сейчас «Л'Ореалем», а раньше она это делала перекисью. У нее изогнутые дугой, как у Марлен Дитрих, брови, полные шелушащиеся губы, это оттого, что она пользуется стойкой губной помадой, которая не очень-то полезна для кожи. На шее кокетливо сверкает родинка, и тело у нее ничего, ведь она грудастенькая, но, правда, коротконогая. Продавщица-француженка с явной неохотой обслуживает ее, не понимая ни слова из ее болтовни, хоть та и размахивает руками, тряся перед носом парой туфель из крокодиловой кожи. Едва Анисия расплачивается за покупку, как замечает, что я наблюдаю за ней, такой суматошной, крикливой и скуповатой.
– О, ты здесь? Ну конечно, вспоминаю, ты живешь где-то рядом. Тебя совсем не видно. Как ты? Почему-то больше к нам ни ногой. Мы чем-то тебя обидели?








