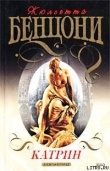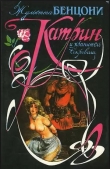Текст книги "Любовь, только любовь"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Взгляд Катрин упал на приближающиеся толстые стены монастыря Селестины, отделенного узким каналом от песчаного острова, называемого Волчьим. Это была внешняя граница Парижа, отмеченная приземистым корпусом башни Барбо. Сырая и зловещая под своей остроконечной крышей, она была построена в давние времена Филиппом II Августом. На другом берегу реки стояла Бастилия. По ночам прикрепленная к их стенам огромная цепь протягивалась через Сену… Но солнечный июньский день и зелень деревьев лишали эту картину воинственной суровости. Даже камни казались ласковыми и теплыми. Барнаби начал тихонечко декламировать:
Увенчанный король всех городов,
Благой родник Учености и Веры,
Стоит на берегах отлогих Сены
Средь виноградников, рощ, пастбищ и садов.
Нет в прочих городах земных даров
Таких; его сокровища бесценны;
Восхищены им гости неизменно,
В него стекаясь из чужих краев.
По пышности, веселью, красоте
Ему нет равных; ни одна столица
В соперники Парижу не годится…
Из поэмы Эсташа Дешана (1346 – 1406). Перевод всех стихов в романе Н. Н. Васильевой.
– Как красиво! – сонно пробормотала Катрин, положив головку на плечо Барнаби. Матросы позади них в такт стихов ритмично отталкивались шестами. Оставалось только подчиниться судьбе и плыть навстречу новой жизни, оставив позади старые воспоминания и огорчения. Единственное, что Катрин хотела взять с собой из прежнего, – это образ Мишеля де Монсальви, навсегда запечатленный в ее сердце, образ, который никогда не сотрет время.
Зеленые берега Сены проплывали мимо них. Катрин чувствовала, что засыпает.
Часть первая. ДОРОГА ИЗ ФЛАНДРИИ (1422 г.)
Глава третья. ПРОЦЕССИЯ ДРАГОЦЕННОЙ КРОВИ
Гостиница «Цветущая шелковица» была одной из самых популярных и оживленных в Брюгге. Она стояла на Воллестраат, или Шерстяной улице, между Великим дворцом и набережной Четок и обслуживала главным образом торговцев сукном и шерстью, да и других купцов из многих стран. О ее процветании можно было безошибочно судить по высокому фронтону с лепкой и амбразурами, по блеску окон из чечевицеобразных стекол в свинцовых переплетах, по дразнящим ароматам, просачивающимся из необъятной кухни, блиставшей медью, оловом, керамикой, по чистеньким платьям и крылатым чепчикам прислуги и, помимо всего, по округлому брюшку счастливого владельца, мэтра Гаспара Корнелиуса.
Роскошь «Цветущей шелковицы» была знакома Катрин еще со времени ее прежних поездок. Сейчас же ее внимание было сосредоточено на уличной суматохе внизу. Весь город красовался там с раннего утра в своих лучших воскресных нарядах. Полуодетая, с беспорядочно струящимися по спине волосами, девушка высунулась в окно, держа в руке гребень и оставаясь глухой к упрекам дядюшки Матье, с самого рассвета ворчавшего себе под нос в соседней комнате. Суконщик, закончив свои дела в городе, собирался отправиться на заре в Дижон, но Катрин после долгих споров убедила его остаться до вечера и принять участие в знаменитой процессии Драгоценной крови. Это был самый главный из городских праздников.
Для нее не представило большого труда убедить дядюшку Матье. Он долго ворчал, утверждая, что праздничные дни существуют лишь для того, чтобы заставить добрых людей разбрасывать пригоршнями свое с трудом заработанное золото, напоминал ей, что у него в Бургундии имеются не терпящие отлагательств дела, и, наконец, позволил себя уговорить, как, впрочем, поступал и всегда, не находя возможным отказать ни в чем своей очаровательной племяннице. Добряк галантно признал поражение, сделав прелестной покорительнице подарок в виде изысканного головного убора из белого кружева, к которому добавил несколько золотых булавок, чтобы его пришпиливать.
Устав кричать через стену и бранить, высунувшись в окно, своих работников, грузивших на мулов его последние покупки, Матье Готрэн зашел в комнату своей племянницы. Обнаружив ее полуодетой и к тому же торчащей в окне, он не выдержал:
– Как? Еще не одета? Процессия вот-вот выйдет из базилики, а ты даже голову не привела в порядок!
Катрин, обернулась к дядюшке. Увидев, как он стоит в дверях, широко расставив ноги, скрестив руки, в шапке набекрень, с выражением негодования на красном толстом лице, она подбежала, обвила его шею руками и стала покрывать щеки частыми поцелуями – процедура, которую дядя Матье обожал, хоть скорее согласился бы лишиться руки, чем признаться в этом.
– Одна минута, и я буду готова. Все кругом так чудесно в это утро!
– Ха! Можно подумать, что ты раньше никогда не видела шествия.
– Такого шествия я еще никогда не видела. И я никогда раньше не видела столько красивых нарядов. Нет ни одной женщины, которая не была бы одета в бархат, атлас и парчу. У них у всех кружевные чепцы, и драгоценности даже у тех, что торговали вчера рыбой на Водном рынке.
Говоря это, Катрин спешно заканчивала одеваться. Она натянула платье из голубой тафты, разрезанное спереди так, что видна была белая юбка в узкую серебряную полоску из того же материала, что и лиф, закрывающий ее грудь. Затем она второпях заплела и заколола волосы, а потом прикрепила к ним серповидный кружевной чепец, один конец которого спускался ниже подбородка, подчеркивая овальную форму ее личика. Она повернулась к дядюшке:
– Как я выгляжу?
Спрашивать было ни к чему. В выразительном взгляде дяди Матье ее красота отражалась, как в зеркале. Пророчество Сары, воистину, сбылось. В двадцать один год девушка была таким обворожительным существом, какое только можно себе представить. Ее огромные переменчивого цвета глаза озаряли лицо: бесследно исчезли веснушки на чудесной бархатистой коже, розовой с золотистым отливом, напоминавшей лепестки чайной розы. Ее длинные золотистые волосы по – прежнему вызывали всеобщее восхищение. Катрин не была очень высокой, но имела безукоризненную фигуру. Ее пропорции, изящество и плавная округлость линий, одновременно зрелых и утонченных, заставили бы взяться за кисть самого взыскательного художника. Но к великому разочарованию Матье Готрэна, его сестры Жакетт и всех остальных членов семьи, Катрин, с шестнадцатилетнего возраста осаждаемая целой армией поклонников, все еще упорно отказывалась выходить замуж. Ее власть над мужчинами, казалось, забавляла, даже слегка раздражала ее.
– Ты – воплощение весны и молодости, – искренне сказал Матье. – И мне жаль, что ни один достойный молодой человек не может мечтать о дне, когда все это будет принадлежать ему…
– Я не знаю только, что я выиграю от этой сделки. Когда женщина выходит замуж, ее красота увядает и теряет свой блеск.
Матье воздел руки вверх.
– Что за разговоры! Но, дитя мое…
– Дядюшка, – нежно перебила Катрин, – мы опоздаем. Они вышли из комнаты вместе. На внутреннем дворе гостиницы, где, трепеща крыльями чепцов, носились взад-вперед нагруженные посудой и битой птицей служанки, Матье дал кое-какие последние указания своим людям. Он наказал им не сводить глаз с его поклажи, ни за что не отлучаться за выпивкой в какую-либо таверну и пригрозил им самыми жестокими карами за неповиновение. Затем, напутствуемые низким почтительным поклоном мэтра Корнелиуса, дядюшка с племянницей заспешили на улицу.
Самая большая толпа собралась на Плас дю Бур перед базиликой Драгоценной крови. Ближе к рыночной площади Матье с племянницей стало трудно пробираться через толпу. Не обращая внимания на восторженный ропот, вызванный ее красотой, Катрин шла, подняв голову и вытянув шею, чтобы видеть все происходящее.
Окружавшие площадь расписанные и разукрашенные, как картинки в молитвеннике, высокие дома были почти не видны под каскадами шелков и дорогих гобеленов, тканных золотом и серебряными нитями; все это, извлеченное из темных кладовых, сверкало и светилось на солнечной улице. Гирлянды цветов висели фестонами между домами, и на всем пути процессии неровная булыжная мостовая была покрыта толстым ковром из свежей травы, красных роз и белых фиалок. Перед домами на огромных дрессуарах, драпированных разноцветной парчой и бархатом, были выставлены фамильные сокровища. Охраняемые мускулистыми слугами кубки и вазы, золотые и серебряные тарелки, богато украшенные чеканкой, эмалью и драгоценными камнями, свидетельствовали о благосостоянии семейства и вызывали восхищение прохожих.
Как Катрин ни старалась, ей не удалось даже мельком взглянуть на старинную римскую базилику, где хранилась прославленная реликвия. Множество знамен из расшитого шелка, подобных языкам пламени, многоцветные вымпелы, трепетавшие на копьях фламандской знати, – все это выглядело как цветущий луг, колышущийся на ветру, но скрывало церковь из виду. Из широко открытых церковных дверей вырывались мощные потоки музыки – псалмы, распеваемые лужеными фламандскими глотками под громоподобные звуки органа. Катрин пришлось смириться с этим.
После героических усилий дядюшке с племянницей удалось найти себе место на углу рыночной площади. Этот угол был обращен к герцогскому дворцу, и с него открывался широкий вид на безбрежную рыночную площадь и на главную площадь города. Две женщины, слишком энергично разбиравшие какую-то старую обиду, вызванную одолженным и не возвращенным чепчиком, были насильно разведены в стороны лучниками. Этой образовавшейся в толпе пустотой Матье не преминул тут же воспользоваться. В результате он добрался до выступа на рыночной площади, позволившего им, когда придет время, подняться чуть выше моря голов и увидеть проносимую мимо Драгоценную кровь. Стоявший рядом долговязый детина с вытянутой меланхолической физиономией, одетый в шафрановый бархат, с готовностью подвинулся, чтобы дать место красивой девушке. Он даже скривил губы в нечто, что при желании можно было принять за улыбку.
Его одежда, отороченная соболями и слегка отделанная серебряным шитьем, была по-своему элегантна, но издавала неприятный запах пота, и Катрин ощутила необходимость немного отодвинуться от любезного горожанина. Матье не был настолько привередлив, и вскоре завязался оживленный разговор. Выяснилось, что молодой человек был торговцем мехами и приехал из Гента, чтобы закупить русские и болгарские меха в фактории немцев-ганзейцев. Его речь, однако, была бессвязна: казалось, что присутствие красивой девушки его сильно отвлекает. Он все время глазел на нее. Катрин нашла этот взгляд неприятным и решила не обращать внимания на соседа.
В пестрой толпе на рыночной площади было на что посмотреть. Представители всех семнадцати народов, имевших торговые дома, перемешались в этом великом городе. Русские в засаленных кафтанах, отороченных бесценными мехами, соприкасались с византийцами в одеждах, которые топорщились от обилия золотого шитья. Богато, но сдержанно одетые англичане стояли плечо к плечу с венецианскими и флорентийскими купцами в симмарах из бархата и переливчатой парчи, бьющая в глаза роскошь которых привлекала воров и карманников, как мед привлекает мух. Огромный тюрбан из желтого атласа, круглый, как тыква, и украшенный белыми перьями, возвышался в толпе над головами, указывая на присутствие турка. Наконец, ближе к дальнему концу рыночной площади худенький паренек в облегающем красном костюме беззаботно прогуливался, держа в руках палку-балансир, взад и вперед по канату, натянутому высоко над головами толпы.
Катрин едва успела подумать, что ему-то лучше всего видно все, что происходит вокруг, как раздался звук серебряных труб, провозгласивший о начале процессии. В тот же миг зазвонили все колокола в Брюгге, и Катрин со смехом закрыла руками уши, чтобы приглушить грохот, раздающийся с колокольни, которая, казалось, находилась над ее головой.
– Становится все труднее и труднее приобретать английскую шерсть по сходной цене, – жаловался Матье Готрэн. – Флорентийцы скупают ее всю, вздувая цены, а потом продают здесь свое сукна по смехотворным ценам. Должен признаться, что сукно у них добротное и цвета яркие, но все равно это не дело! Особенно теперь, когда появились квасцы из Толфийских копей и протравы им ничего не стоят…
– Да! – согласился его новый друг. – У нас, меховщиков, такие же трудности. Эти новгородцы требуют теперь, чтобы им платили венецианскими дукатами. Как будто наше доброе гентское золото стоит меньше!
– Ш-ш-ш-ш-ш! – сказала Катрин, которой наскучил этот торгашеский разговор. – Вон идет процессия.
Оба моментально замолчали, и гентский бюргер, воспользовавшись тем, что внимание девушки было целиком поглощено зрелищем, постарался придвинуться к ней поближе. Для этого ему пришлось склонить голову набок, чтобы не выколоть себе глаз острым рогом ее высокого, покрытого кружевом чепца. Катрин, с широко открытыми глазами, забыла о нем. Процессия приближалась.
Картина была и в самом деле великолепная. Здесь были представлены магистраты и все городские гильдии, каждая со своим знаменем. В знак уважения к реликвии на всех были надеты венки из роз, фиалок и душицы, составляющие забавный контраст с упитанными лицами.
Несколько монахов и молоденьких девушек в белых платьях чинно выступали перед самой Драгоценной кровью. За ними, гордо восседая на белом муле с золотой уздечкой и сбруей, медленно ехал епископ.
Огромный сверкающий балдахин, который четверо священнослужителей несли над головой епископа, был из резного золоченого дерева. Катрин казалось, что само солнце упало с небес во всем своем ослепительном блеске. Мантии и ризы прелата из златотканого алтабаса были вышиты золотой нитью и усыпаны алмазами. Руками в пурпурных перчатках он держал на уровне груди ковчежец, на крышке которого были изображены два коленопреклоненных ангела: их эмалевые крылья сверкали жемчугами и сапфирами. Прозрачные стенки реликвария позволяли увидеть хранящийся внутри крохотный стеклянный сосуд с коричнево-красным содержимым – Драгоценную кровь Христа, несколько капель которой собрал на Голгофе Иосиф из Аримафеи. А Тьерри Фландрский, граф Эльзасский и Фламандский, которому иерусалимский патриарх передал ее в 1149 году, доставил бесценный сосуд из Святой земли в Брюгге.
Приближение столь величественной процессии послужило сигналом для всех присутствующих пасть на колени в дорожную пыль.
Буквально через минуту после того, как девушка поднялась с колен, ей пришлось опуститься снова, на этот раз в глубоком реверансе.
– Это герцогиня, – сказал кто-то в толпе.
Группа молодых женщин в роскошных одеждах шла за балдахином епископа. Все они были одеты в платья из бледно-голубой парчи, вышитой серебром и жемчугом, и в высокие остроконечные головные уборы из серебряной ткани, задрапированной голубой кисеей.
В центре этой группы выделялась молодая белокурая женщина, стройная и изящная, с кротким печальным лицом. Длинный, отделанный горностаем шлейф ее украшенного золотыми цветами голубого парчового платья, сметал цветы и листья под ее ногами. Головной убор, усеянный сапфирами, выглядел как наконечник стрелы из чистого золота. На ее груди переливались всеми цветами радуги драгоценные камни, они же украшали запястья, а пояс, составленный из массивных золотых пластинок, казался почти нелепым из-за невероятных размеров самоцветов, которыми был усыпан.
Катрин видела герцогиню Бургундскую в первый раз. Та приезжала в Дижон редко, круглый год проводя только в окружении своих женщин, в холодном и роскошном дворце графов Фландрских в Генте. Муж не выносил ее вида.
Мишель Французская была дочерью несчастного безумного короля Карла VI и, что еще важнее, сестрой дофина Карла, который, как утверждала общая молва, нес ответственность за вероломное убийство покойного герцога Бургундского, Жана Бесстрашного, совершенное три года тому назад. Филипп Бургундский очень любил своего отца, и с того дня, как узнал о его смерти, он вырвал из сердца любовь к жене лишь по той причине, что она оказалась сестрой его врага. С тех пор Мишель жила только для Бога и добрых дел. Граждане Гента обожали ее и возмущались отношением своего сеньора к такой кроткой и добродетельной женщине. Они считали это и незаслуженным и чрезмерным.
Глядя на печальное лицо Мишель, Катрин мгновенно приняла сторону жителей Гента, сказав себе, что герцог Филипп, судя по всему, глупец.
Гентский меховщик, стоявший за ее спиной, прошептал дядюшке Матье:
– Жизнь нашей бедной герцогини – мученичество. В прошлом году герцог приказал устроить пышные празднества в честь рождения своего побочного сына от госпожи де Прель. Наша добрая госпожа, бездетная не по своей вине, проплакала много дней, когда услышала эту новость. Но герцогу не было дела до ее слез, и он тут же провозгласил младенца Великим Бастардом Бургундским – было бы чем гордиться!
Чувствительное сердце Катрин переполнилось негодованием. Она хотела бы немедля бежать на помощь маленькой герцогине, так несправедливо отторгнутой мужем.
Герцог собственной персоной следовал сзади. Он ехал на лошади в сопровождении отряда рыцарей в полном боевом облачении. Они изображали участников кортежа графа Тьерри Фландрского, которому Бургундия была обязана Драгоценной кровью. По этой причине герцог облачился в доспехи минувшего века. От плеч до колен его покрывала кольчуга, а на голове под остроконечным шлемом был виден кольчужный капюшон, оставляющий открытым только строгий овал его лица. На его боку висел длинный, широкий и плоский меч. В правой руке, затянутой в стальную перчатку, он держал копье, на котором трепетал вымпел, несущий цвета Фландрии. На правом локте висел щит продолговатой миндалевидной формы. Окружавшие его рыцари, одетые в той же манере, выглядели как величественный лес мрачных и неподвижных статуй из вороненой стали. Глаза Филиппа смотрели поверх людских голов и, казалось, не видели ничего. Каким надменным, далеким и презирающим всех он казался! Катрин, вновь склонившаяся в почтительной позе, сказала себе, что он, определенно, неприятная личность.
Поднимаясь из реверанса, Катрин вдруг почувствовала, как две трясущиеся руки обхватили ее талию. Катрин попыталась стряхнуть их, думая, что кто-то, оступившись, нечаянно схватился за нее, чтобы удержать равновесие. Но вкрадчивые руки начали медленно скользить к ее груди. Она вскрикнула от ярости. Повернувшись так стремительно, что соседи отшатнулись, а ее головной убор сбился на сторону, она оказалась лицом к лицу с меховщиком из Гента, который был явно ошеломлен ее реакцией.
О! – выкрикнула она. – Грязная свинья! Вне себя от бешенства она влепила ему три внушительные пощечины. Его бледные щеки моментально вспыхнули багровым цветом под стать июньским макам, и он отступил на несколько шагов, заслонив лицо руками.
Катрин была в бешенстве. Забыв о своем чудесном кружевном чепчике, валявшемся под ногами в пыли, с сияющими волосами, разметавшимися во все стороны, она снова накинулась на своего противника, невзирая на дядюшкины попытки остановить ее.
– Племянница, племянница, ты с ума сошла? – крикнул добряк.
– С ума? Спроси вот у этого жалкого создания, у этого грубого торговца шкурами, чем он тут занимался! Спроси его, если он посмеет тебе сказать!
Меховщик искал убежище в темноте крытого рынка, откуда, очевидно, он рассчитывал спастись бегством, но толпа перегородила ему выход. Изумленные свидетели присоединились теперь к спору, причем некоторые заняли сторону меховщика, а некоторые – девушки.
– Ба! – удивленно воскликнул бакалейщик, который был настолько же широк, насколько и высок. – Куда мы идем, если уже нельзя схватить в толпе девушку за талию, чтобы не вызвать скандала?
Молодая женщина с высокомерным выражением на круглом лице и с негодующим блеском в глазах подалась вперед, чтобы лучше его увидеть.
– Хотела бы я посмотреть на того, кто попробует схватить меня за талию! – вскричала она. – Девушка совершенно права… Что до меня, то я бы выцарапала глаза любому, кто попробовал бы вольничать со мной.
Выцарапать глаза меховщику – это, казалось, было именно то, что Катрин, вырывавшаяся от удерживающего ее дядюшки, пыталась сделать. Немного времени прошло, и в углу рыночной площади возникла изрядная сумятица; никто из противоборствующих сторон не заметил, что остановилась сама процессия. Внезапно общий гвалт прорезал ледяной голос:
– Стража… Взять этих людей, которые мешают крестному ходу!
Это был герцог. Он ждал, задержавшись на углу рыночной площади, – неподвижная фигура в стальных доспехах. Мгновенно четверо всадников из его личной охраны протиснулись сквозь толпу. Два всадника оторвали Катрин от ее врага, который защищался изо всех сил и, невзирая на мольбы Матье, потащили к лошади Филиппа Бургундского.
Она все еще была в ярости и отбивалась как маленький дьяволенок. К тому времени, как им удалось с ней справиться, ее волосы рассыпались по плечам, а воротник голубого платья был оторван, открыв нежное плечо. Глаза Катрин неистово сверкали, и взгляд скрестился со взглядом Филиппа, как два клинка. Какую-то секунду они взирали друг на друга, подобно бойцам, оценивающим соперника, один – высокий и надменный, на лошади, вторая – нахохленная, как бойцовый петух, не желающая опустить глаза долу. Вокруг них наступила тревожная тишина, прерываемая только всхлипами несчастного Матье.
– Что случилось? – отрывисто спросил герцог. Один из лучников, державший перепуганного меховщика, ответил:
– Этот приятель воспользовался толкучкой, чтобы немного потискать девушку, сир. Она дала ему пощечину.
Серый взгляд Филиппа с леденящим презрением скользнул по пепельно-бледному лицу меховщика и вновь остановился на Катрин, которая, как и раньше, стояла с заносчивым видом и упорно отказывалась вымолвить хоть слово. Уверенная, что правда на ее стороне, она была слишком горда, чтобы извиняться при всех за свое поведение и тем более просить прощения. Она стояла и ждала. Раздался холодный голос Филиппа:
– Мешать процессии, – это серьезный проступок. Уведите их. Я займусь этим делом позже.
Он нагнулся к командиру охраны Жаку де Руссе и тихо сказал ему несколько слов, затем развернул лошадь и вновь занял свое место в процессии. Кортеж в облаках фимиама и под пение священных гимнов продолжил движение.
Капитан де Руссе не мог увести арестованных до конца процессии, представляющей собой иллюстрации к Ветхому и Новому Завету. Он получил приказ доставить их во дворец, а чтобы это выполнить, следовало прежде всего пересечь рыночную площадь. Тем временем Матье Готрэа рвал на себе волосы и рыдал без стеснения. Молодая женщина, принявшая в споре сторону Катрин, изо всех сил старалась его успокоить. Он попытался заговорить с племянницей, но был отстранен стрелками. С ужасающей живостью Матье рисовал себе картины бедствий, которые на нее обрушатся. Они почти наверняка заточат дерзкую девушку в одну из дворцовых темниц. Потом ее будут судить и, вполне возможно, повесят или даже сожгут живьем за святотатство. Что же до него самого, то они, несомненно, сровняют с землей – его дом, выгонят из родного города, вынудив бродить по большим дорогам, выпрашивая себе на хлеб, всегда преследуемым, всегда на ногах, до той поры, когда Господь сочтет нужным сжалиться над ним и приберет к себе…
Катрин, со своей стороны, наконец остыла и была совершенно хладнокровна. Лучники связали ей руки. Так она и стояла, гордо выпрямившись, в разорванном платье, обнажившем плечо, окутанная облаком волос, не обращая внимания на замечания наблюдателей, некоторые – льстивые, некоторые – сальные, а некоторые откровенно непристойные, по поводу ее красоты. Она чувствовала на себе взгляды всех этих людей и даже нашла некоторое тайное развлечение в том, чтобы наблюдать, как командир охраны краснеет и глядит в сторону, когда ей удается поймать его взгляд, устремленный на нее. Руссе был молод, и красота пленницы явно вывела его из душевного равновесия.
Когда прошла последняя картина, изображавшая довольно пузатого пророка Даниила среди каких-то фантастических зверей, он приказал толпе расступиться и повел своих пленников быстрым шагом. Через площадь они почти перебежали. Бедный Матье, по-прежнему обильно обливаясь слезами, изо всех сил старался не отставать. Его капюшон сбился набок, а тучное лицо, опухшее от слез, поразительно походило на лицо безутешного ребенка.
Однако как только Матье добрался до входа во дворец, копья стражников преградили ему путь, и он был вынужден оставить свой план сопровождать племянницу. С разбитым сердцем он занял место на ближайшем камне и начал, подобно фонтану, лить слезы, почти уверенный теперь в том, что он не увидит больше Катрин, пока не настанет ей время взойти на эшафот.
Оказавшись внутри дворца, Катрин с некоторые удивлением заметила, что ее отделили от врага. Стража уводила торговца мехами на левую сторону внутреннего двора, в то время как сам Руссе повел ее к главной лестнице.
– Разве вы ведете меня не в темницу? – спросила она.
Капитан не ответил. Он шел вперед, устремив взгляд прямо перед собой, с бесстрастным лицом под поднятым забралом шлема. Катрин не знала, что он отказывается взглянуть на нее или даже заговорить только потому, что потерял власть над своими чувствами с тех пор, как его взгляд впервые упал на это очаровательное личико. Впервые Жак де Руссе возненавидел возложенные на него служебные обязанности.
На верху лестницы начиналась длинная галерея, в конце которой находилась дверь, ведущая в роскошно обставленную комнату, и далее была еще одна комната меньших размеров, вся завешанная прекрасными шпалерами. Среди них пряталась дверь, открывшаяся, как по мановению волшебной палочки, лишь только капитан надавил на нее.
– Сюда, – коротко сказал он.
Только тут Катрин с изумлением заметила, что весь ее конвой состоит из одного капитана, а солдаты куда-то таинственно исчезли. На пороге комнаты Руссе перерезал кинжалом веревку, связывавшую руки пленницы, и втолкнул ее внутрь. Дверь бесшумно захлопнулась за ней, и когда Катрин повернулась, чтобы посмотреть, здесь ли еще ее тюремщик, она не поверила своим глазам: дверь пропала, слившись с узором на стене.
Покорно вздохнув, девушка огляделась кругом. Ее тюрьма представляла собой комнату, малые размеры которой компенсировались редкостной роскошью. Стены, обитые златотканым штофом, резко подчеркивали мрачное великолепие огромной кровати, целиком покрытой черным бархатом. Герба над изголовьем не было, занавеси подхватывались золотым шнуром, крепившимся к головам грифонов из литого золота с изумрудными глазами. Рядом с большим белым камином стоял дрессуар черного дерева, на котором было расставлено несколько золотых и серебряных вещей, составляющих как бы почетную свиту для большого кубка из искрящегося хрусталя, дно и крышка которого бы – 6и сделаны из золота и инкрустированы большими круглыми жемчужинами. На сундуке черного дерева, находившемся между узкими готическими окнами, стояла большая золотая чаша, отделанная эмалью, а в ней – огромная охапка кроваво-красных роз.
Катрин осторожно прошлась по толстому ковру с узором из черных и темно-красных тонов, который, как она могла бы с удивлением узнать, только что был привезен из далекого Самарканда на борту огромной генуэзской каравеллы, все еще стоящей в гавани в Дамме. Мимоходом она поймала свое отражение в большом зеркале: девушка с блестящими глазами и взъерошенными волосами, сияющими ярче, чем золоченые стены. Однако ее разорванное платье открывало больше обнаженного тела, чем было допустимо. Смутившись внезапно при мысли, что все эти люди видели ее настолько неподобающе одетой, она бросилась искать кусок ткани или еще что-нибудь, чтобы закрыть плечи и грудь, но не смогла найти ничего и примирилась с необходимостью прикрывать свою полуобнаженную грудь руками.
Внезапно она почувствовала усталость и сильный голод. Катрин относилась к тем здоровым людям, на аппетит которых не могут повлиять даже самые жуткие бедствия. Но в этой искусно замурованной комнате с невидимыми дверями не было абсолютно ничего съестного. Глубоко вздохнув, она расположилась в одном из кресел с высокой спинкой из резного черного дерева, стоящих друг против друга по обе стороны камина. Они были достаточно уютны, благодаря толстым, набитым пухом подушкам из черного бархата с золотыми кистями. Наслаждаясь уютом, Катрин свернулась в кресле, как кошка, и, поскольку не могла найти себе лучшего занятия, вскоре уснула. Будущее волновало ее гораздо меньше, чем страшные треволнения, которые обрушились на бедного дядюшку Матье. Не могли же ее доставить в такую прелестную комнату только для того, чтобы затем послать на эшафот!
Она проснулась после продолжительного сна мгновенно, как от толчка, подсознательно уловив чье-то присутствие. Перед ней, заложив руки за спину и слегка расставив ноги, стоял высокий худощавый молодой человек. С криком удивления и тревоги она вскочила на ноги и застыла, со страхом глядя на вошедшего. Это был не незнакомец, а герцог Филипп собственной персоной.
Он сменил свои старомодные доспехи на короткий черный бархатный дублет и того же цвета чулки, подчеркивающие его длинные, тонкие, но мускулистые ноги. Голова его была обнажена, и белокурые волосы над ушами подстрижены очень коротко. Строгий костюм только подчеркивал молодость его лица. Без сомнения, ему не могло быть более двадцати шести лет. Он улыбнулся.
Эта улыбка стара шире, когда Катрин, все еще полупроснувшаяся, отвесила неловкий реверанс и воскликнула:
– О сир!.. Я прошу прощения…
– Ты так крепко спала, что я не решился тебя разбудить; И не нужно просить прощения. Это было очаровательное зрелище.
Порозовев от смущения, Катрин заметила, как светлые глаза Филиппа неторопливо оглядывают ее, и, вспомнив, в каком она виде, торопливо прикрыла грудь руками. В ответ на этот внезапный приступ скромности герцог отступил на несколько шагов и слегка пожал плечами.
– Что ж, моя прелестная возмутительница спокойствия. Прежде всего, кто ты?
– Ваша пленница, сир.
– А кроме того?
– Больше ничего… раз вы так фамильярно обращаетесь ко мне на «ты». Я не из знатного рода, но и не низкого происхождения. Я не служанка. И то, что я арестована, еще не значит, что со мной можно так обращаться.
Полуудивленная, полузаинтересованная улыбка скользнула по бледному лицу Филиппа. Удивительная красота девушки поразила его с самого начала, но теперь, когда он познакомился с ней поближе, он был под впечатлением чего-то большего, от того прирожденного достоинства, которое он не ожидал найти. Тем не менее он отнюдь не намеревался дать ей это заметить и с улыбкой, больше похожей на насмешку, сказал:
– В таком случае я должен просить вашего прощения, барышня. Но не были бы вы так добры сказать мне свое имя? По-моему, я знаю всех хорошеньких девушек в городе, и все же вас я никогда не видел.