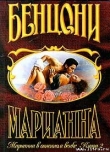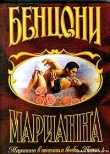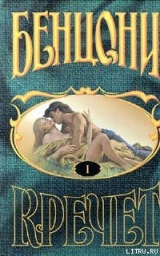
Текст книги "Кречет. Книга I"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
того, как был закончен ужин, он поднял на стоявшую подле него Розенну горящий любопытством взгляд.
– Моя мать никогда не выходит из дому и ни к кому не ходит в гости, – сказал он для начала, – но ты, Розенна, ты ведь знаешь всю округу от Эннебона до Пор-Луи?
– Да, я многих тут знаю, – проворчала Розенна, сразу насторожившись. – Если люди со мной здороваются, я отвечаю. Зачем быть невежливой… А что ты хочешь спросить?
– Да ничего особенного. Я только хотел узнать, знаешь ли ты семейство де Сен-Мелэн?
Ее седые брови сошлись под накрахмаленной накидкой из муслина.
– Но… скажи мне правду, – сказала она тоном, полным подозрения, – почему ты заговорил со мной об этих людях?
– О, просто так! – ответил Жиль, поднявшись с места, чтобы избежать долгих объяснений. – Когда я возвращался через парк Локгеноле, я встретил девушку, которая назвалась этим именем и сказала, что живет в замке. Но это не важно…
При этих словах он вышел из дома, сделав вид, что идет взглянуть, хорошо ли заперты куры, «потому что в окрестностях заметили лису».
Он был уверен, что Розенна, одним из маленьких грешков которой было любопытство, не успокоится, пока не выяснит все до конца. Обходя свои маленькие владения. Жиль принялся сочинять историю о падении в ров и о вывихнутой при этом лодыжке, историю, которая спасла бы одновременно и его самолюбие, и стыдливость Жюдит.
Он не обманулся в своих ожиданиях. Розенна как никто другой знала толк в искусстве задавать самые точные вопросы, не подавая при этом вида, что чем-то интересуется. Она могла бы стать несравненным духовником: не только ни одна сплетница на десять лье в округе не могла противиться ей, но Розенна умела также разговорить самого упрямого из старых рыбаков, из числа тех, что выпускают из своего беззубого рта трубку разве лишь для того, чтобы пропустить укрепляющий глоток сидра или водки.
«Она способна исповедать самого нашего епископа… или же моего церковного сторожа! – говаривал аббат Венсан, крестный Жиля, знавший старую женщину с самого рождения. – Когда я еще был ребенком, она знала, как разговаривать даже с браконьерами из Лесле, притом отбирала часть добычи и отправляла их восвояси, присовокупив к нравоучению бутыль с водкой!»
Таким образом, благодаря Розенне, Жиль быстро узнал все, что он желал знать.
Жюдит де Сен-Мелэн, несколько месяцев назад потерявшая мать, только что была принята в качестве пансионерки в монастырь Нотр-Дам-де-ла-Жуа в Эннебоне, аббатиса которого госпожа Клотильда де ла Бурдоннэ и ее бернардинки занимались воспитанием девиц благородного происхождения, но небогатых, в большинстве случаев с тем, чтобы сделать из них монахинь. Ее отец, почти полностью разорившийся старый дворянин, вынужден был покинуть свое маленькое поместье во Френе близ Плоэрмеля – приданое жены и их единственное богатство. Оставив поместье во Френе, он обосновался в Эннебоне, в старом, покрытом трещинами особнячке в квартале Виль-Клоз, доставшемся ему в наследство от какого-то дальнего родственника.
Итак, барон и его дочь приехали, чтобы поселиться в тесном и мрачном доме покойного кузена, и благодаря протекции семьи де ла Бурдоннэ, чьи земли соседствовали с их землями во Френе, а также благодаря покровительству крестной матери девушки, графини де Перрьен, Жюдит была принята в монастырь Нотр-Дам-де-ла-Жуа, для получения образования и воспитания, до того времени весьма запущенного. Ведь, живя с постоянно болевшей матерью и двумя братьями, совершеннейшими дикарями, она росла без присмотра, как трава в полях, и получала при этом не больше ухода, чем эта трава.
– Видишь, – заключила Розеина, вновь принявшись за вязание, но продолжая смотреть на юношу странным взглядом, под которым тот залился краской. – Эта твоя девушка из замка такая же неудачница, как и ты. У тебя нет отца, а у нее больше нет матери, она знатного происхождения, но бедна, как Иов. Ты станешь священником, а она – монахиней. Выбрось ее из головы, не думай о ней больше…
– С чего ты взяла, что я о ней думаю? – спросил Жиль с досадой.
Розенна сняла очки, вытерла их концом передника и коротко, невесело засмеялась.
– Бедный мой мальчик! Если бы ты о ней не думал, то давно бы уже заставил меня умолкнуть, сказав, что тебя это вовсе не интересует. Но ты ведь выслушал весь мой рассказ, ни разу не перебив, а глаза твои сверкали, как звезды. А что, она действительно так уж красива?
Жиль резко отвернулся и принялся ерошить свои густые белокурые волосы, пытаясь собраться с мыслями.
– Да… Я думаю, да! Ну и что же? Ты говоришь, что ей приходится не лучше, чем мне, но ты ошибаешься. Даже не будь ее судьба предопределена заранее, что у нее может быть общего со мной? Если она и бедна, то ее знатное происхождение останется при ней, и если у нее и нет больше матери, то, по крайней мере, она носит имя своего отца. Она появилась на свет в законном браке, тогда как я – я всего лишь бастард! То есть я – ничто в этом мире, где лишь рождением предопределяется жизненный путь. Не будем больше говорить об этом…
Затем, боясь поддаться в глазах опечаленной Розенны охватившему его чувству горечи, он выбежал из дома и до поздней ночи бродил по ландам.
За все оставшиеся ему до возвращения в коллеж дни вакаций, что должно было произойти вскоре после Дня всех святых, он ни разу более не произнес имени Жюдит, но в доме его теперь совсем не видели.
Однако Жиль не ходил в море с сыновьями Ле-Мана, как бывало раньше, не ловил рыбу в реке.
Он не бродил более по укреплениям Пор-Луи, соседней морской крепости, куда он любил ходить раньше; на набережных Лорьяна, куда он прежде с таким удовольствием иногда отправлялся, чтобы вдохнуть густые ароматы, идущие с кораблей, вернувшихся из Индии, он тоже не появлялся. Он просиживал теперь часами на берегу Блаве, устроившись в травяном гнезде, куда однажды вечером вытащил недвижное тело Жюдит де Сен-Мелэн, смотрел, как текут изменчивые воды, и не думал более о том, чтобы забросить в реку рыболовные снасти.
Два или три раза он доходил до Эннебона, долго бродил по тропинке, ведущей от реки к высоким стенам монастыря, затем возвращался в Кервиньяк, даже не повидавшись со своим крестным, которого он тем не менее любил всем сердцем за неистощимую доброту и за зоркую привязанность, коей тот его одаривал. Привязанность крестного была даже чрезмерно бдительной для подобных случаев! Жиль боялся, чтобы проницательный взор священника не заставил его раскрыть свой секрет.
Он возвращался домой за полночь, лишь для того чтобы наспех поесть и лечь спать, не произнеся и десяти слов. Он стал почти так же молчалив, как и его мать, чего, впрочем, та вовсе не замечала, поскольку вечно была погружена в бесконечные молитвы. Розенна, однако, терзалась за двоих, ловя на лице юноши следы того недуга, признаки которого она угадывала слишком хорошо.
Однажды вечером она удержала Мари-Жанну в тот момент, когда та закутывалась в свою черную накидку, чтобы отправиться к вечерне.
– Забудь ненадолго про Небеса и посмотри на землю, – сказала ей Розенна резким тоном. – Взгляни на своего сына! Он больше не ест, не смеется, не разговаривает… Разве ты не видишь, что он несчастлив?
Узкое лицо его матери, которая в свои тридцать три года казалась пятидесятилетней, осветилось улыбкой, а ее темные глаза под вдовьим чепцом, который она носила с тех пор, как родила ребенка, блеснули фанатическим огнем:
– Несчастлив? Потому, что услышал Голос, который отвращает его от мира сего и от его ничтожества? Ты говоришь, что он не смеется больше, не говорит больше? Так возрадуйся же, ты, безумная, а не горюй! Если он молчит, то это для того, чтобы лучше слышать Господа, зовущего его к себе. Да святится вечно Его Святое Имя! Теперь оставь меня! Я опаздываю.
И она ушла, почти убежала, прежде чем упавшая духом Розенна собралась было ее удержать!
Действительно, безумием была попытка заставить эту женщину с истерзанным, окаменевшим сердцем проявить интерес к ребенку, присутствия которого она обычно и не замечала! С той поры как Жиль стал большую часть времени проводить в коллеже, она заговаривала с ним лишь для того, чтобы сказать «здравствуй», «до свидания» и узнать, помолился ли он. Помимо этого она более ничего у него не спрашивала, не замечала его, будто он был прозрачен, как оконное стекло.
– Она ничего не видит, ничего не слышит, – возмущалась старуха. – Бог! Небеса! Церковь!
Она думает лишь об этом и сейчас, верно, рассказывает аббату Севено, ее духовнику и священнику нашего прихода, что Жиля коснулась благодать! И ей все равно, что малыш несчастлив! Благодать! Рассказывайте!.. Хорошенького же кюре мы получим, если его уже теперь одолел любовный недуг…
Но Розенна знала, что поделать ничего нельзя, и впервые в жизни находила, что дни вакаций продолжаются слишком долго, и сокрушалась, что час, когда Жиль покинет наконец места, столь для него опасные, и окажется в Ванне, никак не настанет.
Хотя Розенна и не знала мыслей своего воспитанника, Жиль был с ней полностью согласен.
Юноша ничего не мог понять, что с ним происходит, что за тупая боль точит его грудь, подобно маленькому грызуну, что за неотвязная картина не оставляет его ни днем, ни ночью, так же, как и жгучее желание хоть разок снова увидеть неотступно преследующее его лицо. Суровые предостережения аббата Делурма, поносившего женщину и опасности, от нее исходящие, казались ему теперь очень далекими. Даже отзвук этих предостережений не доносился до него, но теперь Жиль думал, что Бог поступил несправедливо и жестоко, показав ему Жюдит, ведь она навсегда останется для него недостижимой мечтой. И он мечтал, по своей наивности, бежать от нее навсегда…
Однако желание снова увидеть девушку было сильнее доводов рассудка. В День всех святых, накануне его отъезда в коллеж. Жиль решил пойти послушать вечернюю молитву об усопших в церковь Нотр-Дам-де-ла-Паради, главную церковь Эннебона. Он знал, что весь город будет там.
Действительно, Жюдит была в церкви в сопровождении своего отца. В первое мгновение он с трудом признал ту маленькую голую фурию, что пыталась выцарапать ему глаза, в опирающейся на руку отца девушке, одетой в просторную коричневую накидку, из-под которой виднелись скромно уложенные локоны, неспешно идущей со скромно потупленным взором по нефу к местам, отведенным для знати.
Спрятавшись за колонной, он увидал, что ее гладкие волосы блестели в свете свечей, как начищенная медь, и, когда она подняла взгляд к алтарю, блеск ее сверкающих, как черные бриллианты, глаз поразил его в самое сердце.
Всю нескончаемую службу он простоял, укрываясь в тени колонны, не взглянув ни разу на хоры, где священники в черных с серебром облачениях отправляли службу, и испытывал при этом душераздирающее чувство, что его жизнь окончится в ту секунду, когда его глаза хоть на миг перестанут смотреть на Жюдит.
Однако, когда последний реквием прозвучал под старыми сводами церкви, громко пропетый мощными глотками жителей Эннебона, Жиль поступил как любой влюбленный, увидевший в церкви ту, кого он любит, и бросился прямо к чаще со святой водой, чтобы подать святую воду в тот момент, когда девушка будет проходить подле него.
Он дожидался подходящей минуты со все растущим опасением, что Жюдит может покинуть церковь через другие двери, потому что увидел, как ее отец подает руку старой госпоже де ла Форэ, глухой, как тетерев, и скрюченной ревматизмом.
Наконец показалась и она среди других верующих, выходящих последними, сопровождаемая девушкой тех же лет, но с зелеными, очень быстрыми глазами, чьи иссиня-черные волосы сверкали так же, как ярко-рыжие волосы Жюдит. Жиль быстро подошел ближе и, погрузив руку в гранитную чашу таким быстрым движением, что замочил до локтя рукав, подал ей руку, с которой ручьями стекала святая вода.
Она вздрогнула, взглянув на секунду своими темными глазами в голубые глаза Жиля, затем строго посмотрела на его мокрую руку и сказала, не подав ему своей:
– Вы неловки, как обычно, я вижу!
– Да упокоятся с миром души усопших, – прошептал он, с ужасом чувствуя, что его голос дрожит.
Жюдит не ответила. Стоя неподвижно в двух шагах от него, она разглядывала его с оскорбительным вниманием, а ее спутница, явно довольная происшествием, что-то шептала ей на ухо.
– Аминь! – наконец произнесла она. – Однако мирное упокоение усопших вовсе не разрешает вам предлагать мне святую воду! Я прошу тебя, Азенора, прекрати приставать ко мне, чтобы я представила тебе этого мальчика! – добавила она с живостью, обратившись к своей подруге. – Девушку из хорошего дома не знакомят с первым встречным! Что же касается вас, сударь, то я, кажется, уже говорила вам, что я вовсе не хочу, чтобы вы вспоминали мое имя! А тем более меня саму!
– Но кто же он такой, в конце концов? – продолжала настаивать юная Азенора, явно не способная сдержать свое любопытство. – Я его никогда не видела!
– Это не важно! Но если ты и впрямь хочешь знать, то это Жиль Гоэло – будущий сельский кюре. Пойдем же! Не хватало только опоздать к началу шествия…
С этими словами она ушла в серые сумерки, сопровождаемая последними звуками органа.
Жиль потом не мог припомнить, долго ли он стоял подле чаши со святой водой, как будто примерзший к холодным плитам, по которым ветер и дождь гоняли пожухлые листья. Он так и не опустил руку, раздавленный ее презрением, чувствуя свинцовую тяжесть в груди…
Он оставался бы там, быть может, до Судного дня, но колокольный звон и тоненькие детские голоса, запевшие хорал, вывели его из оцепенения.
Он увидел, как процессия начала двигаться в его направлении из глубины церкви, большой серебряный крест приближался, медленно покачиваясь на голубом фоне хоругвей, он увидел вблизи себя священников с сумрачными лицами, одетых в траурные одежды. Что-то собралось комком у него в горле, что-то такое, чего он не знал раньше, может быть страх. Ему казалось, что в церкви хоронят его жизнь и надежды, напомнив о предначертанной судьбе.
«Будущий сельский кюре!.. Будущий сельский кюре!..»
Презрительный голос наполнял его уши, заглушая звон колокола, хоровое пение и звуки органа. Словно охваченный паническим страхом, он выбежал из церкви, расталкивая людей, ожидавших начала процессии около обнесенных оградой могил при церкви, и исчез в ноябрьском тумане, миновав отлогий склон, ведущий к реке.
Добравшись до дома, он застал Розенну, накрывавшую стол белой скатертью, чтобы поставить сидр, блины и кислое молоко, предназначенные умершим, которые этой ночью получают возможность возвратиться на землю в свои прежние жилища. Однако он не обратил на старуху никакого внимания.
Подбежав к сундуку, где хранилась его одежда, он вытащил из него все свои вещи и принялся набивать ими старый матросский мешок такими резкими движениями нервно дрожащих рук, что старуха забеспокоилась.
– Благослови тебя Святая Анна! Что ты делаешь, малыш? Разве ты уходишь?
– Да… Я ухожу… Сейчас же… Мне нужно уйти отсюда, вернуться в коллеж…
– К чему такая спешка? Ведь дилижанс отправится в Ванн только завтра! Да и твоя мать, она…
Жиль обнял Розенну за плечи, расцеловал ее морщинистые щеки, сбив при этом назад ее муслиновый чепец.
– Скажи ей за меня «прощай». Скажи… что я напишу! К тому же ей это безразлично. Я дойду до побережья, а через три часа поднимется прилив, и я уж найду какое-нибудь судно, которое доставит меня в Ванн! Благослови тебя Господь, моя Розенна!
Внезапно она испугалась его прерывистого голоса, бледного, осунувшегося лица, в котором в эту минуту не оставалось почти ничего детского.
Обхватив Жиля обеими руками, Розенна попыталась удержать юношу.
– Жиль! Мой малыш… Ты действительно едешь в Ванн? Поклянись!
Он сухо, коротко рассмеялся, смех его был таким печальным, что ей захотелось заплакать.
– Да, я еду в Ванн! Куда же еще! Нужно ехать в коллеж, продолжать учиться. Разве в один прекрасный день я не должен стать деревенским кюре? Как же я могу не торопиться, когда меня ожидает такое блестящее будущее.
С этими словами Жиль осторожно высвободился из объятий старой служанки и выбежал из дома. Дверь захлопнулась за ним с глухим стуком.
У Розенны подкосились ноги, и она присела на скамью, прислушиваясь к стуку торопливых шагов мальчика за окном, мальчика, которого она любила как своего собственного сына, а может, и больше, потому что он был выбран ее сердцем.
– Боже мой! – произнесла она. – Не думала я, что это будет так тяжело.
Всю ночь поддерживая огонь, который должен был пылать до наступления утра, чтобы души усопших могли обогреться, Розенна просидела на камне у очага, прислушиваясь к колоколу, который также должен был звонить до утра. От всего сердца эта простая душа молилась о том, чтобы Господь сжалился над Жилем и не послал ему слишком жестоких испытаний.
– Он так еще юн! – повторяла она тихо. – Так юн! Он не вынесет страданий…
ЧЕЛОВЕК ИЗ НАНТА
Расположенный в предместье Оре, за пределами стен Ванна, коллеж Сент-Ив, основанный когда-то Обществом Иисуса, был не очень-то веселым местом. Вокруг огромного двора, засыпанного гравием и заросшего травой, располагались ветхие строения весьма сурового вида. Из-за того, что они находились ниже уровня самого двора, в дождливые дни туда стекала вся вода, превращая классы в настоящее болото. В одном из углов двора стояла прямоугольная башня, называемая «Барбэн», служившая местом наказания для нарушителей дисциплины. Она выглядела достаточно внушительной, чтобы о ней всегда помнили. Что же касается классных комнат, полы в которых были выложены шаткими каменными плитами, то они были обставлены высокими кафедрами, предохранявшими учителей от воды, и деревянными скамьями, сидевшие на которых ученики держали свои письменные приборы на коленях. В этих комнатах было холодно зимой, а в дождливую погоду, если привратник коллежа забывал бросить на пол охапку соломы, ноги учеников оказывались в воде.
Тут обучали французскому языку, математике, физике, истории, географии в умеренных дозах, а также латыни, но в дозах гораздо более значительных. Дисциплина в коллеже была суровой, внушаемые мысли – ограниченными и очень строго контролируемыми. За то, что однажды Жиль подобрал на улице клочок газеты и засунул его между страниц какой-то книги, ему пришлось перенести 20 ударов плетью, называемой «дисциплина», а также выстоять час на коленях на плитах часовни, читая молитвы.
Ко всему этому Жиль возвратился безо всякой радости, испытывая, однако, странное ощущение безопасности. В этих будто изъеденных проказой стенах Сент-Ива, где звучали напыщенные слова Цицерона или максимы Екклесиаста, соблазнительный образ Жюдит как бы заволакивался дымкой, подобно той, которой были окутаны персонажи легенд. Она будто принадлежала теперь к таинственному миру прудов и деревьев, к миру тех бестелесных существ, чьи легкие тени населяли близлежащий лес Пэнпон, античную Броселианду. Она была феей, увиденной в мечтах, она была Морганой, она была Вивианой… Она не была более живой, реальной Жюдит, и разум юноши начал успокаиваться.
Что же до занятий, то нельзя было сказать, что Жиль слишком отдавался учению. Он страстно увлекался историей, географией и естественными науками, но получал плохие оценки из-за неискоренимого отвращения к святейшей латыни, а также из-за упрямого и независимого характера, беспокоившего его наставников. Жиль имел, кроме того, склонность к изящной словесности, а уроки математики он посещал так, как посещают полезных знакомых, не стремясь видеть их слишком часто. Короче говоря, он был весьма средним учеником, и наставники коллежа Сент-Ив не вспоминали о нем, когда приходилось расхваливать репутацию своего коллежа.
Итак, Жиль вновь очутился в своей маленькой комнатке на улице Сен-Гвенаэль, комнатке, которую он снимал у одной старой девы, за весьма скромную плату предоставлявшей кров и не слишком обильный стол . Кров этот состоял из крошечной комнаты, дурно меблированной, без занавесок на окнах, без ковра, но зато с высоким окном и с лепными украшениями, покрытыми пылью, но придававшими комнате отпечаток некоего благородства. Кроме того, в своем камине Жиль мог нажарить зимой каштанов, чтобы умерить аппетит, редко удовлетворяемый постными супами хозяйки. К тому же он чувствовал себя здесь как дома более, чем в доме своей матери, потому что был наедине со своими мечтами и бедными сокровищами, составлявшими его движимое имущество: несколькими предметами одежды угнетающе простого покроя, несколькими принадлежностями туалета, раковинами и причудливой формы камнями, которые он подобрал во время своих странствий по песчаному побережью и полям. Здесь хранились также и его книги, конечно, только те, что были необходимы при обучении, однако среди них находились две книги, совсем не подходящие для будущего священника:
«Век Людовика XIV», сочинение г-на де Вольтера, и «Эмиль» Жан-Жака Руссо, читая которого юноша особенно наслаждался.
Все вышеперечисленное составляло маленький замкнутый мирок, в котором после бегства из Кервиньяка Жиль надеялся вновь обрести самого себя. Но довольно быстро он увидел, что это более невозможно, так как Жюдит чудилась ему даже во время чтения: прекрасные пленницы Александра Македонского или царица Клеопатра становились до странности на нее похожими, с огненными волосами и формами лучезарной плоти. Тогда он в ярости отбрасывал книгу в угол и всю ночь ворочался на своем набитом водорослями матрасе, безуспешно пытаясь уснуть.
Уснуть ему иногда удавалось лишь к утру, но сны, навеянные внезапным пробуждением плоти, уносили его в бездны, о существовании которых он и не подозревал, так что юноша просыпался от этих снов задыхающийся, обливающийся потом, с сердцем, тяжело колотящимся в груди.
Такие сны наполняли его тоской и стыдом. Это довело его до того, что незадолго до наступления Рождества Христова он не осмелился сказать о своих снах на исповеди и не явился на покаяние, как того требовали правила коллежа. В день, назначенный для того, чтобы вместе со всем классом быть подвергнутым ритуальному очищению души, он остался в своей комнате, сказавшись больным. В действительности Жиль лгал лишь наполовину, так как при одной лишь мысли о том, что ему придется вызвать к жизни полный безотчетного сладострастия образ Жюдит в пыльной тени исповедальни, где пахло затхлостью и гнилым дыханием невидимого священника, ему становилось дурно… Он пообещал сам себе, что если его все же принудят пойти, несмотря ни на что, в часовню на исповедь, он ни слова не скажет о тех видениях, что посещают его мысли и сердце по ночам, даже если ему придется солгать перед самим Господом.
Жиль чувствовал, что тяжко нарушил условия договора, который от его имени заключила его мать с Небесами, но в своем новом бунте испытывал нечто вроде горького наслаждения, смешанного со сладостно-мстительным страданием.
У него было чувство, что он спорит с Богом как равный с равным…
На следующий день после своей мнимой болезни, когда Жиль в обычный час вышел из своего дома на улице Сен-Гвенаэль, чтобы отправиться в коллеж Сент-Ив, проходя вдоль стен монастыря в сером холоде наступающего утра, он встретил одного из своих товарищей, по имени Жан-Пьер Керель, сына лучшего корабельного плотника в порту. Жан-Пьер бежал со всех ног в сторону, совершенно противоположную той, где находился коллеж Сент-Ив, хотя у него под мышкой и были книги. Жиль, редко бывавший в домах своих соучеников, у которых были нормальные отцы, как из-за природной дикости, так и из-за гордости, не смог противиться овладевшему им любопытству и окликнул приятеля:
– Куда ты так торопишься, Жан-Пьер Керель?
Ты знаешь, что коллеж совсем в другой стороне?
Ты что, потерял компас?
Керель остановился на месте как вкопанный.
– Да при чем тут коллеж! – ответил он, пожав плечами. – Ты что, не слышал, как пушка выстрелила, когда пропели петухи? Говорят, что «Сен-Никола», корабль господина де Сент-Пазана, о котором так долго ничего не слыхать было, только что вошел в порт. Я хочу увидеть его! Пойдешь со мной? Он пришел из Вест-Индии…
Жиль не заставил просить себя дважды. Франция и Англия воевали между собой, и вот уже полтора года как они пускали друг другу кровь при помощи пушечных ядер и абордажных сабель на большей части Атлантического океана, так что корабль, возвращающийся с Антильских островов, был большой редкостью, особенно в Ваннском порту. Большинство этих огромных парусников, что обменивались залпами на всех океанах мира, обыкновенно бросали якорь у пирсов Лорьяна, где располагалась главная контора могущественной Вест-Индской компании, или Нанта, французской столицы торговли черными рабами. Однако арматор де Сент-Пазан, упрямый и независимый, как настоящий потомок древних венетов , всегда считал необходимым, чтобы его корабли, откуда бы они ни пришли, бросали якоря против окон его конторы с маленькими зеленоватыми стеклами, и нигде больше.
Несмотря на туман и холод, довольно сильный для этой части Бретани, – стоял трескучий мороз, – в порту собралось множество народу. Толпа была веселая, над ней звонко раздавались звуки от постукивания сабо друг о друга, ее венчали белые чепцы, похожие на морскую пену в непогоду.
«Сен-Никола» был уже у причала, огромный, пузатый, низко сидящий в тумане реки, как курица в гнезде. Но было похоже, что эта курица вынесла многое. Соль разъела краску его корпуса, паруса, которые тощие матросы убирали, взобравшись на реи, показывая при этом чудеса ловкости, были грязные и заплатанные. Сами матросы с длинными, как у пророков, бородами и блестящими от грязи телами походили более на дикарей, чем на честных сынов древней Бретани.
Тем не менее вид этого убожества, говорящего о перенесенных в плавании лишениях, не мог заглушить радость от триумфального возвращения с трюмами, полными индиго, сахара и драгоценной древесины, которые вскоре превратятся в золотые экю, звенящие на конторках красного дерева, в серебряные монеты, зажатые в мозолистых ладонях, и в удивительные истории, которые станут рассказывать в дыму глиняных трубок в таверне Мамаши Гоз, пропахшей пенистым сидром.
Взобравшись на каменную тумбу, чтобы лучше видеть, юноши смотрели на эту картину, не произнося ни слова, но с горящими от восторга глазами. Первым внезапно заговорил Жан-Пьер.
– Я хочу стать моряком! – бросил он сквозь зубы. – Когда «Сен-Никола» снова уйдет в плавание, я отправлюсь с ним!
Жиль с удивлением обернулся к своему товарищу:
– А я думал, твой отец отдал тебя учиться, чтобы ты стал нотариусом. Говорят, что он копил на это всю жизнь…
– Знаю! Ну что ж… он сохранит свои деньги, которые мне ни к чему. Мне нужно только море.
С самого рождения я видел, как отец строит большие прекрасные корабли, не задумавшись ни разу, под какими небесами они будут плавать. А я хочу увидеть эти небеса! К черту всех нотариусов!
И чтобы лучше показать презрение, которое он питал к профессии нотариуса, Жан-Пьер фыркнул, подобно разъяренному коту. Жиль не сразу ответил ему. Некоторое время он пристально рассматривал веснушчатое лицо своего товарища, его очень светлые глаза, укрытые под густыми бровями, небольшое, но крепко сбитое тело и не смог удержаться от улыбки. Жан-Пьер был скроен совсем не для того, чтобы в тиши кабинета с навощенной мебелью составлять важные бумаги, так же, как и он сам – не для того, чтобы служить обедни и исповедовать старых дев. Внезапно он понял, что похож на этого мальчика, с которым до этого дня не был особенно дружен. Незримой нитью, связавшей их так внезапно, был океан, он соткал эту нить, знакомый и неведомый, о котором они мечтали с самого детства как о рае, полном бурь, запретный для него океан, волнам которого мать не доверила бы его никогда в жизни. Однако, стоя перед этим кораблем, принесшим с собой густые ароматы далеких горизонтов, он отбросил всякую мысль о Мари-Жанне, как если бы даже упоминание о ней оскорбляло славные шрамы этого покорителя бескрайних просторов океана.
– Я тоже, – наконец произнес Жиль, словно какая-то неведомая сила вырвала это признание из глубин его сердца. – Я тоже когда-нибудь уйду в море.
Жан-Пьер усмехнулся в его сторону краешком рта и пожал плечами с чуть приметным презрением.
– Ты? – спросил он. – Да ты еще меньше подходишь для этого дела, чем я! Ты станешь кюре.
Он было принялся хихикать, но Жиль пронзил его таким ледяным взглядом, что тот густо покраснел и озадаченно замолчал.
– Кюре? – произнес Жиль с пугающей мягкостью в голосе. – Запомни, малыш, что я никогда им не стану. Запомни также, что я не желаю, чтобы мне об этом говорили. Ты понял?
– Понял, – согласился собеседник. – Но что же ты сделаешь? Говорят, что твоя мать решила…
– Она действительно решила. Но я, я не хочу…
Я больше не хочу! И я напишу ей сегодня же вечером.
– А что, если она откажется тебя слушать?
Что, если она потребует, чтобы ты опять ходил в коллеж? Ты же знаешь, что она имеет право принудить тебя.
– Тогда я удеру! – был ответ.
Оба замолчали на то время, что им понадобилось, чтобы слезть с тумбы. Теперь все матросы были на берегу, и люди стали расходиться, чтобы вернуться в тепло своих домов или в кабаки.
На миг Жиль и Жан-Пьер, глядя в лицо друг друга, как будто они виделись впервые, почувствовали внезапное смущение, робость, будто их настоящей дружбе мешали годы безразличия.
Тишину нарушили часы на рядом стоящей церкви, пробившие полчаса. Жан-Пьер смущенно улыбнулся.
– Может, следовало бы пойти в коллеж? – сказал он и, добавил с комичной гримасой:
– Мы теперь здорово опоздали, и думаю: нас прямиком отправят в «Барбэн».
Жиль ответил ему такой же улыбкой:
– В этом можешь не сомневаться! Но не кажется ли тебе, что дело того стоит?
Юноши пустились бежать, стремясь скорее добраться до конца поднимающейся вверх по склону улицы не столько из-за того, что боялись ударов палкой, которые вскоре посыплются на их плечи и в перенесении коих оба были достаточно опытны, чтобы не придавать им слишком большого значения, сколько для того, чтобы согреться.
Однако, когда они увидали двухсотлетний главный портал коллежа Сент-Ив, Жан-Пьер, не произнесший ни слова за все время, что они бежали, резко остановился.
– Скажи мне, – спросил он Жиля. – Ты всерьез говорил там, на набережной, что хочешь уйти в море?
– Конечно, – ответил Жиль. – Но почему ты спрашиваешь?
– Ну, тогда слушай! Вечером, когда колокола собора пробьют девять часов, встретимся на углу Рыночной улицы, перед скульптурой «Ванн и его жена» . Не задавай вопросов, – добавил он живо, увидев, что Жиль открыл рот. – Я отведу тебя в одно местечко, где тебе понравится. Теперь пошли, чтобы нас скорее наказали, и до вечера!