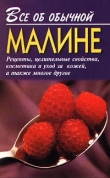Текст книги "Урожай простуды"
Автор книги: Жюльен Давидье
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Давидье Жюльен
Урожай простуды
Жюльен Давидье
Урожай простуды
Я знавал ночи простуды и следовавшей за этим заботы. Тогда прикрытый черным перуанским платком ночник превращался в перо Бредслея вырисовывая штрихами недоговоренности из окружавшей меня ласковой темноты: щеку и локон любимой, агатовый перстенек на безымянном пальце, краешек иероглифа на ее кимоно, уголок подушки касавшейся ее локтя, отблеск золота на корешке книги которую она мне читала, то были сказки немецких писателей, он вырисовывал слова выходившие из невидимых с моей постели любимых губ: Это не значит, что дракон был враждебно настроен по отношению к девушке, равно как нельзя сказать со всей определенностью, что смерть есть противник жизни. Быть может этот огнедыщащий зверь мечтал только о том, что бы подобно верному псу, просто находиться подле прекрасной принцессы, и только лишь собственое уродство удерживало его от того что бы с собачьей преданностью облобызать ее прелестные ручки... Иногда ночник Бердслея становился еще более дерзким вырывая из темноты все ее лицо! и шею, только лишь затем что бы поправить компресс на моем полном жара лбе. После полуночи картина менялась ночник выхватывал: половину моего туловища закутанного в плед и лишь для посвященных голову женщины покоящейся на моем плече. И только лишь тогда в час который трудно ощутить из за сна или дел, подобно тому как мы приносим в жертву повседневности возможность увидеть солнечное затмение или появление кометы-я замечал что вещи окружавшие меня переставали иметь назначение данное им прежде мной до наступления этих часов их характер приобретал назначение атрибутов счастья которые по прошествии времени становились атрибутами ностальгии и боли. В те минуты во мне жила уверенность что встань я сейчас с постели оденься и выйди на улицу. мне пришлось бы стать свидетелем сказачной метаморфозы когда париж становиться обьемной винеткой счастья и одинокая машина тоже и случайный прохожий обретали бы радостную для меня сущность. Я оставался лежать в темноте обьятый температурой и покоем. В кои то веки нам выпадает жребий облаченных в покой дней проходя сквозь их строй мы не замечаем принадлежащей им прелести продолжая жить в неведении своей обездоленности. ведь покой не выбрасывает геральдических полотнищ сообщая о своем приближении и потом нам свойственно заблуждение искать в имени покой отсутствие чувств или их полный сатисфекшн, а между тем этим именем могут именоваться дни или ночи исполненые нежности или тихой жалости и еще быть может капризной беспомощности в которую так соблазнительно впасть возле любимого существа от которого ты зависишь но веришь в те дни что оно пребудет с тобой отныне и во веки. Опрокинутый на постель невидимым гравером с бородою Фаворского я джал подобный немийскому жрецу когда ночник потеряет свой дар и сквозь занавеси просочится тревожная муть рассвета нового дня. Тогда любимая представала предо мной очарованная сном, а не мной и тогда она казалась мне тем пастухом с Картины Брейгеля который не замечает падение Икара в тенеты боли и тоски. В эти минуты мне представлялась редкая возможность заварив себе кофе выйти на балкон и столкнуться с миром без посредника и превозмогая себя попытаться найти пути и тропы примирения с ним с тем что бы он не зависимого от того любим я или нет давал мне возможность прикасаться к нему и испытывать радость. Подобно раковому больному который не хочет умирать в больнице и остается дома наедине со смертью и свободой от виденья умирания других. Такое мужество казалось мне жалким. Мне еще не пришлось понять того, что какими счастливыми не были бы наши обьятья в этой жизни нам приходится умирать самим в обьятиях самого себя и какими будут эти обьятия полными страха или благости зависит от нас самих а не от тех кого мы любили или ненавидели, кто вкладывал нам в руки дары душевной теплоты или вражды и не от женщины лежащей рядом обьятой сном и которую я так любил. Ночник становился бездарностью лампочкой накрытой абажуром и запеленаной в черный шелк. Его бесталанность компенсировалась первым поцедуем который она дарила мне в тот день. – Тебе лучше? спрашивала она сбрасывая на пол халат являя для меня зрелище своей обнаженности которую она не позволяла постигнуть до конца. Потом с лукавым видом перехватывая мой напряженный взгляд она ласково восклицала%-Львенок! и наклонялась к лежащему преподнося нав своих руках священные дары юных грудей. Какой близкой казалась она мне в те минуты когда играя своим алым соском с моими губами она взьерошивала мне волосы нетерпеливо искала мои руки что бы сжать ихз в своих покраснев от напряжения. Отрываясь от ее груди я захлебывался в рыданиях полный печального опыта недолговечности этих невиных ласок. Я искал слов что бы со всей верностью передать ей мою печаль, что бы они обладали той непереходящей силой появляясь в ее сердце всякий раз как незримый кодекс нашей истории прерывая ее начинания причинить мне муку. Лишь только детство обладает способностью не уметь предвосхитить конец истории или события оно живет в нем с замиранием сердца ожидая продолжения не думая! о подвохе. Оно лишенно опыта повторяющихся прекрасных но все же обманов. Не зная ничего оно способно отдаться радости так полно как никогда потом. Слушая как плещется вода в ванной смывая остатки сна с тела моей любимой, я думал о Сване я думал о нем еще с вечера предыдущего дня. Милый аид Шарль разглядывая витражи Шартрского собора вспоминая лицо жены дочери Иофора мог вспомнить маску лица женщины поверженной мужчиной которым был он. Ведь не смотря на его любовь эта маска была такой же когда женщину с картин Боттичели повергал Форшвили или другой ее любовник и зная это Сван знал почти все. Все это огромное количество мужчин уносимое временем в сторону старости и увядания среди верениц воспоминаний уносили образ этой маски и среди этих мужчин был Сван. Подобно тому как мы все бредущие к смерти несем воспоминание о рассвете или буре, вкусе молока или сигареты так и сейчас энное количество мужчин в поверженной в осень Франции несли воспоминание о лице женщины к которой стремились когда то влекомые то ли скукой то ли желанием или страстью, женщины читавшей мне сегодня ночью сказку рильке и попровлявшей компресс на мое! м лбу и имя им было Легион. Меня среди них не было, как оставшийся в живых на поле брани избежавший участи однополчан ничего не может сказать о смерти в бою. так и я ничего не знал о лице женщины поверженной желанием и страстью. Она возвращалась и волосы ее были мокры когда на них таял снег в день нашего знакомства. Я был склонен к истерике как собака Павлова к выделению слюны при виде зажегшейся лампочки так же как она зная что за этим должен последовать вожделенный кусок мяса. Так и я знал что за моей истерикой последует утешение. Ведь тогда любимая замирала на долгие минуты полуобняв меня, прижав губы к моему лбу. Истерика была Сезамом выпускающим наружу запасы ее нежности или жалости.. Как больной истерзанный болью не гнушается морфия зная что может стать наркаманом, так и я теряя способность ко всякой избирательности уже не думал о любви и о том что жалость ее унизительна и безлика потому что имеет туже природу что ее сострадание к больным в Шарантоне ощущавшим как ядро их личности разрушается шизофренией.. Я Давидье из Нанси тридцатилетний мужчина призывал все заросли терна. Я мечтал почувствовать вкус своей крови как католик мечтает о лучшем мире после жизни. Я обыскивал пристани в поисках лодки что бы плыть на ней по юдоли слез. Моя любовь не была блажью, как не может быть праздным желание веруещего преклоняющего колени в темноте нефа услышать бога. Только в юности можно было выбирать меджу тем что бы быть серьезным или жалким. Жалким от желания спастись не от мучительного, что несет с собою всякое чувство а в сторону вечной жизни прильнув к... Она так долго сидела прильнув к моему лбу, что за это время я успевал вспомнить свое первое посещение морга в Монпелье. На столе лежал манекен бывший до этого пожилой женщиной , желтый как подкрашенный папье маше опрокинутая лопатками на огромный деревянный брус с вывернутыми ребрами и лежащими рядом под струями воды сердцем печенью маткой. Желтые груди свисали как ворот растегнутого комбинезона. Я оглядывался потрясенный свиданием с будущим , ищя защиты у живых делившими со мной дерево кафедры. Онибыли бледны они казались мне ангелами в своих белых накрахмаленных халатах Ангельская бледность обьяснялась тусклым светом хмурого дня и запахом формалина. Они были бледны и неподвижны они улыбались. Эти молохи скуки своей неподвижностью оскверняя всякое радостное единоборство со смертью. Сквозь эту белизну я заметил признаки движения. ТО была девушка призывавшая меня к себе ведь у меня был платок пропитанный духами. Устремившись к ней спасенный я протянул ей его. Протестующе замахав руками она призывала меня дышать вместе с ней. Оба бледные и испуганные мы прижимали к лицам кусок ткани пахнущий шанелью, наши щеки соприкасались не вызывая неприятия. ее волосы застилали мои глаза и манекен казался не таким уж страшным видимый сквозь живую изгородь девичьих волос. Еще я успевал наполниться решимостью прочитать ей отрывки из своих записок. Мне казалось что моя искренность и сила слов заставят ее полюбить меня всем сердцем и почувствовать меня неотьемлемой частью себя. Она отрывалась от меня и я доставал папку из бюро у кровати и начинал читать. Поджав ноги так что колени касались подбородка она внимательно слушала: В каждом году случался день когда я пробуждался от возгласов матери или отца. Пробуждался для того что бы быть застигнутым в расплох своими близкими становившимися для меня тогда бесконечно чужими людьми. По собственной же вине выглянув в окно и воскликнув: Смотрите выпал снег!. Тогда подобно сезонам разлива Нила , сезонов разделявших родственые семьи живущие по разным берегам это восклицание вызывало во мне разлив моей грусти отделявший меня от моих близких на весь день который продолжался до глубокой ночи когда я наконец уставший от своей томительной грусти возвращался к родным попросив мать приготовить мне столь поздний ужин. В те дни я становился таинственым для самого себя. Я с Замершим сердцем начинал ожидать первые приметы зрелости заключавшиеся в том как однажды мне придется проснуться одному раздвинуть портьеры и воскликнуть для самого себя: Выпал снег! и быть застигнутым в расплох и тут же быть разлученым с собой разливом грусти. Смотря на другой берег угадывать в темном мерцании пятен самого себя в разлуке. Тогда же я конечно же еще не догадывался о том что приговорен мне грезился день когда я буду разбужен восклицанием любимой: Смотри мой милый снег! Мне казалось что именно тогда я не буду застигнут в расплох. Ведь все предыдущие отношения с любимой будут являть предысторию этого дня который явится как искупление всех безотрадных пробуждений детства в день когда выпадал первый снег. И ведь потом грусть не будет подобна разделяющему потоку а примет вид шатра, что бы принять нас в нем умиленных своею новою обителью. Ведь тогда я не задавался вопросом почему разбуженный матерью я был разлучен с нею потоком. я нен спрашивал себя почему восклицание моей матери не творило шатра, хотя в моих мечтах должно было сотворить от возгласа любимой. Это случалось лишь потому что снег был причиной моей грусти заключавшей в себе нетерпение и предвосхищение отрочества и новых ласк которыми(я так считал тогда)непременно будет одаривать меня жизнь потому что щедра и не считает меня бастардом и эта ее щедрость будет распостраняться и на то что бы сотворить снег который заставит ласково разбудить меня мою любимую. Чудо сотворения шатра не случилось еще и потому что с определенного возраста я начал ощущать что вещи вызывавшее во мне раньше умиление или радостное удивление от сознания своей чистоты, подобно вестнику об исчезающих или исчезнувших животных издаваемому экологической организацией поражавший цифрами уменьшающихся с каждым днем особей вида и популяцией. я обнаруживал в себе отсутсвие всего чем было заполнено мое детство и юность. Эти симптомы были не следствием столдкновения с пресловутой изнанкой жизни или превратностями судьбы. Просто напросто я попал под неумолимый закон имевшей скорее отношение к физиоологии чем к метафизике. Закон того что я был живым вчера больше чем сегодня и буду меньше жив завтра чем вчера.. Приметы этого странного увядания были разбросаны везде по всем дням ночам временам года. Умилявшая меня в юности фраза из Томаса Харди? "Кто то мог придти что бы успокоить мальчика но никто не пришел потому что так никто не делает"ныне потеряла для меня свое полное соленной влаги содержание ведь я знал теперь наверняка, что действительно никто не придет, а даже если придет успокаивать будет некого потому что того мальчика давно нет. Все же в конце ноября случился день когда я проснулся от запаха идущего снега и подобно кошке разбуженной запахом готовящегося на кухне жаркого и юбегущая на кухню в надежде полакомится и наталкивается на запертую дверь. Я разбуженный запахом падающего снега размежил веки в надежде полакомиться уютом обещанным мне временем года. Я обнаружил любимую в кресле придвинутом к окну она сидела в нем поджав ноги с чашкой дымящегося кофе между ладоней. Она уже лакомилась не покупаясь ни на какие посулы. Снег ей ничего не обещал. Он просто шел и она брала его и отдавалась ему с благодарностью являвшую собой ее способность окружать себя кайфом в который она могла в любую минуту закутаться как в шаль он не требовал каких то особых средств для его достижения и следовательно она не могла разделить его со мной ожидая обещанных даров просто потому что их уже вкушала. Заметив что я уже не сплю она улыбнувшись сообщила что сегодня чудесный денек и что она собирается проседеть весь день в кресле смотря в окно попивать кофеек и если я никуда не спешу то могу присоедениться к ней и наблюдать первый снег затем она вспомнила Мелвилла с его ветром Евроклидон который приятно наблюдать с места находящегося вне пределов его досягаемости. Вся ее речь показалась мне насмешкой каковой на самом деле не было. Нам свойственно наделять людей язвительной проницательностью которой у них на самом деле нет и поэтому я принявший ее не имевшие злого умысла или колкости изьявление радости как бравирование даром которого у меня нет исчез на весь день предоставив ей в одиночку наслаждаться чудом первого снега. Наблюдая за спешащими по своим делам женщинам со стойки кафе в пассаже на набережной Дофинов я думал что ни с одной из них меня не связывает тайна зачатия заключающяяся в том, что все эти мужчины и женщины независимо от прежних или будущих своих чувств бросили как вызов семя своего восхищения или жалости и быть может даже ненависти и от того оно стало менне призрачным как и всякое проявление душевной субстанции. оно было еще одним доказательством(в котором они быть может и не нуждались) реальности этого мира и потом я вновь подумал о Сване который оставил после себя изящные этюды о Вермеере Делфтском и этюд любви ждущей своего окончания каковым являлась его дочь Жильберта и еще я подумал о привелегии партаногенеза которой обладали настоящие поэты. За угловым столиком сидел юный араб обставленный легионом чашек черного кофе. Похожий на золотого японского карпа в переливающимся оттенками костюме от Армани с золотой цепочкой инкрустирующей волосатую грудь и выглядывающим из под манжета рубашки золотым ролексом с каждой чашкой кофе приближающийся к самадхе. Я молча подсел к его столику. Он поднял на меня исполненный суфизма взгляд и ничего не сказал. лишь щелчком пальца выбил из лежащей на столе пачке "Шумер"сигарету и закурил приближаясь с каждой затяжкой к нирване, что бы стать буддой или Брахманом олицитворением вселенского равнодушия или вселенской нежности текучей и изящной как даоский коан . А может мое появление было сигналом к тому что бы сбросить оковы нравственного императива Махаяны и стать Бодхисатвой стать самим собой ведь уже после следующей затяжки мир погрузится в первозданный океан сатори и наступит сладость бесконечная и неиссякаемая как текст Махабхараты. Он протянул мне дымящююся сигарету и представился. Его простое как рваздавленный каблуком скорпион имя Али сраслось с ощущением вкуса сигареты напоминавшей вкус карамели с начинкой из афганской анаши. Всякое начинание сладостно нечаянно вырывая нас из того что хуже всякой нищеты и неприкаянности. Преломление кайфа с Али случилось как начинанье выбросившее меня из обыденности благодаря которому теплое как шершавый язык Мерлина желание перестало щекотать мне подмышки и сбежав на мгновение из мира эмоциональной анархии дало мне на растоянии посмотреть на растоянии без примеси пристрастности или индульгирование предмет своего страдания. Так выдающиеся клиницисты заражают себя мало известными науке вирусами что бы потом наблюдать за его поведением в вытяжке своей крови помещенной в предметное стекло микроскопа. Вооружившись безразличием подаренным мне растением выросшим под жестоким солнцем Курдистана отбросив в сторону медицинское арго я стал пользоваться образами Бориса Виана представив себя в качестве городской достопримечательности. Русские или американские туристы вступив на бульвар Эдгара Кине услышат замечание гида: А сейчас господа вы можете посмотреть атмосферу тоски Жюльена Давидье. Тогда респектабельный янки спрсит ее отчего же тосковал этот Давидье? от внутренего опыты эскурсовода будет зависеть ответ: Тосковал от того что она ему не дала. или: Или тосковал от того что в который раз случилось то о чем говорил Шекспир. – А о чем он говорил? – Кто любит тот любим! ответит возможно она. Оторвавшись от фантазий я взглянул на сокайфеника. Юный али пребывал в мусульманской прострации. По закону противоречия я впал в иудейскую. Мне казалось что я занимаюсь любовью со старым отцовским ундервудом и тот стонет от наслаждения призывно передвигая каретку и щелкая клавишами. Из его жерла вылетают листы с отпечатками моей крови рядом стоит араб в тюрбане исписанном изречениями ларошфуко и как переворачивающий страницы нот перед пианистом на концерте подкручивает катушку красящей ленты все время повторяя – Подкрутить еще господин Сван? я слышу за спиной скандирующий голос моей любимой: ДА! ДА! мне начинает казаться что ее возгласы обращенны ко мне и исполненый желания как автопортрет рембранта с саскией исполнен торжествующей нежности. Устремившись к ней я слышу раздраженную отповедь – Соломон не мешай мне читать манифест дадаизма. не обращая на меня внимания она продолжает: Да! Да время отдаваться и время отталкивать, время ласкать и время отказывать в ласке, время просы! паться одной и время просыпаться с кем то, время для Лафонтена и время для Сен Жон Перса.. Прерывая ее входит гайдук с палицей в форме шестиконечной звезды и докладывает о том что пришел господин Миллер как и было обговоренно до этого с госпожей: Брать ее господином Миллером между четырьмя часами по полудни и половине пятого того же дня... обрывая его в комнату врывается восьмидесятилетний Генри Миллер и приветствует меня: Шолом Иегуда бен Галеви! и как бы оправдывая свое вторжение продолжает с плотоядной улыбкой "Ведь главное быть спонтанным не правда ли Иегуда? сейчас я вопьюсь в секель твоей любимой и буду сплевывать афоризмами похлеще Спинозы! ей это нравится а ты этого не умеешь. Исчезнувший араб возвращается в мундире Кирасира держа за руку Анаис Нин она прижимает мою ладонь к своей щеке и шепчет: Марсель зачем тебе быть шпионом в доме траха. Позволь мне стать шпионкой в доме твоей любви! ведь я знаю о нежности столько сколько знаешь ты. – Шантрапа, еврейское кодло! кричит араб и закуривает сигару. я ложусь рядом с Миллером на фаллосе которого примостилась моя любимая и шепчу ему на ухо: – Генри насрать мне на то что вы с ней делаете лучше расскажите мне что вы имели ввиду сказав что гои страдают без неврозов а для еврея мир как клетка с дикими зверями? – Заткнитесь отвечает он-вы мешаете мне кончить. И вообще то я ожидал от вас верлибра а не дурацких вопросов. ну ну держите член пистолетом. Я начинаю плакать. Он сбрасывает с себя женщину , одевает белые кальсоны и склоняется надо мной теребя старческими пальцами мои волосы и ласково шепчет: Где же тот маленький глупый мальчик окруженный нелепыми еврейскими женщинами и мужчинами с любовью сжимающих его маленькую руку и ведущих лабиринтами забвения. Пойми же миленький: Жизнь это череда отлучений, сначала от материнской постели в которой было так спокойно спать, потом из постели юноши казавшейся ему невыносимой из за неделимости с кем то. теперь ты отлучен от постели женщины любимой тобой, через некоторое время нынешнее отлучение покажется тебе неважным после того как смерть катапультирует тебя из старческой пропахшей мочой и одиночеством кровати. Он целует меня в лоб мне умиленному видется братство "Отлученных от постелей"гайдук и кирасир укладывают меня в глубокий гроб с литыми бронзовыми ручками и выносят на улицу. Голубое небо Парижа ласково смотрит на меня, поет Морис Шевалье: Париж ты в сердце моем. Пусть уйдет женщина наши узы нерасторжимы. Я встречу ее когда нибудь и скажу что люблю другую и имя ей Лютеция.. " Как нельзя обвинить в бестактности внезапный порыв ветра срывающий с нашей головы шляпу или ломающий букет цветов скрашивающий нам ожидание ведь ему не дано догадываться о нашем настроении или чаяньях. Так в ранней юности порыву ветра уподоблялась моя мать входя в ванную комнату с растроенной защелкой нарушая мои титанические услия создать из вербеной пены подобие женского силуэтаи обьятий ищущих моей благосклонности. Сейчас же порыву ветра пришлось уподобится гарсону слегка тронувшего меня за плечо и оборвавшего нить моих видений. Юный Али доедал яичницу с ветчиной. наступавшие сумерки веселящим газом проникали сквозь створки дверей и оконных рам размывая силуеты других столиков нежным как прикосновение ластика стирая черты ужинающего бербера делая его атрибутом ночи и сновидений. Он был дорог мне из за своей вопиющей успокаивающей наглядности. Мир был равнодушен к нему но он не замечал этого и этим воздавал миру той же монетой наплевательского отношения бессознательно в этом инстинктивном отношении становясь ему ровней. устанавливая ту степень субординации когда мир не может иметь по отношению к нему никаких посягательств кроме права биологического увядания. Он заражал меня своим безразличием как заражает Лоуренс Оливье в роли Ричарда 111 изысканной брутальностью юродствующим красноречием стирающим монументальную тоску Глостера по собственному уродству. Как юный киноман перенимает жесты киногероев я старательно перенимал внутренее состояние али: иманентную мавританскую скуку, отсутствие любопытства, эту животную грацию общения с женщиной не омрачаемую приступами нежности и его воспитанную морем изысканную вероломность в отношении всего неиспробованного. Я вышел на улицу с привкусом пафоса во рту. Снег закончился. Как после долгой бессоницы очутившись среди людей мы начинаем чувствовать покалывающюю двуликость, тревожную криптограмму ощущений вызванных переутомлением и исчезающих после того как мы выспимся измотанный своей отверженностью я начинал мистифицировать идущих мимо людей. Они казались мне разворачиваемыми парижским вечером свитками эпосов, аристократами желания прошедшими Эколь Нормальалфавита прикосновений, асторономии оьбьятий, алхимию шепота и вскрика глядящие на меня с умилением покрытому тысячью аргусовых глаз печали. Ощутив сильную тяжесть ниже пояса я упал подобно рыцарю чувствующему бедром истому не пролившего крови меча я нес как гидроцефал яйцо головы пламенную язву с растущим из сердцевины толедским клинком и комья взметнувшегося снега тешили холодом мой пах... " я закончил чтение и посмотрел на нее. По лицу любимой текли слезы. Слезы от прочтения истории одного ноябрьского дня растворяли в ней живущую Саломею. Это не говорило о том что она была зла. Обряд казни рыданием обнаруживал в ней природу роковой женщины несущеей как кассандра свои пророчества сама того не желая боль и сердечную смуту. в просветленности своей корящюю себя за неспособность любить того кто любит ее и любить тех кто не будет любить ее. Чувственный акт очищал ее и она благодарила меня той нестерпимой благодарностью как мудрого старика отвратившего ее от дурного влияния и открывшему ей путь к лучшей жизни в которой она постарается быть счастливой и помнить его уроки при выборе книг и возлюбленных оценивая их одной меркой: Понравились ли бы они мне или нет.?