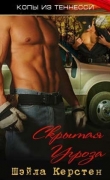Текст книги "Целитель"
Автор книги: Жозеф Кессель
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Керстен закончил читать, но продолжал держать бумаги. Руки тряслись, он не мог унять дрожь.
Вырисовывалась чудовищная картина.
Оторванные от родных берегов западного моря миллионы людей, движущиеся к ледяным землям на восток. Им предстоит пересечь всю Европу под ударами палок и прикладов надсмотрщиков. Они бредут нескончаемыми колоннами по бесконечным дорогам – голодные, оборванные, мокрые от дождя, терзаемые ветром.
Временами из представившейся Керстену кошмарной картины этого исхода всплывали лица самых дорогих его друзей. Ему виделись женщины, дети, старики, набитые в трюмы, где было нечем дышать, или загнанные в товарные вагоны, мучимые жаждой, задыхающиеся от недостатка воздуха и вони собственных испражнений…
Керстен уронил бумаги на стол, вытащил из кармана записную книжку, вырвал из нее страницу и на этом клочке бумаги дрожащей рукой, обычно такой сильной и ловкой, записал краткое содержание жуткого документа.
Был вечер 1 марта. Всего через несколько недель Гиммлер преподнесет Гитлеру подарок на день рождения.
Керстен засунул бумаги обратно в конверт, положил конверт в ту же стопку, из которой его вынули. Брандт повернулся и встретился взглядом с доктором.
– Вы считаете, что это хорошее решение? – спросил Керстен.
– Это отвратительно – арестовать и отправить в рабство целый народ, – отозвался Брандт.
Он закрыл лицо руками, как будто от стыда, что должен участвовать в этом чудовищном деле. Потом он пробормотал голосом, полным одновременно и отвращения к себе, и страха перед наказанием:
– Запомните, дорогой Керстен, – никогда и никому не говорите, что я давал вам читать эти бумаги.
4
Его большая и удобная машина, которая ему так нравилась, шофер, который работал у него уже пятнадцать лет и стал ему другом, его квартира, в которую он возвращался с радостью, каждая комната, привычные картины, книги, мебель, даже Элизабет Любен – его верная подруга в дни веселья и горестей, его наперсница и опора, – в этот вечер у Керстена было чувство, что он не узнает и не любит никого и ничего.
Он переходил из одной комнаты в другую, отсутствующий и отупевший. В голове у него как будто тикали часы. С каждым ударом ему слышалось:
Депортация, Голландия,
Голландия, депортация…
Как только он вошел в дом, Элизабет Любен сразу поняла, что надвигающаяся катастрофа была гораздо хуже, чем можно было предположить. Она попыталась заставить Керстена говорить. Но за весь вечер он не произнес ни слова.
Так любивший поесть, он не мог проглотить ни крошки. Так любивший поспать, он не сомкнул глаз ни на минуту. Элизабет провела всю ночь у его изголовья.
Распростертый на кровати Керстен дышал неровно и со свистом, в голове у него раздавался скрип часов:
Депортация, Голландия,
Голландия, депортация…
Он задыхался, ему казалось, что он на грани безумия.
Наконец, когда настало утро, он почувствовал, что у него внутри сломалась какая-то пружина и ему в одиночку больше не вынести давивший его груз. Он показал Элизабет Любен клочок бумаги, где нацарапал самые важные строчки из досье, которое ему дал почитать Брандт. То ходя взад и вперед по комнате, держась руками за вспотевший лоб, то останавливаясь перед Элизабет Любен и глядя на нее ничего не выражающим взглядом, он часами описывал ей неотвязно преследовавшую его картину: бесконечное шествие, гонимое через всю Европу, и в нем – его самые дорогие друзья; они идут спотыкаясь, изнуренные, под ударами хлыста. Он закончил почти со слезами:
– Как, как этому помешать? Как это остановить?
– Попытайся поговорить с Гиммлером, – сказала Элизабет Любен.
– Но это невозможно! – закричал Керстен. – В этом весь ужас положения: я не должен знать, ты понимаешь? Я не могу это знать. Боже сохрани, если он заподозрит, что я в курсе дела. Я ничего не могу сделать… ничего… Ничего.
Он принялся опять расхаживать по комнате. Элизабет его остановила.
– Послушай, – сказала она. – Сядь в кресло, посиди спокойно и возьми себя в руки. Это надо сделать хотя бы ради тех, кому ты так хочешь помочь.
Обессиленный Керстен подчинился, как ребенок. Элизабет Любен сварила ему крепчайший кофе. Потом она приготовила ему обильный и вкусный завтрак и заставила его все съесть.
Потом она сказала:
– Скоро полдень. Пора одеваться и ехать в канцелярию.
При мысли о том, что надо лечить человека, который должен организовать депортацию и руководить ею, Керстена передернуло от ярости и возмущения.
– Я не поеду! – закричал он. – Что бы ни случилось, я не хочу, я больше не могу иметь дело с этими людьми!
Но старая приятельница Керстена была умна и твердо стояла на своем. Она знала, какие доводы рассудка привести и на какие чувства доктора надавить. Ей удалось найти нужные слова и его уговорить. Единственный шанс, хоть и самый крошечный, спасти тех, кого он так любит, – это оставаться рядом с Гиммлером.
Пока доктор ехал на Принц-Альбрехт-штрассе, он решил хотя бы попытаться совершить невозможное. Но как?
5
И вот Керстен уже в который раз – в кабинете Гиммлера, где он мог бы передвигаться вслепую – так хорошо он знал расположение мебели и предметов. Вот уже в который раз сам рейхсфюрер на своем диване, полуголый, доверчиво отдавший свое тощее тело в распоряжение мощных и умелых рук, сила и власть которых ему была так хорошо известна. Вот и сами руки, совершающие свое обычное чудо. Рейхсфюрер блаженно закрывает глаза, его дыхание успокаивается, становится легким – как будто под воздействием благодетельного наркотика. И Керстен, перед глазами которого – толпы рабов, обреченных на муки, друзей, знакомых и незнакомых, совершающих свое путешествие на краю гибели.
Он не думал об этом заранее, даже не хотел этого, но вдруг его что-то толкнуло изнутри – какое-то вдохновение, не допускающее ни сомнений, ни даже минутной задержки. Он осторожно нажал на нервное сплетение, которое, как он знал, у Гиммлера было наиболее уязвимым и быстрее всего реагировало, и просто спросил своим обычным голосом:
– А когда точно вы собираетесь депортировать голландцев?
Его руки теперь отдыхали. В нервной системе его пациента приливы шли за отливами, и автоматически, совершенно рефлекторно Гиммлер ответил так же естественно:
– Мы начнем 20 апреля. На день рождения Гитлера. Народ Голландии все время бунтует. Для тех, кто принадлежит к стану предателей, наказание неотвратимо.
Он ответил как под гипнозом. Из-за того ли, что в комнате наступила полная тишина, или из-за того, что его оцепенение рассеялось само собой, он вдруг резко поднялся, приблизил свое лицо к лицу Керстена и очень тихо спросил:
– Откуда вы это знаете?
Темно-серые глаза, прячущиеся за очками в стальной оправе между монгольскими скулами, впились в лицо Керстена с подозрительностью и ледяной жестокостью. До сих пор Керстен никогда не видел, чтобы Гиммлер так смотрел на него.
– Вчера, когда я вас ждал, я пошел в столовую и взял там кофе с пирожными. Недалеко от меня сидели Гейдрих и Раутер. Они обсуждали депортацию достаточно громко, чтобы я услышал. Мне этот предмет, естественно, интересен, и я решил поговорить с вами.
– Идиоты! – проорал Гиммлер (но в то же время на его лице была написана радость и облегчение от того, что его доктор оказался не виноват). – Они открыто обсуждали совершенно секретное дело, о котором они даже и половины не знают! Я не дал им ни подробностей, ни документов. И эти господа посмели!.. В столовой, где полно народу? Мне очень важно узнать, что они настолько болтливы. Спасибо, что сказали мне об этом.
Гиммлер упал обратно на диван. Руки Керстена опять взялись за работу. Ему казалось, что в них вдохнули новую жизнь.
Он только что пережил минуту смертельной опасности: Гиммлер примирился с тем, что его доктор узнал государственную тайну и даже говорит об этом. Это был огромный успех. Он давал Керстену возможность, хоть и крошечную, попытаться защитить народ Голландии, он давал надежду, хоть и призрачную.
Доктор хорошо понимал, что дело, которое он задумал, почти безумное. Не было ничего общего между одиночными помилованиями, которых ему удавалось добиться как бы случайно и невзначай, и попыткой отменить высочайший указ хозяина Третьего рейха, который уже привел в движение колеса огромной и безжалостной полицейской машины. Но с каждым разом, когда ему удавалось добиться помилования, Керстен все лучше понимал психологию Гиммлера, и это давало ему все больше влияния и власти над человеком, который должен был организовать этот чудовищный исход и который сейчас опять, полуголый, лежал на диване под его руками.
Массивное тело Керстена подвинулось вперед, веки под высоким нахмуренным лбом сомкнулись, обширный живот коснулся дивана, на котором лежал Гиммлер. Сейчас Керстен напоминал булочника, который вымешивает тесто. Он сказал с нажимом и очень серьезно:
– Эта депортация будет самой большой глупостью, которую вы только можете сделать.
– Что вы говорите! – закричал Гиммлер. – Это совершенно необходимо и план фюрера гениален!
– Тише, рейхсфюрер, тише, прошу вас. Иначе я буду вынужден прервать лечение. Вы же знаете, насколько гнев вреден для вашей нервной системы.
– Все-таки такой человек, как вы, ничего не понимает в политике! – продолжал кричать Гиммлер.
– Это правда, политика меня не интересует, и вы это прекрасно знаете, – прервал его Керстен тоном врача, раздраженного тем, что пациент его не слушается. – Меня беспокоит ваше здоровье.
– Ах, вы об этом? – Лицо Гиммлера выразило почти ребяческую благодарность, а в голосе появились нотки раскаяния.
– Я должен был догадаться, – продолжил он. – Вы не знаете, дорогой господин Керстен, насколько меня трогает ваша внимательность! Но я не должен думать о своем здоровье. До самой победы работа превыше всего.
Керстен покачал головой с упрямством человека, уверенного в себе самом.
– Ваши доводы ошибочны. Я забочусь о вашей работе так же, как и о вашем здоровье. Одного без другого не бывает. Вы должны быть способны продержаться до самой победы, если вы хотите и дальше выполнять задачи, которые вам поручены.
Гиммлер хотел что-то сказать, но Керстен его остановил, легонько надавив на одно из нервных сплетений.
– Дайте мне закончить лечение.
Настало время сделать перерыв.
Керстен собрал всю силу убеждения и продолжил:
– Помните ли вы, что несколько дней назад вы просили меня лечить вас вдвое чаще? Кроме ваших обычных обязанностей, которые и так непосильны, Гитлер – вы мне сами это говорили – поручил вам дело, которое одно само по себе способно уничтожить человека: вы должны до начала лета довести численность СС до миллиона, хотя сейчас их едва наберется сто тысяч. Это значит за три месяца отобрать, одеть, вооружить, обучить, возглавить девятьсот тысяч солдат. Вы забыли об этом?
– Как я могу забыть! – воскликнул Гиммлер. – Это моя главная обязанность.
– И вы хотите, – в свою очередь воскликнул Керстен, – прибавить к этой огромной работе еще и депортацию голландцев?
– Я должен, – твердо сказал Гиммлер. – Это личный приказ фюрера.
– Так вот, – ответил Керстен, – я вас предупреждаю, что я не способен дать вам достаточно сил для исполнения этих двух задач одновременно.
– А я верю, что смогу это сделать, – возразил Гиммлер.
– И напрасно, – очень серьезно, почти торжественно сказал Керстен. – Силы сопротивления организма имеют предел, и даже я не смогу больше ничего сделать, если этот предел превышен.
– Но я должен, должен выполнить этот план! – пронзительно завопил Гиммлер.
Потом, наполовину приподнявшись, он заговорил со все возрастающим возбуждением, как будто хотел заставить себя забыть предупреждения Керстена:
– Послушайте, только послушайте, как это великолепно! Мы взяли Польшу, но поляки нас ненавидят. Нам нужна там германская кровь. Она есть у голландцев, это бесспорно, несмотря на их предательство. В Польше они изменят отношение к нам. Поляки будут считать их врагами, ведь мы отдадим голландцам их земли. Так, затерянные среди славян и под гнетом их ненависти, они будут вынуждены проявить верность нам, своим защитникам. И таким образом, на востоке Европы мы будем иметь германское население, в силу обстоятельств ставшее нашим союзником. А в Голландию мы пошлем молодых немецких крестьян. И англичане лишатся лучшего места для высадки. Согласитесь, что только фюрер мог найти такое прекрасное решение. Гениально, правда?
Сердце Керстена заколотилось сильнее. Этот план был совершенен. В нем была жуткая в своей безупречности логика сумасшедшего.
– Возможно, – сухо сказал он. – Я думаю только о вашем здоровье. Надо выбирать между двумя поручениями.
Время перерыва истекло. Пальцы Керстена опять принялись разминать поврежденные нервные сплетения в теле Гиммлера.
– Я прошу вас, – сказал Керстен, – ответить мне без недомолвок, как больной – врачу. Какой из двух полученных вами приказов более срочный и важный? Увеличить численность СС до миллиона или депортировать голландцев?
– СС, без всякого сомнения, – ответил Гиммлер.
– Итак, ради вашего здоровья депортацию голландцев необходимо отложить до победы. Что здесь такого? Вы же сами мне говорили, что выиграете войну через полгода?
– Невозможно, – покачал головой Гиммлер. – Дело не терпит отлагательств. Гитлер этого очень хочет.
Сеанс массажа закончился. Гиммлер встал и оделся. Теперь он опять был неуязвим. Но Керстен с самого начала не надеялся победить его одним ударом. Самым главным было то, что разговор начался совершенно естественно и в той единственной области, которую Керстен мог обсуждать абсолютно свободно и не вызывая подозрений. Все еще могло измениться.
Но вдруг доктор заволновался. Если каким-то чудом Гиммлер откажется депортировать голландцев, не поручит ли Гитлер это, например, Гейдриху или кому-то из генералов или других высоких чинов, на которых у Керстена нет никакого влияния?
Прощаясь с рейхсфюрером, он заботливо спросил:
– Осуществить депортацию можете только вы? Почему бы не найти кого-то другого?
Гиммлер ударил ладонью по столу и закричал:
– Миссию такого масштаба и такой важности Гитлер доверит только мне! Никто не может у меня это отнять. Я не позволю!
Непомерное тщеславие, написанное на лице рейхсфюрера, успокоило доктора. Если Гиммлеру придется отказаться от выполнения этого кошмарного поручения, он скорее убьет соперника, чем позволит себя заменить.
Когда Керстен вернулся домой, то он ничем не напоминал того сломленного и убитого горем человека, который вышел из этого дома всего часом раньше.
– Я разделаюсь с Гиммлером, я с ним разделаюсь! – сказал он Элизабет Любен и потер руки – не от радости, а как будто отчищая до блеска оружие после долгого боя. – У меня еще есть время.
Теперь ему казалось, что той отсрочки, которую он еще вчера вечером считал ничтожной, более чем достаточно.
6
Надежда Керстена на успех своей миссии была так же сильна, как то отчаяние, которое он испытал, узнав о планируемой депортации. Но надеялся он недолго. Гиммлер не поддавался.
Доктор использовал все имеющиеся в его распоряжении средства, которые до этого так хорошо действовали, пытался применить их в самые благоприятные моменты – он льстил, дружески уговаривал, грозил рейхсфюреру тяжелыми последствиями для его здоровья, призывал признать, что тот болен. Все было бесполезно. «Депортация начнется в назначенный день», – повторял Гиммлер.
На этот раз воздействию Керстена на Гиммлера противостоял гораздо более сильный противник – его верховный хозяин, его божество, сам Гитлер.
Керстен почти физически чувствовал его присутствие рядом со своим пациентом. Это сводило на нет все его усилия. Каждое утро день за днем он вновь и вновь убеждал, предупреждал, умолял. Тщетно. У него создалось впечатление, что он сражается, и не с Гиммлером, а с той тенью, что его накрывала.
Приближался конец марта. Шагреневая кожа времени сжималась с ужасающей быстротой. Керстен понимал, что пружины и колеса адской машины, которая должна оторвать голландцев от их родины и швырнуть на этот страшный путь, уже установлены. Скоро она будет готова. И все будет кончено.
Но потом произошло нечто странное. В первый раз за долгие годы лечение Керстена на Гиммлера не подействовало. Чудодейственные руки, имевшие полную власть над его мучениями, вдруг оказались не способны не то что вылечить, но даже облегчить его состояние.
Было ли это сознательное решение Керстена? Или, как он уверял, постоянная тревога и неотступно преследовавшее его наваждение расстроило его собственные нервы до такой степени, что парализовало его дар и лечение перестало действовать? Как бы то ни было, руки Керстена отказывались лечить Гиммлера.
И поскольку реорганизация ваффен-СС и подготовка к депортации голландцев требовали от Гиммлера невероятных и все нарастающих усилий, он тут же почувствовал себя плохо. День ото дня боли терзали его все больше и больше.
Каждое утро, все более восковой, со все более выступающими монгольскими скулами, мокрый от пота, он растягивался на диване и с жадной надеждой поручал пальцам Керстена свою истерзанную плоть. Он столько раз получал от них облегчение, что теперь не мог поверить, что они вдруг лишились своего волшебного дара. Раздражение и нетерпеливое ожидание только усиливали его мучения. Руки Керстена двигались так же, как и раньше, так же и в тех же местах надавливали и выкручивали. Нервы Гиммлера корчились все больше и больше, призывая чудо. Оно случится, оно придет. Скрюченное страданиями жалкое тело молило, выпрашивало – напрасно. Руки доктора больше не были милосердными.
– Я предупреждал вас, – говорил Керстен. – Вы не можете руководить одновременно двумя такими трудными задачами: в десять раз увеличить количество войск СС и организовать депортацию целого народа. Это слишком суровое испытание для вашей нервной системы. Она мне больше не подчиняется. Откажитесь от менее важного дела – и я вас вылечу.
– Невозможно, – почти плакал Гиммлер, – это приказ, приказ моего фюрера.
Секунду спустя он умолял:
– Попробуйте, попробуйте еще раз…
– Я бы очень хотел, – отвечал Керстен. – Но я чувствую, что это бесполезно.
И это было бесполезно.
7
В первые дни апреля 1941 года немецкие войска накинулись на Югославию[38]. Огромное превосходство в численности, вооружении и стратегии обеспечило вермахту новый триумф блицкрига. Гитлер, желая присутствовать при захвате добычи, устроил свою Ставку на границе Австрии и завоеванной страны.
Как обычно, Гиммлер следовал за ним. Его специальный поезд остановился в Брукк-ан-дер-Мур, там же, на границе.
Отъезд потребовал от Гиммлера невероятных физических усилий. Путешествие его доконало.
В Брукке он вставал со своего дивана только для того, чтобы ездить к Гитлеру, Ставка которого находилась в двадцати километрах.
Керстен практически поселился в купе рейхсфюрера. Его вызывали туда по много раз на дню.
– Сделайте что-нибудь, я больше не могу! – кричал Гиммлер.
– Но я с утра уже несколько раз пытался вас лечить, – отвечал Керстен. – Никакого результата. И от этого толку не будет.
– Попробуйте, все равно попробуйте, мне очень плохо.
Керстен пробовал еще и еще раз, безуспешно.
Каждый сеанс – а их было по десять в день – вел к новой борьбе, новым спорам все о том же.
За окнами стоявшего поезда, по ту сторону запасных путей, на холмах и в лесах наступала весна, но ни Гиммлер, ни Керстен, полностью поглощенные своими мучениями разной природы, но одинаковой силы, ее не замечали.
– Вы с ума сошли, рейхсфюрер, – повторял, повторял, повторял Керстен. – Вы же видите, до какого состояния вы дошли. Вы же видите, что не можете делать все одновременно. Отложите депортацию до конца войны, и я вам обещаю, что мое лечение подействует так же, как оно действовало раньше.
По обтянутому кожей восковому лицу Гиммлера, скрюченного и почти уничтоженного страданиями, ручьями тек холодный пот, смешиваясь со слезами боли, которые он был не в состоянии сдержать.
Но он сопротивлялся, сопротивлялся.
– Я не могу, это приказ фюрера.
– Я не могу, фюрер доверяет только мне.
– Я не могу, я всем обязан фюреру.
До начала депортации оставалась всего неделя.
Если Керстен все еще продолжал бороться, то делал это только из чувства долга и потому, что не мог иначе. Надежды больше не было. Он знал, что никаких органических поражений у Гиммлера нет, он черпает силы в страхе и преклонении перед Гитлером и может прямо из своего купе организовать и осуществить этот чудовищный исход, если у него будет достаточно сил вытерпеть страдания.
Тем временем Гиммлер стал чувствовать себя так плохо, что больше не мог лежать на узком и жестком диване в купе. Он переселился в маленькую гостиницу неподалеку. Керстен, естественно, переехал туда же.
В два часа ночи, когда доктор уже спал, в его номере зазвонил телефон.
Обычно, когда Керстен просыпался, его сознание с первой же минуты было четким и ясным. Но теперь он едва смог узнать голос Гиммлера. Было слышно почти только прерывистое дыхание и всхлипы.
– Приходите скорее, дорогой Керстен, я не могу дышать.
Керстен, хотя и привык видеть страдания Гиммлера, был потрясен силой его мучений. Гиммлер отбросил одеяла и простыни, будучи не в силах вынести их прикосновение. Он лежал на кровати, голый, неподвижный, судорожно напряженный, как будто распятый. Он задыхался:
– Помогите мне, помогите!
В эту минуту Керстен не думал о том, что пытка, которую испытывает Гиммлер, могла быть одной из форм правосудия и что человек, одобривший, приказавший, организовавший столько казней, полностью ее заслужил. Для доктора Гиммлер был пациентом, которого он лечил уже два года, и столь сильно было у Керстена сознание профессионального долга, что оно обязывало его облегчить состояние больного как можно быстрее. Кроме того, проведя столько времени рядом с Гиммлером, умело пользуясь его слабостями, изучив все его реакции и рефлексы, в силу привычки он видел в нем не только полицейского и палача, но и живое существо.
При виде этого сведенного судорогой тела Керстен ощутил всю силу врачебного долга и простой жалости к человеку, страдающему до такой степени, – кем бы он ни был. Он чувствовал, что готов сдаться. Его руки сами потянулись к телу Гиммлера.
Но потом сразу опустились. Отступившая было на минуту, Керстена вновь захватила мысль о необходимости спасти целый народ от самой ужасной участи в его истории.
И доктор понял, что, несмотря на чувство долга, которое толкало его спасать Гиммлера, и на жалость, которую к нему испытывал, он не сможет его лечить – настолько его поглощала неотвязная мысль об ужасах неминуемой депортации. Он не мог ничего поделать – это было что-то вроде паралича, сковавшего его изнутри. Но если Гиммлер откажется от этого проклятого проекта – с какой радостью, с какой самоотдачей он избавит его от страданий!
Керстен взял стул, поставил его у изголовья Гиммлера, сел и наклонился к лицу больного. На этот раз он не спорил, не уговаривал, не пытался бороться. Он сказал тихим голосом, ласково, почти умоляюще:
– Рейхсфюрер, я ваш друг. Я хочу вам помочь. Но я вас очень прошу, выслушайте меня. Отложите эту голландскую историю – и вам сразу станет лучше, я вам обещаю, я вам клянусь. Вы не врач, но это поймет и ребенок. Ваши страдания имеют нервную природу. Я могу сделать с вашей нервной системой все, но только не тогда, когда слишком сильное и постоянное беспокойство разъедает ее, как кислота. Для вас эта кислота – преследующие вас проблемы, связанные с голландским делом. Выбросите их из головы, и я смогу вас вылечить, и вам больше не будет плохо. Вспомните, как хорошо на вас действовало лечение раньше, до этого дела. И будет так же, даже если вы просто пойдете к Гитлеру и попросите отложить депортацию до победы.
Гиммлер жадно слушал этот голос, говоривший почти с нежностью, эти слова, которые так просто было понять, и, как загипнотизированный, смотрел на эти ладони и пальцы, которые столько раз дарили ему избавление от адских болей. На его глазах блестели слезы, и стоявший в них образ Гитлера заволакивался дымкой, рассеивался, исчезал.
Гиммлер судорожно схватил руку доктора и простонал:
– Да, дорогой Керстен, я верю, что вы правы. Но что я скажу фюреру? Мне так плохо, что у меня мысли путаются.
Доктору пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы скрыть свою радость.
– Это очень просто, – сказал он безразличным тоном человека, которого совершенно не трогают политические проблемы. – Очень просто. Вы скажете, что не можете заниматься двумя делами одновременно. Расскажите о том, что кораблей не хватает, о забитых дорогах, покажите, насколько этот сверхчеловеческий труд опасен для вашего здоровья, и что если так будет продолжаться, то вы не сможете осуществить вашу главную задачу – реорганизацию войск СС.
– Это так, это правда! – закричал Гиммлер. – Но как же я пойду к фюреру? Мне так плохо, что я даже двигаться не могу.
Керстен спросил чуть охрипшим голосом:
– Вы точно решили? Это так? Точно так? Без этого, я вам повторяю, я ничего не смогу.
– Даю вам слово, слово немецкого генерала, – простонал Гиммлер. – Только дайте мне силы.
Тайная радость Керстена была такой буйной, что он с удивлением для себя подумал: «Будь спокоен, приятель, через полчаса ты прекрасно сможешь туда пойти».
Никогда еще он не был так уверен, что его лечение подействует. Никогда еще он не чувствовал ни такого прилива горячей крови от запястий до самых кончиков пальцев, ни такого воодушевления. И Гиммлер, который считал уже, что обречен на нескончаемые муки, получил наконец из его рук желанное блаженство. Боясь пошевелиться, лишь бы не помешать, он потихоньку начал расслабляться и дышать. Время от времени он бормотал, не веря сам себе:
– Я думаю… Мне кажется, что боль уходит.
Потом он замолчал, как будто раздавленный свалившимся на него счастьем. Керстен работал в тишине. Когда он закончил, Гиммлер медленно поднялся, глубоко вздохнул и воскликнул:
– Мне лучше… У меня ничего не болит!
– Это все только потому, что вы приняли решение поговорить с Гитлером, – отозвался Керстен. – Сделайте это поскорее. Неизвестно, когда спазмы опять начнутся.
– Я пойду, я побегу, – закивал Гиммлер.
Он взял свои вещи, торопливо оделся.
Вдруг в комнате зазвонил телефон.
– Да, это я, – сказал в трубку Гиммлер.
Он молча выслушал, что ему говорили, потом повесил трубку, повернулся к Керстену и произнес:
– Югославская кампания закончена. Гитлер возвращается в Берлин и приказал мне следовать за ним.
Он натянул китель и добавил:
– Собирайте вещи. Наш поезд уже под парами.
Гиммлер опять говорил приказным тоном. И Керстен, который знал, как меняется поведение рейхсфюрера, когда он чувствует себя лучше, и насколько он становится неуязвим, не мог отделаться от мысли: «Я слишком быстро поставил его на ноги. Он придет в себя, забудет свое обещание и вернется к фанатичной решимости в назначенный день оторвать голландцев от Голландии».
Но в эту ночь сама судьба помогала Керстену. В поезде у Гиммлера опять случился сильнейший приступ. И пока специальный поезд мчался в ночной темноте, Керстен должен был еще раз лечить рейхсфюрера. Сеанс был успешным. Однако доктор продолжал массаж до самого прибытия поезда на вокзал в Берлине.
– Вот видите, – сказал доктор своему пациенту, – уже труднее, уже гораздо дольше. В вашем сознании все еще застряла эта история с депортацией. Надо выбросить ее из головы, иначе все начнется заново.
– О, будьте спокойны, дорогой Керстен! Я все понял, – ответил ему Гиммлер.
Он поехал к Гитлеру прямо с вокзала. Через два часа он позвонил Керстену:
– Фюрер столь же великодушен, сколь и гениален. Он посочувствовал моей усталости. Депортация отложена. У меня есть письменный приказ, я вам его покажу.
Пока Керстен слушал это невероятное сообщение, Элизабет Любен была рядом с ним. Он пересказал ей все слово в слово. Потом они долго сидели вместе и молчали.
8
Измученный Керстен уехал отдохнуть в Хартцвальде. Он ничего не рассказал жене о том, что ему пришлось пережить за последние несколько недель. Но он собрал в своем саду букет цветов и поставил его на письменном столе в кабинете перед собственноручно подписанными портретами Вильгельмины, королевы Голландии, и ее мужа, принца Хендрика, которые он хранил, несмотря на лютую ненависть нацистов.
Глава седьмая. Геноцид
1
За все время, пока шел спор о депортации голландцев, в голову Гиммлера ни разу не закрались подозрения, что у доктора есть другие мотивы, кроме врачебного долга и дружеской заботы.
Со своей стороны, Гитлер без малейшего недоверия согласился с теми доводами, которые приводил Гиммлер, – здоровье, слишком много важных задач одновременно, расстановка приоритетов – и поэтому разрешил рейхсфюреру приостановить массовое переселение. И мог ли вообразить Гитлер, что его самый давний, самый верный и самый ревностный последователь подпадет под еще чье-то влияние, кроме его собственного?
Но был один человек, чьи обязанности и свойства характера не предполагали излишней доверчивости. Гейдрих сразу подумал про доктора. Пока он не мог ничего сделать. Он ждал.
2
Среди главных деятелей режима Керстен как постоянный личный врач обслуживал только Гиммлера. Но другие высокопоставленные чиновники тоже обращались к нему за помощью.
Первым был Риббентроп. Министра иностранных дел Третьего рейха Керстен ненавидел за его тщеславность, чванство, наглость и безрассудство, поразительное для человека, занимающего такой пост. Чувства, которые испытывал доктор, нашли отражение в том, что он запросил с Риббентропа такой внушительный гонорар, что тот сам отказался от лечения.
Потом появился Рудольф Гесс[39]. К нему доктор относился совсем по-другому. Психическая неуравновешенность Гесса была очевидной. Но по сравнению с другими сумасшедшими или полусумасшедшими руководителями Третьего рейха, безумие которых было отвратительным и опасным (мания величия, фанатизм, расизм, садистские наклонности), бред Гесса выглядел безобидным и незначительным. Он просто все время находился в состоянии ребяческого восторга. Он обожал романы Жюля Верна и Фенимора Купера про индейцев, живших в американских прериях в XIX веке. Когда он видел на улице девушку, идущую под руку с солдатом, он растроганно всхлипывал: «Какое идеальное слияние чистоты и мужественности!»
Гесс был крайне религиозен и безудержно склонен к мистике. Он очень сокрушался по поводу того, что война несет разрушение и опустошение, поэтому решил, что после войны поселится где-нибудь в глуши и будет вести жизнь аскета. В ожидании этого он мечтал совершить какое-нибудь великое дело (он еще не придумал, какое именно), которое послужит Германии и всему человечеству, войне и миру и навсегда останется в памяти потомков. Говорить об этом он мог без конца. В то же время он очень расстраивался, что, будучи прекрасным летчиком, не может участвовать в боях. Гитлер, который его очень любил и ценил, категорически запретил ему это.