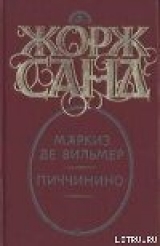
Текст книги "Маркиз де Вильмер"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
VIII
В тот же самый день, когда маркиз писал это послание герцогу, мадемуазель де Сен-Жене сочиняла письмо сестре, где по-своему тоже описывала край, в котором теперь жила.
«Севаль, через Шамбон (Крез),
1 мая 1845
Вот мы и в деревне, сестрица! Это сущий рай. Замок старый, небольшой, но довольно живописный, и все в нем отлично устроено для отдыха. Просторный, немного запущенный парк, разбитый, слава богу, не на английский манер. В нем полно красивых старых деревьев в плюще и вольно растут дикие травы. Прелестное место! Даже при новом разграничении департаментов это Овернь, но совсем близко от бывших пределов Марша, в миле от городка Шамбон, через который пролегает дорога к замку. Городок этот очень удачно расположен. Въезжаешь в него по отлогой горе или, вернее, по склону довольно глубокого оврага, потому что гор здесь, строго говоря, нет. Оставляешь позади плоскогорье, где на тощей сырой земле растут низкорослые деревца и высокий кустарник, и спускаешься в длинное извилистое ущелье, которое местами так расползается в ширину, что кажется долиной. На дне этого ущелья, которое скоро разветвляется, текут настоящие хрустальные реки; они не судоходные и вообще, пожалуй, не реки, а горные потоки, которые быстро несут свои пенистые воды, при этом совершенно безопасные. Мне, привыкшей к нашим широким равнинам и большим рекам в плоских берегах, всюду мерещатся пропасти и горы; маркиза же, видавшая Альпы и Пиренеи, смеется надо мной и говорит, что все это миниатюрно, как ваза на столе. Поэтому, дабы не ввести тебя в заблуждение, я не стану продолжать свое восторженное описание, однако маркизе, довольно равнодушной к природе, не удастся умерить мое восхищение тем, на что я все время смотрю.
Это край листвы и трав, вечнозеленая колыбель, колеблемая ветром. Река, бегущая по оврагу, зовется Вуэзой и, сливаясь в Шамбоне с речкой Тардой, принимает название Шар, которая в первой же долине переименовывается во всем известную Шер. Мне же больше нравится название Шар11
По-французски le char означает «коляска».
[Закрыть] – оно так удивительно подходит этой реке, которая, совсем как коляска на мягких рессорах, катит воды по отлогому склону, и ничто не в силах нарушить их безмятежного течения. Дорога тоже гладкая, песчаная, точно садовая аллея; она окаймлена величавыми буками, а меж их стволами сквозят настоящие луга, напоминающие в это время года пестрые ковры. Как это красиво, дорогая! Не то что наши искусственные газоны, где растет всегда одно и то же, а куртины тянутся правильными рядами. Здесь ноги топчут два, а то и три слоя мягкой земли, поросшей мхом, тростником, ирисами и самыми различными травами и цветами, одни красивее других: тут и водосборы и незабудки – чего только нет! Все, что душе угодно, и все растет безо всякого присмотра, появляясь аа свет каждый год. Землю тут не перепахивают каждые три-четыре года, не ворошат корни растений и не затевают чистку почвы, как того вечно требует наша ленивая земля. Больше того: ее часто вообще не возделывают или возделывают плохо; оттого, видно, на пустошах весело буйствует природа, цветя привольно и дико. То и дело цепляешься за разросшийся терновник и чертополох с такими широкими, жесткими и причудливо вырезанными листьями, что удивительной своей формой и рисунком они напоминают тропические растения.
Проехав долину (я пишу о вчерашнем дне), мы стали подыматься в гору по обрывистей дороге. Было влажно, туманно и красиво. Я попросила позволения выйти иэ экипажа и с пятисот-шестисотфутовой высоты принялась разглядывать зеленый овраг. Внизу, в отдалении, по берегу реки жались друг к другу деревья, а деревенские мельницы и шлюзы наполняли воздух мерным, глухим шумом, и к их гудению примешивались звуки неизвестно откуда взявшейся волынки, которая без конца повторяла наивный мотив. Шедший передо мной крестьянин стал петь, верно вторя мотиву, словно решил помочь деревенскому волынщику довести песенку до конца. Ее слова, лишенные рифмы и смысла, так поразили меня, что я решила тебе их написать:
Скалы мои твердые!
Нет, ни солнцу ясному,
Даже белу месяцу
Вас не растопить.
А полюбит парень,
Горю нет конца.
В этих крестьянских песнях есть неизъяснимое очарование, и музыка, безыскусная как стихи, столь же очаровательна, чаще всего грустная, навевающая грезы. Даже я, которой можно мечтать только урывками, ибо время мое мне не принадлежит, была так поражена этой песенкой, что стала раздумывать, отчего это «даже белу месяцу» не растопить эти скалы; все потому, что и ночью и днем печаль влюбленного парня тяжела, как его скалы.
На самой вершине горы, ощеренной этими твердыми скалами (маркиза сказала, что они не больше песчинок, но я отродясь не видела такого прекрасного песка), мы выехали на тропу, которая была еще уже дороги, и, мигом вставив позади лесистые склоны, подъехали к замку. Отсюда он весь скрыт разросшимися деревьями и кажется не очень величественным, но зато как на ладони виден живописный овраг, который только что миновали.
Снова обводишь глазами его крытые скалистые склоны, поросшие кустарником, речку с деревьями над водой, луга, мельницы, извилистую теснину, где она струится меж берегов, которые становятся все уже и обрывистее. В парке бьет источник, который потом, срываясь со скалы, разбивается на тысячу брызг. В саду полно цветов, на скотном дворе много животных, за которыми мне можно ухаживать. У меня чудесная комната, уединенная, с красивым видом. Самое просторное помещение в замке отведено под библиотеку. Гостиная маркизы своим расположением и обстановкой напоминает парижскую; она только, пожалуй, шире, в ней больше воздуха и легче дышать. Наконец-то мне стало хорошо и спокойно, наконец я ожила! Подымаюсь на рассвете; маркиза, слава богу, встает тут не раньше, чем в Париже, так что, пока она спит, досуг свой я буду проводить самым приятным образом. Собираюсь вволю гулять, писать тебе письма и думать о вас! Как жаль, что здесь нет наших малышей Лили или Шарло – вот бы погуляли вместе, а я заодно познакомила бы их с деревенской жизнью. Привязаться к крестьянским детишкам, которых часто встречаю, никак не удается. Стоит их сравнить с твоими, и я понимаю, что опасных соперников в моем сердце у них не будет. А покамест мне так весело бегать по полям, хоть и грустно думать, что теперь я от вас еще дальше, чем прежде. Когда же мы увидимся?
Да, скалы мои тверды! Но, право, зачем бороться с теми, что встают преградой в жизни таких бедняков, как мы с тобой? Нужно исполнять свой долг и любить маркизу, а это не трудно. С каждым днем она все добрее ко мне, по-матерински балует меня, и я порой забываю о своем положении приживалки. Мы рассчитывали застать в Севале маркиза, который обещал матери приехать. Очевидно, он появится немного погодя. Герцог же, думаю, не преминет предстать перед нами на будущей неделе. Будем надеяться, что в деревне он станет так же обходителен со мной, как недавно был в Париже, и больше не захочет испытывать мое остроумие…
В другой раз Каролина писала сестре о том, как судит маркиза о сельской жизни.
– Дорогое мое дитя, – говорила она мне. – Чтобы любить деревню, нужно бессмысленно любить землю или слепо – природу. Между тупостью и чудачеством середины нет. Вы знаете, что по-настоящему меня занимают только светские дела, а к природе, живущей по незыблемым и непреложным законам, я довольно равнодушна. Эти законы учреждены господом богом, стало быть, они прекрасны и справедливы. Человек может постигать их, восхвалять и даже восторженно описывать, но изменить их он не в силах; они останутся такими, какие есть. Когда вы расточаете восторги цветущей яблоне, я не могу вас за это упрекнуть. Напротив, я считаю, что ваши восторги справедливы, но, право, стоит ли славословить яблоню, которая вас не слышит, цветет не для вашего удовольствия и будет цвести, если вы ничего и не скажете. Не забивайте, когда вы восклицаете: «Как прекрасна весна!», что это все равно как если б вы сказали: «Весна есть весна». Да, да, летом жарко, потому что господь создал солнце, в реке прозрачная вода, потому что она проточная, а проточная она потому, что река бежит по холмистому склону. Это красиво, потому что во всем есть великая гармония, а не будь этой гармонии, ничего бы и не было.
Как видишь, маркиза – натура прозаичная и всегда находит логические оправдания тому, что чего-то не чувствует и не понимает. Этим она похожа на остальных людей, и, верно, мы поступаем точно так же, когда природа нас в чем-то обделит.
Пока маркиза рассуждала так, отдыхая на садовой скамье от утомительного моциона – а моцион-то весь сто шагов по песчаной дорожке – к калитке подошел крестьянин и предложил кухарке рыбу; та сразу же принялась торговаться. В нем я узнала того самого человека, который шел передо мной в день приезда и пел песенку про твердые скалы.
– О чем вы задумались? – спросила маркиза, перехватив мой взгляд, обращенный на крестьянина.
– Я думаю, – отвечала я, не спуская глаз с этого славного малого, – что хотя этот крестьянин не яблоня и не река, тем не менее в лице его есть что-то удивительное.
– Что же, позвольте узнать?
– Боже мой, если б я не боялась произнести модное словечко, которое вы так не любите, то сказала бы, что у этого человека явно есть характер.
– С чего вы это взяли? Не оттого ли, что он так упорно не сбавляет цену? Ах, простите, поняла! Вы хотите сказать, что у него характерный облик. Видите, у меня даже вышел невольный каламбур. Совсем запамятовала, что это словечко из лексикона сочинителей и живописцев. Теперь и ткань, и скамейка, и котелок обладают особой характерностью, а это, в свой черед, означает, что у котелка форма котелка, скамейка похожа на скамейку, а ткань действительно во всем подобна ткани. Или это неверно, и у ткани характерные черты облака, у скамейки – характерные признаки стола, а у котелка – характерные особенности колодца? Нет, с этим словом я никогда не примирюсь!
Потом маркиза заговорила о местных крестьянах.
– Люди они неплохие, не столько плуты, сколько хитрецы. Жадны до денег, оттого что живут в нужде, но заработанные гроши на ветер не бросают. Всё копят на покупки и в один прекрасный день, опьянев от радости, набирают всякой всячины, залезают в долги и разоряются. Кто поумнее и расторопнее, тот дает деньги в рост, наживается на этой жажде приобретательства, будучи в полной уверенности, что земля к нему вернется по даровой цене, потому что рано или поздно клиент обанкротится. Оттого-то некоторые крестьяне выходят в богачи, а большая часть идет по миру. Да, такова печальная изнанка естественного отбора. Ведь эти люди живут инстинктами, роковыми инстинктами, почти теми же, что заставляют цвести эти яблони. Поэтому крестьяне и не интересуют меня. Я охотно помогаю калекам, вдовам, малым детям и юродивым, а здоровые люди пускай сами выпутываются. Их упрямству и ослы позавидуют.
– А есть что-нибудь интересное в деревне, сударыня?
– Ничего решительно. Люди ездят в деревню из-за хорошего воздуха, чтобы поправить здоровье и денежные дела. Так уж заведено, что все уезжают из Парижа в ту пору, когда он вполне сносен. Знаете, раз другие едут, значит, и тебе надо ехать.
Я заметила, что эта беседа порядком наскучила маркизе, и, желая развеселить ее, спросила:
– Неужели тут нет какого-нибудь смешного соседа, над которым и подшутить не грех?
– Никого нет, дорогая, увы! Какие там шутки, когда здесь свили себе гнездо только распутство или несчастье! Все ваша милая цивилизация! Понастроили железных дорог, и от былой провинции скоро следа не останется. Скоро провинциалов днем с огнем не сыщешь. Уж не знаю, куда и ехать, чтобы хоть плохонького найти. Теперь деревенский буржуа ничем не уступит буржуа из Маре, а светский человек везде себе найдет салоны не глупее парижских. То, что я смолоду повидала в деревне, того нынче и в помине нет.
– А кого вы там видели, расскажите!
– Кого? Очень колоритные личности там жили, буржуа, которые по три года готовились к тому, чтобы раз в жизни провести месяц в Париже. А перед тем еще завещание составляли, дорогая моя! Я вовсе не шучу и готова насчитать двадцать человек, которые и по сей день еще живы. Кого я близко в то время знала, так это наших деревенских «бар» – так их в ту пору величали, не иначе! Славные, добрые дворянчики были! В годы революции учиться они не могли и, как средневековые сеньоры, похвалялись тем, что едва умеют расписаться. С виду они больше крестьян напоминали: носили грубое платье, даже сабо иногда, и пудрились, между прочим. Только не было в них этой крестьянской нерасторопности и притворного смирения, ходили эдакими спесивыми фанфаронами, всем были недовольны, честили правительство с утра до вечера. Мы с сестрой очень веселились, глядя на них, – были еще девчонками, о политике понятия не вмели. Помню, как мы прыскали со смеху, когда эти несчастные дворянчики грозились отомстить господину Буонапарту и клялись, что шпаги у них не заржавели. В ту пору соседи виделись реже, чем сейчас, зато гостили друг у друга подолгу. Приезжали на неделю с лишком, поневоле приходилось дружить со скучными людьми, которые при случае платили вам за это преданностью. Из-за бездорожья такой дворянин делал по восемь – десять миль верхом на лошадях, жена его восседала за ним на лошадином крупе, а впереди иной раз сидел и ребенок. Заглядывали и деревенские франты, одетые под стать «картавым щеголям» 1810 года, непременно верхом, в белых чулках и лакированных туфлях-лодочках, скрытых под толстыми суконными панталонами, которые застегивались сверху донизу; перед тем как войти в гостиную, их снимали на конюшне. Впрочем, оно гораздо приличнее, чем приходить с утренним визитом в ботфортах и лосинах, от которых разит лошадью. Однако нынешние дамы этого не замечают: от вонючих мужских сигар им, видно, носы заложило. У сегодняшнего сельского дворянчика вид, конечно, намного отесанней, чем у тех, о ком я говорю: он знает то, о чем нынче говорят в обществе: читает газеты, получил образование или несколько раз наведался в большие города, словом – пообтерся в светском потоке, который все булыжники обтачивает на один манер. От него не услышишь наивного вздора, который прежде забавлял всех: он не спросит вас, можно ли вечером появиться в Париже на улице, не опасаясь разбойников, и правда ли то, что по Елисейским полям гуляют голые женщины. Он уже не целует вашу перчатку, перед тем как передать ее вам, но он ее и не поднимает. Легкомысленных особ он больше не презирает, зато презирает всех женщин зараз, а воров просто не боится. Зачем их бояться, если в кармане у него ни гроша, да и приезжает он в Париж только затем, чтобы играть на бирже или взять деньги под залог у ростовщиков-евреев.
Я умышленно воспроизвела кусочек нашего разговора, сестрица, чтобы ты поняла, в каком черном цвете видит маркиза нашу современность. Ты заодно и составишь представление о нашей жизни, «пустословия» которой, как ты пишешь, никогда не сможешь понять. О чем бы ни зашла речь, маркиза все подвергает критике, иногда веселой и добродушной, а подчас язвительной и злой. Она слишком много говорила в своей жизни, чтобы быть счастливой. Она всегда думала вслух совместно с двумя, тремя, а то и тридцатью собеседниками зараз, не имея ни минуты собраться с мыслями. Разве так можно растрачивать себя? Не успеваешь даже задаться вопросом, все только поддакиваешь – иначе спор прекратился бы, а беседа иссякла. Вынужденная вести эти словопрения, я не устояла бы перед сомнениями и отвращением к себе подобным, если бы у меня не было в распоряжении целого утра, чтобы прийти в себя и сосредоточиться. Хотя остроумие и доброта госпожи де Вильмер скрашивают наше бесплодное времяпрепровождение, я жду не дождусь приезда маркиза, который хоть изредка сможет присоединиться к нашему праздному велеречию».
Маркиз и вправду приехал через неделю, приехал озабоченный, отрешенный, и Каролина нашла, что с ней он обходится особенно холодно. Маркиз сразу же погрузился в свои любимые занятия и появлялся только перед обедом; его поведение огорчало Каролину, так как она видела, что маркиз еще тверже, чем прежде, отстаивает свои убеждения в споре с матерью, приводя этим в восторг госпожу де Вильмер, больше всего боявшуюся замкнутости и молчаливости Урбена. Заметив, что нет необходимости поддерживать эти беседы, и думая, что она скорее стесняет маркиза, нежели помогает ему, Каролина стала избегать его общества и позволяла себе уходить по вечерам раньше, чем обычно.
IX
Когда через две недели приехал в свой черед и герцог, домашняя обстановка его не на шутку озадачила. Растроганный письмом брата, которое тот отправил ему из Полиньяка, но догадываясь, что в Урбене больше душевного разлада, чем решимости, герцог оттягивал свой приезд в расчете на то, что сельское приволье и уединение подействуют на молодые сердца, растревоженные, как он думал, его вмешательством, и приведут их к полному согласию. Ему и в голову не приходило, что Каролина чужда кокетству или пустой мечтательности и что маркиз находится во власти глубоких сомнений, подлинного страха и внутренней раздвоенности.
«Что же произошло? – недоумевал герцог, заметив, что между маркизом и Каролиной нет теперь даже былого дружеского расположения. – Неужели требования морали так скоро погасили любовное пламя? Или, быть может, брат объяснился с ней и получил отказ? Отчего он так помрачнел – с досады или от страха? А может, мадемуазель де Сен-Жене жеманница? Не похоже. Честолюбива? Вряд ли. Видимо, маркиз не нашел нужных слов, весь свой ум приберегает для своих занятий, вместо того чтобы послать его на помощь зарождающейся страсти».
Герцог, однако, не спешил докопаться до истины. Он пребывал в большой нерешительности. Ему удалось разузнать, в каком состоянии находятся дела Урбена, который, как выяснилось, имел всего лишь тридцать тысяч ренты, из них двенадцать тысяч шли в виде пенсии герцогу. Остальные деньги почти целиком уходили на содержание матери, а сам маркиз жил в своем имении, тратя на себя не больше, чем если бы он был скромным гостем.
Герцог был удручен таким положением: ведь оно было делом его рук, а брат, казалось, даже и не вспоминал об этом. Собственное разорение герцог пережил стоически. Он вел себя как истинный аристократ и хотя утратил многих своих приятелей по кутежам, зато обрел нескольких верных друзей. Он сильно вырос во мнении света: герцог так мужественно и достойно искупал грехи своей шалой и порочной молодости, что ему простили и прежние скандальные истории, и горе, причиненное нескольким семействам. Он умно играл свою нынешнюю роль, и лишь одно нарушало его равновесие: угрызения совести из-за брата, которые так истерзали его, что он утратил и решимость и проницательность. При всем своем безрассудстве, герцог по сути своей был добрый человек; поэтому он сейчас измышлял способы, как сделать брата счастливым. То он убеждал себя в том, что только любовь может скрасить уединенную и безрадостную жизнь маркиза, то собирался разжечь в нем честолюбие и, развеяв предубеждения Урбена, заговорить с ним о женитьбе не богатой особе.
Об этом же мечтала и маркиза. Мечтала давно, а теперь вынашивала этот замысел еще упорнее. Она твердо верила, что обязательно найдется какая-нибудь прелестная наследница, которая разделит с ней восхищение великодушием маркиза. Она доверительно сообщила Гаэтану о переговорах со своей приятельницей герцогиней де Дюньер, которая прочила в жены Урбену некую барышню Ксентрай, очень богатую и, по рассказам, красивую сиротку, скучавшую в монастыре и тем не менее весьма требовательную по части душевных качеств и происхождения претендента на ее руку. Судя по всему, женитьба Урбена на ней была делом вполне возможным, лишь бы маркиз дал согласие, а он не соглашался, говоря, что женится только в исключительном случае и что совершенно не способен явиться с визитом к незнакомой девушке в надежде ей понравиться.
– Постарайтесь, сын мой, победить его нелюдимость, – сказала госпожа де Вильмер герцогу на следующий день после его приезда. – Мое красноречие совершенно бессильно.
Герцог незамедлительно исполнил материнское поручение, но маркиз с недоверием и безучастием выслушал брата, не сказал ему нет, однако отказался что-либо предпринять, повторяя, что надо ждать, когда случай познакомит его с этой особой и что, если она ему понравится, он со временем попробует разузнать, взаимно ли его чувство. Сейчас все равно действовать невозможно: живут они в деревне, и спешить некуда: он не более несчастен, чем всегда, и занятий у него по горло.
Досадуя на проволочку, маркиза по-прежнему переписывалась с подругой и, не желая вмешивать в брачные переговоры Каролину, избрала герцога секретарем.
Убедившись, что женитьба маркиза отодвигается по крайней мере на полгода, герцог снова вернулся к мысли временно развлечь брата деревенским романом. Героиня его была, можно сказать, под рукой, и она была очаровательна. Явное охлаждение маркиза, вероятно, немного задело ее, и герцогу не терпелось разгадать причину этой перемены. Он, однако, потерпел полное фиаско: маркиз был непроницаем. Вопросы брата, казалось, даже удивили его. Дело же заключалось в том, что Урбену и не приходило в голову поухаживать за мадемуазель де Сен-Жене. Ведь в этом случае ему пришлось бы самым серьезным образом поступиться совестью, а поступаться ею было не в его правилах. Земная прелесть Каролины невольно увлекала маркиза, и он отдался этому влечению безо всякой задней мысли. Потом благодаря стараниям герцога, попытавшегося пробудить в нем ревность, Урбен обнаружил, что бессознательное чувство к девушке пустило в его сердце глубокие корни. Несколько дней маркиз мучительно страдал. Он раздумывал, свободен ли он, и быстро пришел к выводу, что между ним и его свободой стоят госпожа де Вильмер, мечтающая о выгодном для него браке, и сын, которому он обязан отдать жалкие крохи своего состояния. К тому же маркиз предвидел, какое необоримое сопротивление он встретит со стороны недоверчивой и самолюбивой мадемуазель де Сен-Жене. Хорошо изучив ее нрав, он был уверен, что Каролина никогда не согласится встать между ним и его матерью. Посему маркиз почел за благо не делать опрометчивых шагов: не докучать напрасной назойливостью Каролине и не совершать низкого поступка, воспользовавшись доверием этой чистой души. В трудной борьбе с самим собой маркиз, казалось, одержал почти немыслимую победу. Свою роль он сыграл так искусно, что провел даже герцога. Подобные твердость духа и благородство, очевидно, превосходили понятия Гаэтана о чувстве долга в таких обстоятельствах. «Я ошибся, – думал он. – Мысли брата заняты одной исторической наукой. С ним следует говорить только о его книге».
С тех пор герцог размышлял об одном: чем занять свое воображение, чтобы скоротать эти праздные полгода. Охота, чтение романов, беседы с матерью, сочинение романсов – всего этого было мало уму, столь безудержному в своих фантазиях, и, естественно, мысли герцога постепенно заняла Каролина, единственная, с его точки зрения, особа, которая могла расшевелить и увлечь поэтичностью натуры его коснеющий мозг. Герцог дал себе слово шесть месяцев в году проводить в Севале – решение весьма благородное для человека, который любил жить в деревне только на широкую ногу. Он рассчитывал, что эти месяцы скромной жизни у брата позволят ему ежегодно отказываться от половины своей пенсии, то есть от шести тысяч франков; если же маркиз отвергнет его жертву, с помощью этих денег он приведет в порядок и перестроит замок Урбена. Но чтобы вознаградить себя за такую добродетель, ему нужна была любовная интрижка – без этого добродетель милого герцога обойтись не могла.
«Как же быть? – размышлял он. – Ведь я поклялся и брату и матушке оставить Каролину в покое. Есть только одно средство, вероятно более простое, чем все обычные способы. Нужно окружить Каролину вниманием, по виду совершенно бескорыстным, быть с ней почтительным без намека на волокитство и вести себя так дружественно и непринужденно, чтобы внушить ей полное доверие ко мне. Так как при этом не возбраняется проявлять остроумие, учтивость и преданность, которые я выказал бы, ухаживая за ней неприкрыто, то Каролину, вполне вероятно, тронет мое обхождение, и она сама постепенно освободит меня от данного обета. Женщина всегда удивляется, когда после двух-трех месяцев дружеской близости с ней не заводят речи о любви. Потом и она заскучает, видя, что брат продолжает смотреть на нее пустыми глазами… Словом, поглядим! Покорить сердце, за которым охотишься, не показывая вида, следить за тем, как добродетель уступает, и прикидываться, будто ты тут ни при чем – ощущения острые и новые. Я не раз наблюдал, как ведут себя при этом кокетки и жеманницы, – интересно поглядеть, как выйдет из такого положения мадемуазель де Сен-Жене».
Поглощенный этой самолюбивой мальчишеской затеей, герцог не испытывал скуки. Впрочем, грубый разврат ему всегда претил, и волокитство его неизменно отмечала печать изысканности. Он так рьяно прожигал свою жизнь, что изрядно растратил собственные силы, и теперь ему ничего не стоило обуздать свои порывы. Герцог сам говорил, что был бы не прочь восстановить утраченное здоровье и свежесть, а временами даже мечтал вернуть молодость и сердцу, ту самую молодость, внешние признаки которой он сумел сохранить в своих речах и повадках. И так как теперь его мозг вынашивал бессовестную любовную интригу, герцог считал, что еще вполне подходит к роли романтического воздыхателя.
Он так искусно плел сети, что мадемуазель де Сен-Жене в душевной своей скромности сразу попалась на крючок его мнимой добропорядочности. Видя, что герцог больше не ищет с ней встреч наедине, Каролина перестала его избегать. Герцог же, непрестанно наблюдая за ней исподтишка, как бы невзначай, сам того не желая, наталкивался на Каролину во время ее прогулок и, притворяясь, будто не хочет длить эти встречи, удалялся, подчеркнуто ненавязчивый и вместе с тем будто слегка опечаленный, так что его изысканная любезность граничила с вызывающим равнодушием.
Герцог действовал так хитро, что Каролина ничего не заподозрила. Да и как могла она, при ее прямодушии, вообразить себе подобный план? Через неделю Каролине было с герцогом легко и спокойно, точно он никогда и не внушал ей недоверия, и она так писала госпоже Эдбер:
«После некоего семейного события герцог переменился к лучшему. Он остепенился, или же госпожа де Д*** с самого начала взвела на него напраслину. Вероятно, так оно и есть: мне просто не верится, как такой благовоспитанный человек способен погубить женщину только ради того, чтобы похвастаться еще одной победой. Она (госпожа де Д***) уверяла, что распутный и тщеславный герцог поступал так со всеми своими жертвами. Право, не знаю, что такое распутство у высокородных господ. Я жила с людьми рассудительными и разгул видела только у бедняков-рабочих, которые напивались до потери сознания и в припадке неистовства избивали своих жен. Если порочность знатных господ заключается в том, что они компрометируют светских женщин, значит, многие светские женщины позволяют себя компрометировать – иначе откуда у герцога д'Алериа взялись бы его бесчисленные жертвы? По-моему, женщинами он интересуется весьма умеренно и при мне ни об одной плохо не говорил. Напротив, герцог превозносит добродетель и утверждает, что она для него превыше всего на свете. В вероломстве, по-моему, упрекать ему себя не приходится, так как он четко делит женщин на тех, кто уступает мужским уловкам, и на тех, кто проявляет твердость. Не знаю, быть может, герцог всех морочит, но мне он кажется человеком, который любил искренно и преданно. Таким его, по-моему, считают мать с братом, да и я склонна думать, что натура он искренняя, хотя и непостоянная, и что нужно было быть очень доверчивой или очень тщеславной, чтобы надеяться прочно привязать его к себе. Я не сомневаюсь, что он сорил деньгами, играл в карты, пренебрегал семейными обязанностями, опьянялся роскошью и прочим вздором, недостойным серьезного человека. Все это плоды его легкомыслия и тщеславия, а они, в свой черед, порождены неправильным воспитанием и слишком беззаботной юностью. Этим людям нужда не привила чувства долга, а учили их лишь тому, что несовместно с понятиями бережливости и предусмотрительности. Наш бедный отец тоже разорился, но кто посмеет поставить это ему в вину? Герцога, как ни силюсь, я даже не могу упрекнуть в щегольстве – оно ему совершенно чуждо. Одевается он здесь как любой местный дворянчик. Ходит в вязаной куртке за тридцать франков и всех располагает к себе добродушием и простотой. О прошлых победах даже словом не обмолвится, достоинствами своими не кичится, а их у него не отнять: он остроумен, все еще очень красив, прелестно поет и вдобавок сочиняет романсы, правда, пустяковые, но не лишенные известного изящества. В беседе он приятен, хоть глубиной мысли не блещет, так как читал одни легкомысленные книжки, в чем чистосердечно признается. Однако к серьезным материям герцог не безразличен, часто расспрашивает брата о всякой всячине и слушает его внимательно и с полным уважением.
А маркиз? Он по-прежнему ничем не замутненное зеркало, образец всевозможных совершенств, доброты и редкой скромности. Он очень занят большим историческим сочинением, о котором герцог рассказывает чудеса, и я этому нисколько не удивляюсь. Природа поступила бы безрассудно, лиши она маркиза способности выражать глубокие мысли и возвышенные чувства, которыми так щедро наделила его душу. Он сейчас как-то благоговейно сосредоточен на своей работе, поэтому, вероятно, и стал сдержаннее со мной и откровеннее с матерью и братом, чем прежде. За них я радуюсь, за себя не обижаюсь: вполне естественно, что он не ждет от меня глубоких мыслей о столь серьезных предметах и предпочитает обсуждать их с людьми более зрелыми и сведущими в исторической науке. В Париже он весьма участливо относился ко мне, особенно в тот день, когда брат его осмелился дерзко поддразнивать меня. И хотя теперь он этого участия не проявляет, я не думаю, что интерес его ко мне полностью иссяк: возможно, при случае он проявится опять. Правда, новый случай вряд ли представится, потому что герцог образумился, тем не менее я очень благодарна маркизу за то, что тогда он оказал мне такую драгоценную поддержку».
Читатель видит, что если Каролина и была огорчена внезапным охлаждением маркиза де Вильмера, она сама не отдавала себе в этом отчета и подавляла смутное чувство обиды. Ее женское самолюбие не было задето, ибо Каролина знала, что у маркиза нет оснований относиться к ней с меньшим уважением, чем прежде, а так как ничего, креме уважения, она не хотела и не ждала, то сдержанность маркиза приписывала его погруженности в глубокомысленные занятия.







