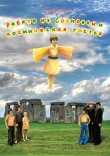Текст книги "Орко"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Жорж Санд
ОРКО

Мы собрались, по обыкновению, в беседке из виноградных лоз. Вечер был грозовой и душный, в небе, покрытом черными тучами, тут и там вспыхивали молнии. Все мы хранили меланхолическое молчание. Какая-то печаль была разлита в окружающей природе; она проникала в душу, и на глаза невольно навертывались слезы, Беппа выглядела особенно угнетенной: ее явно одолевали какие-то мучительные мысли. Напрасно аббат, огорченный всеобщей подавленностью, так и этак пытался развеселить нашу подругу, обычно столь оживленную и резвую. Ни вопросы, ни колкие замечания, ни просьбы не могли вывести ее из задумчивости; устремив глаза к небу и рассеянно перебирая трепетные струны гитары, она, казалось, совсем забыла, где она и с кем, и занимали ее лишь жалобные звуки, которые она извлекала из своего инструмента, да причудливый бег туч. Добрый Панорио, обескураженный неудачей своих попыток, решил обратиться ко мне.
– А ну, дорогой Дзордзи, – сказал он, – примись-ка теперь ты за нашу капризную красавицу и испытай силу своего дружеского влияния на нее. Между вами ведь существует некая магнетическая симпатия, которая сильнее всех моих резонов, и звук голоса твоего способен вернуть Беппу к действительности, где бы ни витали ее думы.
– Магнетическая симпатия, о которой ты говоришь, дорогой аббат, – ответил я, – вызвана сходством наших переживаний. Мы страдали от одних и тех же причин, размышляли об одном и том же и довольно знаем друг друга, чтобы понимать, какие именно мысли могут возникнуть у каждого из нас в определенных обстоятельствах. Ручаюсь, что угадаю если не самый предмет, то по крайней мере направление ее мыслей.
И, обернувшись к Беппе, я тихо спросил:
– Скажи, carissima [1]1
Дорогая (итал.).
[Закрыть], ты вспомнила одну из наших сестер? Какую же?
– Самую прекрасную из всех, – ответила она, не оборачиваясь, – самую гордую, самую несчастную.
– Она умерла? Когда? – спросил я, живо заинтересованный судьбою той, что жила в воспоминаниях моей благородной подруги: мне хотелось вместе с нею погоревать об этой отнюдь не безразличной для меня утрате.
– Да, она умерла в конце прошлой зимы, в ту ночь, когда давали бал в палаццо Сервилио. Много горя перенесла она в жизни, но это не сломило ее; она преодолела множество опасностей, она мужественно прошла через страшные мучения и погибла внезапно, исчезла без следа, будто испепеленная молнией. Здесь все знали ее – одни больше, другие меньше, но никто не знал ее лучше меня, потому что никто не любил ее, как я, а она раскрывалась лишь перед теми, кто ее любил. Иные не верят, что она умерла, хотя с той самой ночи она больше не появлялась. Говорят, что и прежде ей случалось исчезать надолго, а потом она возвращалась. Но я-то знаю: она не вернется, ее земной путь окончен. О, как бы мне хотелось не знать этого столь достоверно! Но увы! Она позаботилась, чтобы до меня дошла роковая весть: мне передал ее тот самый человек, из-за которого она погибла. О боже! Какое несчастье! Самое большое несчастье из всех, что произошли в наше печальное время! Жизнь ее была поистине чудесна! Такая прекрасная и полная контрастов, такая загадочная и яркая, такая горестная и лучезарная, такая гордая, суровая и страстная; бурлящая всеми человеческими чувствами. Нет, ничья жизнь, ничья смерть не были похожи на ее жизнь и на ее смерть. В наш прозаический век она сумела изгнать из своей жизни все суетное и мелкое и оставить в ней только поэзию. Верная старым обычаям местной аристократии, она появлялась на улицах только с наступлением темноты, в маске, но всегда одна, без провожатых. Кто из жителей города не встречал ее на улицах и площадях, кому не попадалась на глаза ее гондола, привязанная где-нибудь на канале? Но никому никогда не довелось видеть ее в тот момент, когда она покидала гондолу или входила в нее. И хотя эта гондола никем не охранялась, не слышали, чтобы ее когда-нибудь пытались украсть. Она была расписана и оснащена точно так же, как всякая другая гондола, однако ее сразу узнавали; даже дети, завидя ее, говорили: «Вон гондола маски». Но каким образом она движется, откуда привозит но вечерам и куда отвозит наутро свою, хозяйку – никто даже отдаленно не представлял себе. Правда, таможенники из береговой охраны часто видели скользящую по лагуне черную тень и, приняв ее за лодку контрабандистом, бросались в погоню и преследовали ее, пока не выходили далеко в открытое море; однако на рассвете им никогда но удавалось заметить на волнах ничего похожего на лодку.
Со временем они привыкли не обращать на нее внимании и при ее появлении только говорили: «Это опять гондола маски». По ночам маска обходила весь город, будто искала что-то. Ее видели то на больших площадях, то на узких, извилистых улочках, на мостах, под сводами величавых дворцов в местах самых людных и самых пустынных. Она шла то медленно, то стремительно, видимо, безразличная к тому, есть вокруг нее люди или нет, но никогда не останавливалась. Казалось, она увлеченно разглядывала дома, памятники, каналы и даже небо над городом и с наслаждением впивала воздух лагуны. Когда во встречном человеке она угадывала друга, то знаком предлагала ему следовать за нею, и они исчезали. Не раз она так уводила и меня из толпы в какое-нибудь безлюдное место и говорила со мною о вещах, дорогих нам обеим. Я доверчиво шла с нею, ибо знала, что мы друзья; но многие из тех, кого он приглашала, на это не осмеливались. Странные слухи ходили о ней; они отпугивали даже самых отважных. Рассказывали, будто некоторые молодые люди, угадывая под этой маской и черным платьем женщину, влюблялись в нее, привлеченные как странностью и таинственностью ее жизни, так и ее прекрасной фигурой и благородной осанкой; и что, неосторожно последовав за нею, они уже никогда не возвращались. Полиция обратила внимание на то, что всегда это были австрийцы, и делала все возможное для их розыска и для поимки той, которую считали виновной в их исчезновении. Но сбирам везло не больше, чем таможенникам: им не удалось узнать что-либо о судьбе молодых иностранцев, и тем более – поймать эту женщину. Один странный случай охладил пыл даже самых усердных ищеек венецианской тайной полиции. Убедившись, что изловить маску ночью в Венеции невозможно, двое рьяных сыщиков решили подкараулить ее в самой гондоле, чтобы схватить, когда она вернется в нее перед отплытием. Однажды вечером они увидели ее гондолу у набережной Скьявони, вошли в нее и спрятались. Просидев там всю ночь, они ничего не приметили, но уже перед самым рассветом им показалось, что кто-то отвязывает лодку. Они насторожились, готовые броситься на свою жертву, но в то же мгновение сильнейший толчок опрокинул гондолу вместе со злополучными шпиками австрийской полиции. Один утонул, и другой тоже не спасся бы, если бы ему не оказали помощь контрабандисты. Наутро никаких следов лодки не было, и полиция решила, что она затонула; но вечером ее увидели на том же месте, что и накануне, и без следа каких-либо повреждений.
Суеверный ужас объял всех сыщиков после этого случим, и ни один не захотел повторить подобную попытку. С того дня маску уже больше не тревожили, и она по-прежнему продолжала свои прогулки.
В начале прошлой осени в местный австрийский гарнизон приехал новый офицер – граф Франц фон Лихтенштейн. Это был восторженный и пылкий юноша, наделенный всеми возвышенными чувствами и как бы врожденным благородством мысли. Несмотря на дурное воспитание в традициях знатного дворянства, он сумел уберечь свой ум от предрассудков и сохранить в сердце дух свободолюбия. Официальное положение принуждало его скрывать свои мнения и вкусы; но как только окончился срок его службы, он поспешил сбросить с себя мундир, символизировавший, как ему казалось, все пороки правительства, которому он служил, и стал часто общаться с новыми друзьями, приобретенными им в нашем городе благодаря его доброте и уму, открывая им самое сокровенное своей души.
Особенно мы любили его слушать, когда он говорил о Венеции. Он видел ее глазами художника, в душе оплакивал ее порабощение и наконец полюбил ее как настоящий венецианец. Без устали он ходил по городу днем и ночью, без устали восхищался им. Ему хотелось, как говорил он, знать ее лучше тех, кто имел счастье здесь родиться. Во время своих ночных прогулок он встретил маску. Вначале он не обратил на нее особого внимания, но вскоре, заметив, что она изучает город так же пытливо и тщательно, как и он сам, юноша был поражен странным совпадением и многим рассказал об этом. Прежде всего ему передали слухи, ходившие об этой таинственной женщине, и посоветовали ее остерегаться. Но он был смел до безрассудства, а потому все предупреждения, вместо того чтобы испугать молодого человека, только возбудили его любопытство и внушили неудержимое желание познакомиться с этой загадочной особой, наводившей такой ужас на обывателей. Желая предстать перед маской так же, как и она, инкогнито, он облачился в платье простого горожанина и возобновил свои ночные прогулки. И не прошло много времени, как он встретил ту, которую искал. При ясном свете луны он увидел женщину в маске, стоявшую у прелестной церкви святых Иоанна и Павла. Она как бы в экстазе созерцала изысканный орнамент, украшающий портал церкви. Граф осторожно приблизился к женщине. Она как будто не заметила его и не шевельнулась. На мгновение граф задержался, чтобы проверить, не обнаружен ли он, затем подошел и остановился совсем рядом с нею. Он услышал ее тяжкий вздох, потом она запела так тихо, что сначала он не мог разобрать слов. Но, прислушавшись, он явственно различил венецианское наречие и узнал популярный припев, который ему приходилось слышать на площадях. Будучи превосходным музыкантом и обладая редкой памятью, он в свое время запомнил этот припев и теперь вполголоса подхватил его. Вместо того чтобы прервать пение, как опасался Франц, маска, не оборачиваясь, запела громче, и куплет, пропетый в два голоса, завершился мелодичным созвучием. Когда звуки песни замерли, Франц, плохо знавший венецианский говор, но великолепно – общеитальянский язык, обратился к маске на чистом тосканском наречии.
«Привет, – сказал он, – привет и благоденствие тому, кто любит Венецию!»
«Кто вы?» – спросила маска ясным и звонким, но нежным, как у соловья, голосом.
«Я поклонник красоты».
«Из тех ли вы поклонников, чья варварская любовь учиняет над свободной красотой грубое насилие, или из тех, кто преклоняется перед порабощенной красотой и горюет вместе с нею?»
«Когда певец ночей видит розу, блаженно расцветающую под дуновением ветерка, он восторженно поет; когда же он видит, как она увядает под губительным порывом бури – он прячет голову под крыло и стонет. Так и моя душа».
«Следуй же за мною, ибо ты – один из моих верных рыцарей».
И, схватив юношу за руку, она повлекла его к церкви. Когда он почувствовал, как холодная рука незнакомки сжала его руку, и увидел, что женщина направляется к темной нише портала, то невольно вспомнил зловещие рассказы о ней и, вдруг охваченный паническим страхом, остановился. Маска обернулась и, устремив испытующий взгляд на побледневшее лицо спутника, произнесла:
«Вы боитесь? Прощайте».
Затем, отпустив его руку, она стала быстро удаляться. Франц устыдился своей, слабости и, бросившись за нею, сам взял ее за руку и сказал:
«Нет, я не боюсь. Пойдемте».
Не ответив, она продолжала идти, но уже прочь от церкви, к которой было направилась, и свернула в один из переулков, выходивших на площадь. Луна скрылась, и вокруг дарила полнейшая тьма. Франц двигался наугад, ничего не видя в глубоком мраке, окутавшем его со всех сторон. Как слепой шел он за своей проводницей, которая наверняка очень хорошо знала дорогу. Изредка из-за облаков проскальзывал луч луны, и Франц замечал то береговую стену канала, то мост, то свод портика, то какое-то незнакомое место в лабиринте узких, извилистых улиц. Очень скоро Франц понял, что не знает, где они находятся, и что он – полностью во власти своей проводницы. Но, приняв решение не думать об опасности, он не выказывал беспокойства и молча продолжал идти. Так они шли не менее часа; наконец женщина в маске остановилась.
«Прекрасно, – сказала она графу, – вы храбрый человек. Если бы в пути вы проявили хоть малейший признак страха, я бы никогда больше с вами не заговорила. Но вы были спокойны, и я довольна вами. Итак, до завтра на площади святых Иоанна и Павла, в одиннадцать часов. Не пытайтесь следовать за мной, это бесполезно. Поверните направо по этой улице, и вы увидите площадь святого Марка. До свидания».
Она с живостью пожала руку графа и, прежде чем он успел ей ответить, исчезла за поворотом.
Удивленный всем происшедшим, граф некоторое время стоял неподвижно, не зная, как ему поступить, но, рассудив, что вряд ли ему удастся отыскать таинственную даму и что, преследуя ее, он рискует, заблудиться, он решил вернуться к себе. Он пошел в указанном ему направлении и действительно через несколько минут очутился на площади святого Марка, а оттуда быстро добрался до своей гостиницы.
На следующий вечер он явился на свидание точно в назначенное время. Он пришел на площадь, когда церковные часы били одиннадцать, и увидел женщину в маске, ожидавшую его на ступенях портала.
«Это хорошо, – сказала она, – вы точны. Войдем».
С этими уловами она резко повернулась к церкви. Франц знал, что дверь заперта и ночью ни для кого не открывается, и подумал, что эта женщина безумна. Но каково же было его удивление, когда под ее рукой дверь сразу поддалась! Он машинально вошел за своей проводницей, и она быстро заперла за ним дверь. Теперь они оказались в темноте; но Франц знал, что другая дверь, которая не запиралась, отделяла их от нефа, и не испытывал никаких опасений; он хотел толкнуть эту вторую дверь, чтобы войти, но женщина удержала его руку.
«Вы когда-нибудь бывали в этой церкви?» – вдруг спросила она.
«Раз двадцать, – ответил он, – и я знаю эту церковь так же хорошо, как построивший ее зодчий».
«Скажите лучше, что вам кажется, будто вы ее знаете; ведь на самом деле вы еще не знаете ее. Входите».
Франц толкнул дверь и вошел внутрь церкви. Она была великолепно освещена и совершенно пустынна.
«Что за церемония здесь готовится?» – спросил Франц в изумлении.
«Никакой. Сегодня вечером церковь ждала меня – вот и все».
Напрасно граф пытался понять смысл слов, сказанных маской; и по-прежнему, словно покоряясь некой таинственной воле, он послушно следовал за нею. Женщина вывела его на середину церкви и дала ему возможность окинуть взглядом все сооружение изнутри и оценить его удивительную архитектурную гармонию. Затем они стали осматривать по отдельности неф, колоннаду, приделы, алтари, статуи, картины и прочие украшения; она раскрыла ему смысл каждого предмета, идею, заключенную в каждой форме, помогла живо ощутить всю красоту этих произведений искусства, составлявших вместе единое целое, и позволила ему проникнуть, так сказать, в самую душу храма. Франц благоговейно внимал словам, слетавшим с красноречивых уст незнакомки, которая охотно наставляла его; и чем дальше, тем яснее становилось ему, как мало понимал он до сих пор этот великолепный ансамбль, казавшийся прежде столь нетрудным для понимания. Когда она кончила говорить, рассвет уже пробивался сквозь витражи и пламя свечей поблекло. И хотя речь ее не прерывалась в течение нескольких часов и она за всю ночь ни разу не присела, однако ни в голосе, ни во внешности ее не замечалось ни малейшей усталости. Она лишь склонила голову на свою бурно вздымавшуюся грудь, как бы прислушиваясь к биению собственного сердца. Вдруг она резко выпрямилась и, вскинув руки, воскликнула:
«О рабство! Рабство!»
При этих словах из-под ее маски покатились крупные слезы, падая с ланит на складки черного платья.
«Вы плачете? Что с вами?» – встревоженно спросил Франц.
«До завтра, – отозвалась она. – В полночь у Арсенала».
И она вышла в левую боковую дверь, которая тяжело захлопнулась за нею. В этот момент зазвучал утренний благовест. Вздрогнув от неожиданности, Франц огляделся и увидел, что все свечи погасли. Некоторое время он оставался неподвижным от удивления, затем вышел из церкви через двери портала, только что открытые ризничим, и медленно пошел к себе, строя догадки, кто могла быть эта женщина – такая смелая и могущественная, с такой артистической душой, с речью, исполненной очарования, и с величавой осанкой.
Назавтра ровно в полночь граф был у Арсенала. Здесь он нашел маску, ожидавшую его, как и накануне; при виде его она молча пошла вперед. Франц последовал за нею, как и в предыдущие две ночи. Подойдя к одной из дверей, расположенных с правой стороны здания, маска остановилась, вложила в замочную скважину золотой ключ, блеснувший в свете луны, бесшумно открыла дверь и вошла первой, жестом пригласив Франца идти за нею. На мгновение он заколебался. Проникнуть в Арсенал с помощью поддельного ключа – значило предстать перед военным судом, если бы его заметили, а остаться незамеченным там, где столько часовых, было почти невозможно. Но, увидев, что маска собирается захлопнуть перед ним дверь, он решился довести приключение до конца и вошел. Женщина в маске провела его сначала через многочисленные дворы, затем – по коридорам и галереям, открывая все двери свои золотым ключом, и наконец они пришли в обширные залы, наполненные разнообразным оружием всех времен, служившим в войнах Венецианской республики как ее защитникам, так и ее врагам. Залы были освещены фонарями с галер, расположенными между трофеями через равные промежутки. Маска показала графу наиболее любопытное и прославленное оружие, называя имена тех, кому оно принадлежало, битвы, где оно было в деле; подробно рассказала о том, какие подвиги были совершены с его помощью. Так она оживила перед мысленным взором Франца всю историю Венеции. Осмотрев четыре залы с оружием, они перешли в пятую – самую большую из всех и тоже хорошо освещенную: здесь находились образцы корабельного леса, различной величины и формы обломки судов, а также целые части последнего «Буцентавра». Она объяснила своему спутнику свойства всевозможных пород дерева, назначение разных судов, сообщила, когда суда были построены и в каких плаваниях и экспедициях побывали; затем указала на палубу «Буцентавра» и с глубокой печалью в голосе сказала: «Вот останки нашего былого величия и власти. Это последний корабль, который нес на себе дожа для обручения его с морем. Теперь Венеция – раба, а раба не смеет обручаться. О, рабство, рабство!»
Как и накануне, после этих слов она направилась к выходу, но на этот раз повела за собой графа, которому было опасно оставаться в Арсенале. Они возвратились тем же путем и миновали последнюю дверь, так никого и не встретив. Вернувшись на площадь, они назначили ночное свидание на другой день и расстались.
Назавтра и во все последующие ночи она показывала Францу самые примечательные сооружения Венеции, с необъяснимой легкостью проникала с ним в любое здание, с удивительной ясностью объясняла все, что представало их взорам, и ему раскрывались при этом дивные сокровища ее ума и души. И он не знал, чем больше восхищаться – умом ли ее, так глубоко все постигавшим, или же ее сердцем; все ее мысли были оживлены прекрасными порывами возвышенной души. То, что поначалу было для него лишь прихотью, вскоре превратилось в настоящее глубокое чувство. Любопытство толкнуло его на знакомство с маской, а удивление заставило продолжить это знакомство. Но затем для него стало необоримой потребностью видеть ее каждую ночь. И хотя слова незнакомки были всегда серьезны, а порой печальны, Франц находил в них неизъяснимое очарование, и он привязывался к ней все сильнее и сильнее. Он не мог бы заснуть утром, если бы ночью не услышал ее вздохов и не увидел ее слез. Он испытывал столь искреннее и глубокое уважение к ее благородству и страданиям, о которых догадывался, что все еще не осмеливался просить ее снять маску и назвать свое имя. Она не спрашивала его имени, и ему тоже было неловко показать себя человеком любопытным и нескромным, поэтому он решил во всем положиться на ее добрую волю и не проявлять навязчивости. Казалось, она понимала его деликатность, отдавала ей должное и при каждой встрече выказывала ему все большее доверие и расположение. И хотя между ними не было произнесено ни слова о любви, Франц имел основание верить, что она знает о его страсти и сама склонна ее разделить. Этих надежд было почти достаточно для его счастья, и всякий раз, как в нем с новой силой загоралось желание увидеть лицо той, которую он мысленно уже называл своей возлюбленной, воображение его, пораженное и как бы вдохновленное необычностью событий, рисовало ее такой совершенной и прекрасной, что он даже боялся того мгновения, когда она откроется перед ним.
Однажды ночью они вместе бродили под колоннадами площади святого Марка, и она остановила Франца перед картиной, изображавшей девушку, коленопреклоненную перед святым покровителем этого собора и города. Помолчав, чтобы дать ему хорошенько ее рассмотреть, она спросила:
«Что вы скажете об этой женщине?»
– Это самая дивная красота, – ответил он, – какую только можно представить себе, но в жизни такой красоты не бывает. Вдохновение художника сумело создать божественный облик, прообраз которого, однако, может существовать только на небесах.
Женщина в маске сильно сжала руку Франца и сказала:
«Я не знаю лица прекраснее, чем лицо преславного святого Марка, и я могла бы полюбить только такого человека, который был бы его живым подобием».
Услышав это, Франц побледнел и покачнулся, одолеваемый внезапным головокружением. Он вдруг понял, что лик святого и его собственное лицо представляли совершенное сходство. Он упал на колени перед незнакомкой и, схватив ее руку, обливал ее слезами, не в силах вымолвить ни слова.
«Теперь я знаю, что ты принадлежишь мне, – сказала она взволнованно, – и ты достоин знать меня и обладать мною… До свидания – завтра на балу в палаццо Сервилио».
Затем она покинула его, как обычно, но на этот раз не произнесла тех слов, которым завершались, будто неким обрядом, их еженощные беседы. Франц, опьянев от радости, весь день бродил по городу и никак не мог остановиться. Он восхищался небом, улыбался лагуне, посылал приветы дворцам и разговаривал с ветром. Встречные принимали его за помешанного и бросали на него удивленные взгляды. Он замечал это и сам смеялся над глупостью тех, кто осмеивал его. Когда друзья спрашивали, что он делал и где пропадал целый месяц, он отвечал только одно: «Скоро я буду счастлив», – и уходил. С наступлением вечера он купил роскошную перевязь и новые эполеты, вернулся домой, надел свой мундир и отправился в палаццо Сервилио.
Бал был великолепный. Все, за исключением гарнизонных офицеров, пришли в маскарадных костюмах, как рекомендовалось в письменных приглашениях, и вся эта толпа в красивых и разнообразных нарядах, оживленно двигаясь под звуки большого оркестра, являла взору само блестящее и яркое зрелище. Франц обошел все залы, подходил к каждой группе и оглядывал каждую женщину, Многие из них были очень хороши собой, но ни одна не привлекла его внимание. «Ее здесь нет, – подумал он – я уверен; для нее еще слишком рано».
Франц остановился за одной из колонн, неподалеку от парадного входа, и стал ожидать, не спуская глаз с двери. Много раз открывалась дверь, входило много женщин, но сердце его ни разу не затрепетало. Но в тот момент, когда часы начали бить одиннадцать, он вздрогнул и воскликнул так громко, что его услышали окружающие:
«Вот она!»
Все недоуменно оглянулись на него, как бы спрашивая, что значит это восклицание. Но в это же мгновение дверь резко распахнулась, и вошла женщина, сразу привлекшая всеобщее внимание. Франц узнал ее тотчас же. Это была девушка с той самой картины, одетая догарессой пятнадцатого века и даже более прекрасная благодаря великолепию своего убранства. Она шла медленно и величественно, как царица бала, уверенно глядя на окружающих, но никого не приветствуя. Никто, за исключением Франца, не знал ее; но все, покоренные ее красотой и благородной осанкой, почтительно расступались и даже склонялись перед нею. Франц, ослепленный и зачарованный, следовал за нею на некотором расстоянии. Когда она вошла в последнюю залу, некий красивый юноша в костюме Тассо пел, аккомпанируя себе на гитаре, романс в честь Венеции. Незнакомка подошла прямо к нему, и пристально на него глядя, спросила, кто он такой, что осмеливается носить подобный костюм и воспевать Венецию. Юноша замер, под ее взглядом, побледнев, опустил голову и протянул ей свою гитару. Она взяла ее и, наугад перебирая струны белоснежными пальцами, запела сильным и мелодичным голосом странную песню, состоявшую из отрывочных фраз:
«Танцуйте, смейтесь, пойте, веселые дети Венеции! Для вас зимой нет морозов, ночью нет мрака, в жизни нет забот. Вы счастливцы этого мира, а Венеция – царица народов. Кто сказал – нет? Кто осмеливается думать, что Венеция уже не Венеция? Берегитесь! Глаза видят, уши слышат, языки говорят; бойтесь Совета десяти, если вы не добрые граждане. Добрые граждане танцуют, смеются и поют, но не говорят. Танцуйте, смейтесь, пойте, веселые дети Венеции! О, Венеция – единственный нерукотворный, город, созданный духом человеческим, – ты, которая кажешься призванной служить временным прибежищем праведных душ и как бы ступенькой для них с земли на небеса; о, вы, дворцы, служившие некогда обиталищем фей и поныне овеянные их волшебным дыханием; вы, воздушные колоннады, трепещущие в туманной дымке; вы, легкие шпили, вздымающиеся среди корабельных мачт; вы, аркады, скрывающие тысячи голосов, чтобы ответить на каждый проходящий голос; о, мириады ангелов и святых, словно танцующие на куполах, взмахивая своими мраморными и бронзовыми крыльями, когда морской ветерок касается нашего влажного чела; ты, прекрасный город, не распластанный на тусклой и грязной земле, как другие, но плывущий подобно лебединой стае на волнах; радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь! Новая судьба открывается перед нами – столь же прекрасная, как и прежняя. Черный орел парит надо львом святого Марка, и австрийские сапоги вальсируют во дворце дожей! Умолкните, ночные музыканты! Замри, безумный шум бала! Пусть не звучит более священный гимн рыбаков; прекрати свой рокот, голос Адриатики! Угасни, лампада пресвятой мадонны; скройся навсегда, серебристая царица ночи; в Венеции больше нет венецианцев! Может быть, нам это снится? Или у нас праздник? Да, да, будем плясать, смеяться и петь! Наступил час, когда тень Фальеро медленно спускается по Лестнице гигантов и неподвижно садится на последней ступени. Будем плясать, смеяться, петь! Ибо сейчас звон курантов возвестит полночь, и хор мертвецов прокричит нам в уши: «Рабы! Рабы!»»
После этих слов она уронила гитару, издавшую зловещий звон при ударе о плиты пола, и часы начали бить. В мрачном молчании все слушали, как пробило двенадцать ударов. Тогда хозяин дворца, испуганный и раздраженный, направился к незнакомке.
«Сударыня, – спросил он взволнованно, – кому я обязан честью видеть вас здесь?»
«Мне, – ответил Франц, выступая вперед, – и если кому-нибудь это не нравится, пусть заявит о том».
Незнакомка, казалось, не обратила внимания на вопрос хозяина, но, услышав голос графа, вскинула голову.
«Теперь я живу, – воскликнула она с восторгом, – я буду жить!»
И она обернулась к нему с сияющим лицом. Но, увидев его, она побледнела, и чело ее омрачилось.
«Зачем этот маскарадный костюм?» – спросила она сурово, указывая на его мундир.
«Это не маскарадный костюм, – ответил он, – это…»
Он не мог продолжать и как бы окаменел под страшным взглядом незнакомки. Некоторое время она молча смотрела на него, затем из глаз ее скатились две крупные слезы. Франц хотел броситься к ней. Она остановила его.
«Следуйте за мной», – сказала она глухо.
Затем она быстро прошла сквозь удивленную толпу и вышла, сопровождаемая графом.
Спустившись по лестнице дворца, она прыгнула в свою гондолу и велела Францу войти за нею и сесть. Он повиновался, затем посмотрел вокруг и, не заметив гондольера, спросил:
«Кто же нас повезет?»
«Я», – ответила она и уверенной рукой взялась за весло.
«Лучше разрешите мне…»
«Нет. Руки австрийца не умеют обращаться с венецианским веслом».
Сильным взмахом весла она сдвинула гондолу с места, и та стрелой понеслась по каналу. В несколько мгновений они оказались уже далеко от дворца. Франц, ожидавший, что незнакомка объяснит ему причину своего гнева, был удивлен и обеспокоен ее молчанием.
«Куда мы плывем?» – спросил он после некоторого размышления.
«Куда судьбе угодно вести нас», – печально ответила она.
Эти слова как будто снова разбудили ее гнев, и она принялась грести еще сильнее. Повинуясь взмахам ее сильной руки, гондола словно летела над водой. Франц видел, как вдоль бортов лодки с ослепительной быстротой стремилась пена, а попадавшиеся на пути корабли мчались назад, будто тучи, уносимые ураганом. Вскоре мрак стал совсем непроницаем, поднялся ветер, и юноша уже не слышал ничего, кроме плеска волн и свиста ветра в ушах; а в сплошной тьме он видел впереди только белую фигуру своей спутницы. Она стояла на корме с веслом в руках, ее полосы разметались по плечам, ветер трепал ее длинное белое платье, и она походила уже не на женщину, а скорее на духа кораблекрушений, играющего на бурном море.
«Где мы?» – беспокойно воскликнул Франц.
«Наш храбрый капитан испугался», – сказала незнакомка с презрительным смехом.
Франц не ответил. Он чувствовал, что в самом деле его охватываёт ужас. Не в силах преодолеть его, Франц хотел по крайней мере скрыть свой страх и решил молчать. Но через некоторое время в каком-то безумии он поднялся и двинулся к незнакомке.
«Вернитесь на свое место!» – крикнула она.
Но Франц уже не владел собою от страха и продолжал идти по гондоле.
«Вернитесь!» – повторила она яростно; и, видя, что он все-таки приближается к ней, топнула ногой с такой силой, что лодка вздрогнула и едва не перевернулась.
Франц был сбит с ног этим толчком, упал на дно лодки и потерял сознание. Придя в себя, он увидел, что незнакомка лежит у его ног и плачет. Растроганный ее горестным видом и забыв о только что происшедшем, он схватил ее в объятия, поднял и усадил рядом с собой. Она не сопротивлялась, но продолжала плакать.
«О, любовь моя, – воскликнул Франц, прижимая ее к своей груди, – зачем эти слезы?»
«Лев! Лев!» – ответила она, подняв к небу свою прекрасную руку.