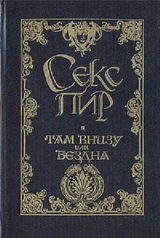
Текст книги "Там внизу, или Бездна"
Автор книги: Жорис-Карл Гюисманс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
То, что совершалось в нем, не было бурей плоти, взрывом чувственности. Порыв к необычному, устремление вглубь, которые окрылили его перед тем в искусстве, теперь изливались на женщину. Но в сущности, в нем говорило все то же желание унестись от земной суеты. Меня расшатало, рассуждал он, это проклятое изучение потустороннего мира, направление моих мыслей, замкнувшихся в деяниях церкви и бесовства. И правда, всходы бессознательного мистицизма, до сих пор лежавшего втуне, пышно расцветали в его упорном труде, и беспорядочно отдавался он исканию новой обстановки, неизведанных наслаждений и мук!
Он мысленно восстановил все, что знал об этой женщине. Она замужем, белокура, у нее служанка и отдельная комната – значит, есть средства, она получает письма в почтовом отделении на улице Литтре – из этого следует, что она живет в этой части города. Если, наконец, допустить, что она верно подписывает начальную букву, то имя ее или Генриетта, или Гортензия, или Онорина, или Губертина, или Елена.
Что еще? Она встречала его в свете – значит, бывает в богемном мире, потому что он перестал посещать буржуазные гостиные уже несколько лет назад. Далее, она не чужда болезненных уклонений католицизма, а свидетельство тому слово суккуб, которым она пользуется и которое не употребляется непосвященными.
Вот и все! Остается еще муж. По ее собственному признанию, она плохо скрывает пленившее ее наваждение, и потому у мужа должны зародиться подозрения, если он человек хотя сколько-нибудь догадливый.
Я сам накликал на себя беду! Удовольствия ради, я писал сперва бледные письма, подернутые манящим, вызывающим оттенком, и под конец воспламенился сам. Оба мы поочередно раздували потухшие угли, пока они не накалились. Примерный урок обоим нам за то, что мы разжигали друг друга. Если судить по ее страстным посланиям, она испытывает то же, что и я.
Что делать? По-прежнему пребывать ли в непроницаемом тумане? Нет, лучше кончить, увидеть ее и, если она красива, овладеть ею. Я обрету по крайней мере душевный покой. Написать ей откровенно, в последний раз назначить свидание? Он огляделся. Незаметно забрел он в ботанический сад. Осмотревшись, вспомнил, что неподалеку от набережной есть кофейня, и направился туда.
Тщетно пытался он составить письмо пылкое и вместе с тем твердое, перо дрожало в его пальцах. Он сожалеет, сознался он, недолго думая, что сразу не согласился на свидание, которое она предлагала, и из-под пера его вылился взволнованный вопль: во что бы то ни стало нужно нам увидеться, подумайте, как мы страдаем, укрываясь во тьме; вспомните, что есть целительное средство, умоляю вас, бедный мой друг…
И он указал как на выход на свидание. Но тут запнулся. Как быть? – размышлял он. Я не хочу, чтобы она пришла ко мне – это слишком опасно. Лучше, если я предложу ей стакан вина и бисквит и пройду с ней в Лавеню, который одновременно и гостиница и ресторан. Я приготовлю номер, это приятнее, чем быть в отдельном кабинете или в пошлых меблированных комнатах свиданий. Но в таком случае вместо угла улицы Ла Шез удобнее назначить зал Монпарнасского вокзала – часто там бывает пусто. Он так и сделал. Он почувствовал как бы облегчение, вложив письмо в конверт. Ах да! Я забыл! Слуга, адресную книгу Парижа! Он начал искать имя Мобель в предположении, что оно случайно может оказаться верным. Правда, едва ли сообщила она для писем настоящее свое имя, но, с другой стороны, всего можно ждать от такой пылкой, неосторожной особы, как она! Ничего нет невероятного, что мы встречались с ней в свете, но я не знал к ее зовут.
Посмотрим: он нашел некоего Мобе и Мобек, но не Мобель. В сущности, это ничего не доказывает, решил он, закрывая указатель. Выйдя, бросил письмо в почтовый ящик. Самое возмутительное во всем этом, конечно, муж. Но черт возьми! Ненадолго отниму я у него жену!
Сперва он направился домой, потом подумал, что все равно не сможет теперь работать, что, оставшись один, погрузится в мир своих призрачных видений. Не зайти ли к де Герми, сегодня у него приемный день?
Удачная мысль!
Ускорив шаги, он вышел на улицу Мадам, позвонил у двери в антресоль. Отворила служанка: «Ах это вы, господин Дюрталь, его нет дома, но он сейчас вернется, не обождете ли?» «Вы, наверное, знаете, что он придет?» «Да. Ему следовало бы уже сейчас быть дома», – ответила она, разводя огонь. Она ушла, и Дюрталь присел. Потом соскучился и, подойдя к протянувшимся, как у него, вдоль стен полкам, начал просматривать громоздившиеся на них книги.
Однако де Герми собирает любопытные книги, пробормотал он, раскрывая древнюю книгу. Несколько веков назад она пригодилась бы для врачевания того состояния, которое я теперь переживаю: «Manuale Exorcismorum». Посмотрим, что сообщает этот справочник для одержимых. Каково! Причудливые заклинания! Вот заговоры для беснующихся и заколдованных. Дальше идут заговоры от приворотного зелья и чумы. Потом против порчи, напущенной на съестное. Однако! Есть даже заклинание, чтобы не скисалось масло и молоко! В чем не открывали только дьявола в то доброе, старое время. А это что такое? И он взял в руки два томика с алым обрезом, Переплетенные в рыжую кожу. Открыв, посмотрел на заглавие: «Анатомия мессы» Пьера дю Мулэна, издано в Женеве в 1624 году.
Пожалуй, это интересно. Прохаживаясь, чтобы согреться, он кончиками пальцев перелистывал один из томиков. Ага! Однако это любопытно! На странице, которую пробегал он, рассматривался вопрос о священнослужителях. Автор утверждал, что человек больной или лишенный какой-либо части тела не должен совершать священнослужения, и поднимал в связи с этим вопрос: допустимо ли, чтобы оскопленный был рукоположен в священники. Отвечал он следующее: нет, но в крайнем случае можно ограничиться требованием, чтобы человек этот носил на теле пепел недостающих у него членов тела. Он прибавлял, что такое толкование отвергалось кардиналом Толе, но что оно признается тем не менее всеми.
Чтение захватило Дюрталя. Далее дю Мулэн исследовал вопрос: «Надлежит ли воспрещать священнослужение аббатам, развращенным роскошью?» Вместо ответа он цитировал изъяснение canonis Maximiani, который в параграфе 81 грустно вздыхает: «Общепринято, что не подобает никого отрешать от должности за любодеяние, ибо немногие избегают заражения этим пороком».
– Вот как, ты здесь! – прервал его вошедший де Герми. – Что ты читаешь? «Анатомию мессы»? Плохая книга протестанта! Если б ты знал, как я измучен, – продолжал он, бросив на стол шляпу. – Что за животные все эти господа!
Очевидно, он чувствовал потребность излить раздражение, накипевшее у него на сердце.
– Да, представь себе, я только что с консилиума, на котором присутствовали врачи, которых журналы зовут «князьями науки». В течение четверти часа были высказаны взгляды самые различные. Однако все держались мнения, что больной мой безнадежен. Наконец они единогласно прописали мускус и обрекли тем страдальца на бесполезные мучения.
Робко замечаю я тогда, что проще послать за исповедником и усыпить страдания умирающего повторными вспрыскиваниями морфия. Если б видел ты их лица! Они чуть не растерзали меня!
Ах! Эта доблестная современная наука! Ученый муж открывает какую-нибудь болезнь – новую или забытую, – носится с каким-либо способом врачевания – новым или утраченным, – а в общем никто не знает ничего!
Допустим, наконец, что врачи не круглые невежды, но разве можно с пользой лечить, когда в фармации до такой степени царит теперь подделка, что ни один врач не в состоянии поручиться за точное выполнение своего предписания! Один из многих примеров: ты не найдешь сейчас в аптеках сока белого мака, полемакового сироп; старых врачеваний. Его изготовляют теперь, смешивая опий с сахарным сиропом, точно это одно и то же!
Мы дошли до того, что сами не прописываем лекарственных составов, а назначаем готовые лекарства, пользуемся для этого чрезвычайными средствами, наводнившими страницы газетных объявлений. Мы беззаботно отвернулись от изучения болезни, вводим медицину, равно врачующую всех. Какой позор! Какое неразумие!
Нет, я искренне убежден, что древнее врачевание, основывавшееся на опыте, стояло выше, оно знало по крайней мере, что пилюли, зерна, порошки ненадежны, и прописывало лекарства исключительно в жидком виде! Каждый врач отмежевал себе теперь узкую отрасль. Глазные врачи обращают внимание исключительно на глаза и, чтобы вылечить их, отравляют со спокойной совестью все тело. Здоровье больных навек разрушает их пилокорпин! Другие врачуют кожные заболевания, удаляют экземы у старцев, которые, вылечившись, впадают сейчас же в детство или безумие. Забывают о целом, разрушают организм, увлекаясь местным лечением… Какой-то дурман! Мои достопочтенные собратья путаются и блуждают, применяя иногда лекарства, значение которых непонятно им. Например, антипирин: это один из немногих воистину действенных составов, найденных химией за весьма долгое время. И кто из врачей, однако, знает, что компрессами антипирина, разведенного в йодистой холодной воде Бондоно, можно бороться с раком, который слывет недугом неизлечимым? Это невероятно, но я говорю чистейшую правду!
– Ты думаешь, – вставил Дюрталь, – что древние врачи лечили успешнее?
– Да. Они чудесно знали действие лекарств – неизменных, изготовлявшихся добросовестно. Я согласен, конечно, что старик Паре не мог достичь особенных успехов, когда превозносил врачевание ладанками, предписывал больным носить при себе сухие лекарственные порошки в мешочках, форма которых менялась в зависимости от болезни: мешочек делался в виде чепчика в случае болезни головы, волынки – при заболеваниях желудка и бычьего языка, когда болела селезенка! По меньшей мере пустословно его утверждение, что желудочные боли излечиваются присыпкой порошка из алых роз, кораллов, мастики, полыни, мяты, мускатного ореха и аниса. Но этим не исчерпывались его медицинские познания. Он владел тайнами науки мудрых, теперь утраченной, и часто вылечивал недужных!
Современная медицина пожимает презрительно плечами, когда ей говорят об Амвросии Паре. Вспомни, как издевалась она над учением схоластов, утверждавших, что золото врачует недуги, что не мешает, однако, ей пользоваться теперь пылью и солями этого металла в различных сочетаниях: наэлектризованную мышьяково-кислую соль применяют против бледной немочи, солекислую соль против сифилиса, синильную кислоту при расстройстве месячных и золотухе, хлористое соединение соды с золотом при застарелых язвах!
Нет, поверь мне, отвратительно быть врачом… Я доктор медицины, изучал болезни в госпиталях и сознаю себя неизмеримо ниже смиренных деревенских знахарей-отшельников, которые искусстве врачевания много сильнее меня!
– А гомеопатия?
– О! В ней есть и хорошее и дурное. Она тоже лечит, не излечивая, иногда справляется с болезнью, но бессильна в тяжелых случаях, как и лечение Маттеи, которое беспомощно отступает пред бурно протекающими кризисами!
Но оно полезно как успокаивающий, выжидательный способ врачевания, как нечто вспомогательное. Его составы очищают кровь и лимфы, его противозолотушные, ангиотические, противораковые средства иногда излечивают заболевания, не уступающие никакому другому лечению. Оно помогает, например, больному, изнуренному йодистым калием, передохнуть, перетерпеть, оправиться и безопасно приступить со свежими силами к йодистому лечению!
Добавлю, что действие зеленого электричества часто утишает острые, мучительные боли, которых не в силах укротить даже морфий или хлороформ. Ты спросишь, каков состав зеленого электричества, как изготовляется оно? На это я решительно ничего не могу тебе ответить. Маттеи утверждает, что в своих жидкостях и пилюлях ему удалось запечатлеть электрические свойства некоторых растений. Но он не раскрыл тайны своего состава: и вправе рассказывать все, что ему заблагорассудится. Любопытно но, во всяком случае, что врачевание, открытое католиком и римским графом, нашло себе последователей главным образов среди протестантских пасторов, торжественно воплощающих свою первородную тупость в невероятных разглагольствованиях; которыми сопровождают они свои опыты лечения. А в сущности, если хорошенько поразмыслить, то все эти системы – бредни! Истина та, что мы, врачи, действуем в потемках, наугад, что, впрочем, не мешает нам при условии известного опыта, а главное – вдохновения обезлюживать города. Так-то, милый мой, но бросим это, что поделываешь?
– Ничего особенного. Скорее мне следовало бы об этом спросить тебя. Ты не показывался целых восемь дней.
– Да, представь себе, я был занят – много больных. Кстати, я навестил Шантелува, у него приступ подагры. Он жалуется, что ты перестал бывать у них. А жена – я не знал до сих пор, что она такая поклонница твоих книг, – только и говорила о них да о тебе. Мне показалось, что она слишком захвачена тобой, ты знаешь, какая она обычно холодная! Что с тобой? – изумленно оборвал он, рассматривая покрасневшего Дюрталя.
– Ничего, прости, мне некогда, пора уходить, до свидания.
– Ты что-то скрываешь?
– Ничего, уверяю тебя, ничего.
– А! Взгляни! – и не настаивавший де Герми, провожая, подвел его к великолепному бараньему окороку, висевшему в кухне возле окна.
– Чтобы он провял до завтра, я вывесил его на воздух. Мы у Карэ съедим его вместе с астрологом Гевенгэ. Никто не умеет варить баранину по-английски лучше меня. Поэтому завтра я займусь стряпней и не зайду за тобой. Ты застанешь меня на колокольне в роли кухарки.
Дюрталь облегченно вздохнул, выйдя на улицу. Неужели правда, что незнакомка – жена Шантелува, мечтал он.
Нет! Не Может быть! Никогда не обращала она на меня ни малейшего внимания. Всегда была молчалива, леденяще холодна. Это невероятно! Но почему говорила она так с де Герми? Наконец, они знакомы, и если б она хотела меня видеть, она пригласила бы меня к себе, не затеяла бы этой переписки под вымышленным именем Мобель.
Он вспомнил, что инициал незнакомки – «Г». Но госпоже Шантелув так пристало ее отроческое имя: Гиацинта. Она живет на улице Банье, недалеко от почты на улице Литтре. Она блондинка, у нее есть прислуга, она ревностная католичка, это она!
И одно за другим мгновенно сменились в нем два совершенно различных ощущения.
Сперва разочарование, так как незнакомка влекла его сильнее. Никогда не воплощала госпожа Шантелув идеала, который он создал себе, призрачных, причудливых черт лица, которые рисовало его воображение, живого, трепетного облика, скорбного и пылкого стана, о которых мечтал он!
Наконец, самое знание незнакомки ослабляло силу ее чар, она становилась обыденнее. Легкость свидания убивала сказку. Вдруг он ощутил в себе внезапный прилив радости.
Он мог натолкнуться на женщину старую и безобразную, а Гиацинта – мысленно он уже называл ее по имени – была обольстительна. Самое большее тридцати трех лет, некрасива, но не обыденна. Хрупкая, гибкая блондинка с едва обозначенными бедрами, она казалась худощавой, тонкой. Лицо не отличалось особой красотой, и его портил слишком большой нос, но зато от губ веяло пламенем, зубы были великолепные, розовый оттенок кожи струился на молочном, чуть-чуть синеватом фоне, своим тусклым отливом напоминавшим рисовую водку.
Но истинное ее обаяние, ее туманящая загадочность таились в глазах. Они казались пепельными, ее обманные мерцающие близорукие глаза, в которых мелькало выражение покорной скуки. Иногда зрачки серели, и в них вспыхивали серебряные искорки. В глазах ее скорбь и тоска чередовались с надменной скукой. Он отчетливо помнил, как раньше в недоумении отступал пред их загадкой!
Но если взвесить, то страстные письма ее совсем не вытекали из характера женщины, так прекрасно владевшей собой, чуждой всякого жеманства, такой спокойной. Он вспоминал ее званые вечера. Любезная хозяйка, она мало вмешивалась в разговоры, с улыбкой, но не без чопорности встречала гостей.
В общем, если она, думал он, то, значит, это подлинное раздвоение. Видимая оболочка светской женщины, благоразумной, сдержанной хозяйки открытых вечеров, а под этим иной, неизвестный еще облик, безумно страстный, пылко-романтичный, истеричное тело, душа, жаждущая любовных приключений! Нет, это невероятно!
Решительно, я на ложном пути, задумался он снова. Разве не могло быть случайным совпадением, что она говорила с де Герми о моих книгах? Но отсюда еще далеко до вывода, что она тоскует по мне и писала такие письма. Нет, не она. Но кто же?
Он думал все о том же, не подвигаясь ни на шаг. Воссоздал вновь образ этой женщины, сознался, что она воистину обольстительна – гибкая, с отроческим телом, чуждым отвратительного груза плоти! Задумчивый вид, скорбные глаза, даже холодность, искренняя или деланная, – как облекало ее все это загадкой! Он перебрал в памяти все свои сведения о ней, а знал он лишь, что за Шантелувом она замужем во втором браке, что у нее нет детей и что первый муж ее – фабрикант церковных облачений – покончил самоубийством по неизвестным причинам, ничего больше. Неистощимы, наоборот, были россказни, ходившие о Шантелуве.
Он был автором истории Польши и Северных Союзов, исторического труда о Бонифации VIII и его веке, жизнеописания блаженной Жанны де Валуа, основавшей орден Благовещения, жизнеописания досточтимой Матери Анны де Ксентонж, учредившей общину святой Урсулы, и других книг в таком же роде, которых не вообразишь себе иначе, как в гладких или шагреневых переплетах из бараньей кожи, и которые выходят в издании Лекофра, или Пальмэ, или Пусьелга. Шантелув подготовлял свою кандидатуру в академию изящной литературы и рассчитывал на поддержку партии герцогов. Принимал у себя раз в неделю влиятельных ханжей, дворянчиков, духовенство. Но, без сомнения, смотрел на это, как на неизбежное зло, так как, несмотря на свои боязливые, смиренные манеры, он, в общем, был человек общительный, любил похохотать.
С другой стороны, он стремился кое-что значить в литературных кругах, влиятельных в Париже, и умудрялся устраивать у себя литературные дни, на которые приглашал писателей. Очевидно, рассчитывал обеспечить тем себе их поддержку или, по крайней мере, предотвратить нападки, когда будет выставлена его всецело клерикальная кандидатура.
Вероятно, чтобы привлечь своих противников, выдумал он эти причудливые вечера, на которые сходились любопытства ради люди самые разнообразные.
Возможно, что им двигали при этом еще другие побуждения. Про него ходила слава лицемера, человека беззастенчивого, плутоватого. Дюрталь сам замечал, что на всяком званом обеде Шантелувов бывал какой-нибудь незнакомец, изысканно одетый, ходили слухи, что такие сотрапезники – иностранцы, которым показывали писателей как восковые фигуры и у которых занимала рано или поздно значительные суммы.
Бесспорно, что чета эта живет широко, не владея никакими определенными доходами. С другой стороны, католическая книготорговля и журналы платят еще хуже, чем светские газеты и издатели. Хотя имя Шантелува пользуется широкой известностью в клерикальном мире, но немыслимо, чтобы на доходы с авторских прав можно было поставить дом на такую ногу!
Что ни говорите, а все это туманно, размышлял Дюрталь. Положим, что женщина эта страждет в глубине души, что она не любит мужа – подозрительного церковника. Но каково ее истинное положение в доме? Знает она о денежных проделках Шантелуьа? Во всяком случае я не вижу ничего, что влекло бы ее ко мне. Допустим, что муж потакает ей, но тогда простой здравый смысл подсказывает, что ей нужен любовник влиятельный или богатый, а она прекрасно знает, что я далек и от того, и от другого. Шантелув понимает, что я не могу оплачивать расходы на костюмы, поддерживать их шаткое хозяйство. У меня всего три тысячи годового дохода, и я сам едва свожу концы с концами!
Нет, это совсем не то. Во всяком случае связь с этой женщиной обещает мало утешительного, решил он, охлажденный своими думами. Но как я недогадлив! Разве не доказывает подноготная этой четы, что моя незнакомка не жена Шантелува, и, по зрелому рассуждению, я порадуюсь, если это так!
VIII
На другой день улеглись волны его дум. Незнакомка по-прежнему не исчезала из его души. Но по временам испарялась или уходила вдаль. Менее ярко восставал пред ним ее облик, окутанный туманом. Ослабели ее чары, она не владела уже им одна.
Лихорадку его до известной степени охладила осенившая его вдруг при словах де Герми мысль, что незнакомка не кто иная, как жена Шантелува. Теперь рассеялись вчерашние доводы обратного. По тщательному обсуждению, перебирая одно за другим звенья своих мыслей, он не мог больше сомневаться, что это именно она. А если так, то в основе этой связи ему мерещилось нечто безвестное, даже опасное и, насторожившись, он не уносился, как раньше, по течению.
И в то же время в нем совершалось что-то новое. Никогда не думал он о Гиацинте Шантелув, никогда не увлекался ею. Правда, он любопытно останавливался перед тайной облика ее и жизни, но, в общем, сейчас же забывал о ней за порогом ее дома. А теперь она занимала его мысли, влекла к себе. Дюрталь воскрешал в памяти, сливал воедино лицо ее с образом женщины, который создали его мечты, и она разукрасилась вдруг прелестями незнакомки, заимствовала некоторые черты ее. Его еще отталкивал муж – ханжа и лицемер, и вожделения его не устремлялись больше во всю скачь, но она не казалась ему менее желанной. Наперекор внушаемому ей недоверию она могла стать увлекательной любовницей, чрезмерную порочность могла смягчить своей радостною добротой. И его утешало сознание, что она уже не фантом, измышленный в часы смятения, что она сбросила с себя небытие.
С другой стороны, если он ошибается, если письма писала ему не жена Шантелува, то неизвестная потускнела потому уже, что могла воплотиться в знакомое ему создание. Она утратила частицу своей далекости, изменилась красота ее, в свою очередь уподобившись чертам жены Шантелува, и поскольку эта выигрывала от подобного сближения, постольку же теряла та в облике, воссоздаваемом Дюрталем.
Так или иначе, была ли то жена Шантелува или нет, но он чувствовал себя легче, спокойнее. Возвращаясь снова все к тем же мыслям, он, в сущности, не знал даже, кто влечет его сильнее: призрак ли, сотворенный им и меркнувший теперь, или Гиацинта, которая не разочарует его по крайней мере станом феи Карабосской, лицом Севинье, изборожденным летами.
Воспользовавшись этим роздыхом, он снова хотел приняться за работу. Но не выдержали натянутые нервы и, приступив к главе о преступлениях Жиль де Рэ, он не смог связать двух фраз. Он устремился за маршалом в погоню, обрел его, пытался запечатлеть на бумаге, но описание выходило вялым, немощным, усеянным пробелами.
Отбросив тогда перо, он откинулся в кресле и, предавшись мечтам, перенесся в Тиффож – в этот замок, куда нисходил сатана, столь упорно не показывавшийся маршалу, и где, без ведома Жиля вселившись в него, увлекал его в исступленные радости убиений.
В этом сущность силы сатаны, думал он, и если поразмыслить, то вопрос о внешних видимых воплощениях покажется второстепенным. Чтобы явить свое бытие, демону вовсе не нужно облекаться видом человека или животного. Для самоутверждения ему достаточно, если он изберет обиталищем своим душу и, изъявляя, подтолкнет ее к непостижимым преступлениям. Нашептывая, тешит он людей надеждой, что, освободив их от своего, часто им самим неведомого пребывания, он явится, повинуясь заклинаниям, и скрепит с ними торжественный договор, по которому наделит их дарами взамен требуемых злодеяний. Иногда одного желания заключить ним договор достаточно, чтобы он вселился в нашу душу.
Все современные учения Ломброзо и Модслея не способны объяснить нам необычные злодейства маршала. Нет ничего проще, как объявить его маньяком, так как он был таковым на самом деле, если под маньяком разуметь человека, одержимое всевластной, навязчивой идеей. Но таков, в большей или меньшей степени, каждый из нас, начиная с купца, все помышления которого сводятся к прибыли, и кончая художником, всецело поглощенным рождением своего творения. Но почему и как стал маньяком маршал? Вот чего не ведают все Ломброзо мира. Поражение головного мозга, строение мозговой оболочки не дают нам ровно никакого ответа на вопрос. Это лишь производные явления, следствия, порожденные неизвестной причиной, которую ни один материалист мира не сможет объяснить. Слишком легко утверждать, что убиения и святотатства порождаются расстройством мозговых тканей. Знаменитые психиатры нашего времени пытаются исследованием мозга безумных обнаружить поражение или изменение серого вещества. Хотя бы и так! Возьмем, к примеру, женщину, одержимую бесовством, допустим, что у нее действительно поражен мозг, но вопрос в том, явилось ли это поражение следствием ее бесовства или, наоборот, поражение вызвало бесовство! Развратители духа не прибегают еще к помощи хирургии, не отсекают частиц мозга, не пользуются искусством трепанации. Они ограничиваются воздействием на ученика, действуют более верными средствами – внушают ему низменные мысли, развивают в нем дурные инстинкты, исподволь толкают его на путь порока. И если серое вещество испытуемого меняется под влиянием беспрестанных внушений, то это явное доказательство, что поражение мозга не причина, а следствие душевных состояний.
А потом… потом, разве не безрассудны, как подумаешь, современные учения, смешивающие воедино преступников, одержимых, бесовствующих и безумных! Девять лет назад четырнадцатилетний ребенок Феликс Леметр убивает незнакомого маленького мальчика, обуреваемый жаждой видеть его страдания, слышать его вопли. Распоров ему ножом живот, он вертит, поворачивает лезвие в теплой ране и медленно потом перепиливает ему горло. Не обнаруживает никакого раскаяния, выказывает себя на следственном допросе разумным и жестоким, Доктор Легран дю Соль и другие специалисты терпеливо наблюдали его целые месяцы и не могли напасть ни на один признак безумия, не нашли в нем чего-либо похожего на манию. И при всем том он получил даже сносное воспитание, не был совращен другими!
Точь-в-точь, как бесовствующие, которые творят зло ради зла. Они не безумнее монаха, охваченного молитвенным восторгом в келье, не более безумны, чем человек, творящий добро ради добра. Здесь речи нет о патологии. Они являют два противоположных полюса души – этим сказано все!
В XV веке такие крайние устремления воплощались Жанной д'Арк и маршалом де Рэ. Нет оснований считать Жиля безумнее Девы, непостижимый успех которой не имеет ничего общего с помешательством и бредом. Как бы там ни было, страшные ночи бывали, должно быть, в этой крепости, подумал Дюрталь, мысленно переносясь в замок Тиффож. Он посетил его в прошлом году, желая пожить там, где вырос де Рэ, почувствовать дыхание древних развалин.
Он поселился в маленькой деревушке, расположенной у подножия древних башен, и убедился, как живуча легенда о Синей Бороде здесь, в этой глухой местности Вандеи, на берегах Бретани. Юноша, который кончил плохо, говорили о нем молодые женщины. А старухи пугливо крестились, проходя вечером у подножия стен. Хранилось до сих пор предание об убиенных детях. Все еще вселял ужас маршал, которого знали лишь по прозвищу.
Ежедневно ходил Дюрталь к замку, высившемуся над долинами Крюм и Севр против холмов, изборожденных глыбами гранита, поросших могучими дубами, корни которых вышли из земли и были подобны разоренным гнездам больших змей.
Казалось, что находишься в подлинной Бретани. Те же небо и земля: небо скорбное и угрюмое, солнце как бы постаревшее, тускло золотившее лишь опушки вековых лесов и седые мхи камней. Раскинулась необозримая даль бесплодных равнин, изрытых лужицами заржавленной воды, усеянных утесами, пестревших розовыми колокольчиками вереска, желтыми стручками рощиц и пушистых дроков.
Чувствовалось, что из века в век повторяет неизменно природа эту небесную твердь железистого цвета, эту скудную землю, местами едва подернутую кровавым цветением гречихи, эти дороги, окаймленные камнями, наваленными грудой без скрепления цементом, эти тропинки, отгороженные непроницаемыми плетнями, эти угрюмые равнины, беспризорные поля, нищие, изъеденные проказой и забрызганные грязью.
Не изменился даже этот скот, тощий и мелкий, коренастые коровы, черные бараны, голубые глаза которых смотрели холодно и ясно, подобно взору трибад или славян!
В полном соответствии с замком, устремлявшим ввысь свои развалины, расстилалась долина Тиффожа, хотя ее безобразила труба фабрики, немного поодаль на берегу Севры. Мощно громоздился замок цепью башен, от которых сохранились обломки, опоясывавших некогда целую долину, теперь превращенную в жалкий огород.
Голубоватые листья капусты, скудная морковь, чахлая брюква зеленели там, где всадники рубились когда-то в ярости схваток или торжественные шествия развертывались в курениях ладана с пением псалмов.
Сбоку пристроили хижину, и крестьянка, одичалая, как бы утратившая способность речи, лишь при виде монеты выходила из оцепенения и, схватив ее, протягивала ключи.
Тогда можно было часами бродить среди развалин, курить, мечтать в праздности…
К сожалению, отдельные части замка были недоступны. Главную башню до сих пор окружал со стороны Тиффожа глубокий ров, на дне которого росли могучие деревья. Их вершины служили опушкой края рва, и зыбкий покров листвы стлался до самой паперти, которую не защищал уже подъемный мост.
Но зато открывался легкий доступ с другой стороны – там, где бурлила Севра.
Уцелели крылья замка, увитые плющом и гордами, усеянными белыми хохолками. Высился кремнистый, точно пемза, сухой, посеребренный лишаями, позолоченный мхами камень башен, окаймленных зубчатыми воротниками, которые понемногу осыпались под напором ночных ветров.
Внутри тянулись залы из тесаного гранита, угрюмые и холодные, с крутыми сводами, подобными днищу челноков.
Витые лестницы вели вверх и вниз в покои, похожие друг на друга, связанные темными ходами, в которых неизвестно для чего высечены были закоулки и виднелись глубокие ниши.
Внизу коридоры так суживались, что вдвоем нельзя было пройти рядом, углублялись покатым уклоном вниз, ветвились, беспорядочно переплетались и выходили в мрачные темницы, источенные стены которых искрились стальным отблеском при свете фонаря, как бы усеянные кристальными крупинками сахара. В углах или посреди верхних келий и подвальных темниц ноги спотыкались о груды затвердевшей земли, расщеленной зияющим отверстием подземной темницы или колодца.








