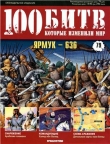Текст книги "История халифа Хакима"
Автор книги: Жерар де Нерваль
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Жерар де Нерваль
История халифа Хакима
ГАШИШ
На правом берегу Нила, недалеко от горы аль-Мукаттам, возвышающейся над новым городом, близ пристаней Фустата, где покоятся руины Старого Каира, примерно в 1000-м году христианского летосчисления, что соответствует четвертому веку хиджры, была расположена небольшая деревня, обитатели которой в основном принадлежали к секте сабеев.
За последними домами, стоящими на берегу реки, открывается живописный вид: воды Нила тихо плещутся у острова Рода, похожего на корзину цветов в руках невольника. На другом берегу видна Гизе, и после захода солнца в фиолетовую пелену заката врезаются гигантские треугольники пирамид. На светлом небе выделяются черные силуэты пальм, смоковниц и фиговых деревьев. Сфинксы, лежащие среди песков, похожи на сторожевых псов, охраняющих стадо буйволов, длинной чередой бредущих на водопой, и фонари рыбаков золотыми точками светятся в непроницаемой тьме.
В деревне сабеев, откуда открывается этот великолепный вид, среди рожковых деревьев, стоит белостенный окель, террасы которого спускаются прямо к воде: по ночам лодочники, плывущие вверх и вниз по Нилу, видят, как в доме горят огоньки. Любопытный путешественник, находясь в фелюге посередине реки, может рассмотреть сквозь кружево решеток океля, как вокруг столиков на маленьких ящиках, сплетенных из пальмовых прутьев, или на диванах, крытых циновками, расположились завсегдатаи, чье поведение вызывает удивление наблюдателя. Возбужденная жестикуляция, сменяющаяся тупой неподвижностью, бессмысленный смех, нечленораздельные крики говорят о том, что перед ним один из тех домов, где, пренебрегая запретом, неверные возбуждают себя вином, бузой[1]1
Буза – пиво.
[Закрыть] или гашишем.
Как-то вечером к одной из террас подошла лодка, гребец уверенно управлял ею, поскольку хорошо знал эти места; лодка причалила у первых ступенек, которые омывала вода, и из нее вышел юноша приятной наружности, с виду рыбак; он быстро и решительно поднялся в окель и сел в углу зала – вероятно, на свое обычное место. Никто не обратил на него внимания; очевидно, это был завсегдатай.
В это же время через противоположную дверь, выходившую в сад, в зал вошел человек в черном шерстяном плаще, с длинными волосами, какие не носят в этих местах, и в белой шапочке[2]2
Такийя.
[Закрыть].
Его появление привлекло всеобщее внимание. Он сел в темный угол, и скоро захмелевшие посетители забыли о его присутствии. Несмотря на бедность одеяния, пришедший не был похож на нищего, отмеченного печатью униженности. Резкие черты его лица напоминали львиную маску. Глаза цвета сапфира властно притягивали к себе, вселяя и ужас и восторг одновременно.
Юсуф, так звали юношу, приплывшего по реке, почувствовал расположение к странному незнакомцу, чье появление он сразу же заметил. Юноша не участвовал в общем веселье, он подошел к дивану, на котором сидел чужестранец.
– Брат, – сказал Юсуф, – ты выглядишь усталым. Наверное, ты пришел издалека? Не хочешь ли освежиться?
– Да, путь мой был неблизок, – ответил чужестранец. – Я зашел в этот окель отдохнуть, но что мне отведать, ведь здесь подают лишь запретные напитки?
– Вы, правоверные мусульмане, осмеливаетесь смачивать губы лишь чистой водой; мы же, сабеи, имеем право, не нарушая своих законов, утолять жажду вином или золотистым ячменным пивом.
– Но сам ты не пьешь спиртного?
– Пьянство простолюдинов претит мне, – сказал Юсуф, делая знак негру, который поставил на столик две маленькие стеклянные чашки, оплетенные серебряной филигранью, и сосуд, наполненный зеленоватой кашицей, с воткнутой туда лопаткой из слоновой кости.
– В этой чаше – рай, который твой пророк обещал правоверным, и если ты не будешь столь щепетилен, то через час очутишься в объятиях гурий, даже не переходя через мост ас-Сират, – продолжал Юсуф, смеясь.
– Но ведь, насколько я понимаю, это гашиш, – сказал незнакомец, отодвигая чашку, в которую Юсуф уже положил порцию фантастической смеси. – А гашиш запрещен.
– Все, что приятно, то запрещено, – возразил Юсуф, проглотив первую ложку кашицы.
Незнакомец в упор посмотрел на него своими синими глазами и так сильно нахмурил лоб, что натянулась даже кожа на голове; казалось, он вот-вот кинется на беззаботного юношу и разорвет его в клочья; но он сдержался, морщины на лбу разгладились, и, внезапно решившись, он взял чашку и стал пробовать зеленую смесь.
Через несколько минут Юсуф и незнакомец уже ощутили действие гашиша, ими овладела приятная истома, на губах заиграла блаженная улыбка. Хотя они были знакомы от силы полчаса, им казалось, что они знают друг друга вечность. Действие наркотика усиливалось, они начали хохотать, возбужденно о чем-то рассказывать, особенно громко говорил чужестранец. Строго соблюдая запреты, он впервые отведал гашиша и сразу же испытал на себе его действие. Он выглядел страшно возбужденным: вихрем сменялись в его голове отрывки непонятных, неведомых, странных мыслей; глаза горели, словно освещенные изнутри отблесками незнакомого мира, какое-то сверхъестественное величие сквозило в его манерах, затем наступило расслабление, и он мягко опустился на пол, находясь под блаженным действием кейфа.
– Ну, приятель, – спросил Юсуф, который, кажется, успел заметить эту вспышку в поведении опьяненного незнакомца, – что тебе пригрезилось от простого фисташкового варенья? Будешь ли ты теперь предавать анафеме славных людей, которые собираются здесь, чтобы быть по-своему счастливыми?
– Гашиш уподобляет человека богу, – ответил незнакомец медленно и громко.
– Да, – горячо подхватил Юсуф, – тем, кто пьет воду, знакома лишь грубая, материальная оболочка вещей. Опьянение, заволакивая пеленой взор, открывает глаза души; дух вырывается из своей темницы – человеческого тела, словно пленник от уснувшего стража, оставившего ключ в двери. Радостный и свободный, он блуждает на просторе, беседуя с ангелами, которые озаряют его неожиданными и чудесными откровениями. Одним взмахом крыльев он переносится в атмосферу неслыханного счастья, и эти мгновения длятся вечность, так быстро сменяются ощущения. Я вижу, казалось бы, один и тот же, но в то же время и другой сон; я сажусь в лодку, напевая от радости, которой наполняют меня эти видения, и закрываю глаза от немеркнущего сверкания гиацинтов, карбункулов, изумрудов, рубинов, на их фоне развертываются замечательные фантастические зрелища, я вижу где-то в бесконечности небесное создание, прекраснее, чем все, описанное до сих пор поэтами, оно удивительно мягко улыбается мне и спускается за мной с небес. Ангел это или пери? Не знаю. Она садится ко мне в лодку, и грубое дерево сразу же превращается в перламутр, мы плывем по серебряной реке, и легкий ветер несет с собой ароматы.
– Странное и благостное видение! – прошептал незнакомец, покачав головой.
– Это не все, – продолжал Юсуф. – Как-то вечером я принял меньшую дозу и очнулся от опьянения, когда лодка подплывала к острову Рода. На меня смотрела женщина, похожая на мое видение. Ее глаза, даже если они принадлежали человеческому существу, не утратили своего божественного блеска; из-под накидки в лунном свете мерцало одеяние, усыпанное драгоценными камнями. Я дотронулся до руки – мягкая, прохладная, нежная кожа, словно лепестки цветка; я укололся об оправу ее кольца и окончательно пробудился.
– Близ острова Рода? – спросил незнакомец задумчиво.
– Я не спал, – продолжал Юсуф, не обращая внимания на слова своего слушателя, – гашиш лишь оживил воспоминание, спрятанное в уголках души, потому что этот божественный лик был мне знаком. Но где я мог его видеть? На каком свете мы встречались? В какой прежней жизни мы могли сталкиваться? Этого я не знаю, но странная встреча, непонятное приключение ничуть меня не удивили: мне показалось естественным, что эта женщина, воплощение моего идеала, очутилась у меня в лодке посреди Нила, словно вышла из какого-то речного цветка.
Не требуя никаких объяснений, я бросился к ее ногам и как своей воплощенной мечте сказал ей все пылкие и возвышенные слова, которые приходят на ум в часы любовного экстаза; я произносил слова, полные глубокого смысла, фразы, в которых заключались бездны мудрости, мои речи таили отзвук исчезнувших миров. Душа моя переполнялась величием прошлого и будущего: мне казалось, что любовь, которую я испытывал, была чувством, вмещавшим в себя вечность.
По мере того как я говорил, ее огромные глаза заблестели и сделались лучистыми; она протянула ко мне свои прозрачные руки, и они засияли в ночи. Я почувствовал, что словно объят пламенем, и снова попал во власть грез. Когда я очнулся от сладостного забытья, овладевшего всем моим существом, я уже лежал под пальмой на противоположном берегу, а мой черный раб мирно спал около стоящей на песке лодки. На горизонте появились розовые отблески, занималось утро.
– Такая любовь совсем не походит на земные чувства, – сказал незнакомец, которого ничуть не смутила фантастичность рассказа Юсуфа, поскольку действие гашиша заставляет человека легко верить в любые чудеса.
– Я никому не рассказывал об этих невероятных событиях, почему я доверился тебе, незнакомому человеку? Мне трудно это понять. Что-то таинственное влечет меня к тебе. Когда ты вошел сюда, мой внутренний голос сказал мне: «Вот он наконец». Твой приход успокоил терзавшее меня смутное волнение. Ты тот, кого я ждал, сам того не ведая. Душа моя рвется тебе навстречу, и тебе я должен был открыть свою сокровенную тайну.
– Я испытываю те же самые чувства, – ответил чужестранец, – и скажу тебе то, в чем не осмеливался признаться даже самому себе. Твоя страсть невозможна, моя – чудовищна; ты любишь пери, я же… ты содрогнешься, я люблю свою сестру, но вместе с тем я не раскаиваюсь в своем преступном влечении. Как бы я ни судил себя, оправданием служит овладевшее мною тайное чувство, а не низменная земная любовь. К сестре меня влечет не сладострастие, хотя по красоте ее можно сравнить лишь с призраком твоих видений, это какое-то бесконечное чувство, бездонное, как море, необъятное, как небо, какое способно испытывать лишь божество. Мысль о том, что сестра моя может принадлежать какому-нибудь мужчине, кажется мне чудовищной, как святотатство, ибо за ее телесной оболочкой я угадываю нечто возвышенное. Несмотря на ее земное имя, это супруга моей божественной души, дева, предназначенная мне с первых дней творения; иногда мне кажется, что через века и мрак я различаю следы нашей тайной связи. Мне на память приходят сцены, происходившие на земле до появления человека; я вижу нас обоих под золотой сенью Эдема, где нам повинуются послушные духи. Я боюсь, что, соединившись с другой женщиной, потревожу или опорочу мировую душу, которая живет во мне. От слияния нашей божественной крови может появиться бессмертная раса – верховное божество, более могущественное, чем все, известные нам до сих пор под различными именами и в разных обличьях.
Пока Юсуф и чужестранец вели этот доверительный разговор, завсегдатаи океля в сильном опьянении то бессмысленно хохотали, предаваясь необузданному веселью, то застывали в исступлении, то судорожно извивались, но постепенно действие индийской конопли ослабевало, они успокаивались и падали на диван в полном изнеможении.
В окель вошел человек в длинной одежде, с лицом патриарха и окладистой бородой, он встал посреди зала и зычно произнес:
– Братья, поднимайтесь, я наблюдал за небом, настал благоприятный час, чтобы принести жертву перед сфинксом белого петуха во славу Гермеса и Агафодемона!
Сабеи начали подниматься с диванов и, казалось, собирались пойти за своим священнослужителем. При этих словах глаза незнакомца несколько раз менялись в цвете: из синих они превратились в черные, лицо исказилось от ярости, а из груди вырвался глухой крик, от которого все присутствующие в ужасе содрогнулись, словно в окель проник дикий лев.
– Безбожники, святотатцы, подлые твари! Гнусные идолопоклонники! – закричал он голосом, напоминавшим раскаты грома.
От этой вспышки ярости люди на мгновение оцепенели. Незнакомец имел столь властный вид, так величественно оправлял складки своего плаща, что никто не осмелился ответить на его обвинения.
Старец подошел к нему и произнес:
– В чем ты видишь зло, брат мой? Мы собираемся принести в жертву нашим духам-покровителям Гермесу и Агафодемону белого петуха, как это у нас принято.
Снова услышав эти два имени, незнакомец заскрежетал зубами от ярости.
– Если ты не разделяешь верований сабеев, зачем ты пришел сюда? А может, ты приверженец Иисуса или Мухаммеда?
– Мухаммед и Иисус – самозванцы, – яростно закричал чужестранец.
– Значит, ты исповедуешь религию парсов? Ты поклоняешься огню?
– Все это ложь, выдумки, небылицы, – прервал незнакомец в черном плаще, еще более распаляясь от гнева.
– Кого же ты почитаешь?
– Он спрашивает, кого я почитаю?! Никого! Я сам – бог, единственный, единый, истинный бог, все остальные лишь тени!
При этом невероятном, чудовищном, безумном утверждении сабеи бросились на богохульника, и ему не поздоровилось бы, если бы Юсуф не оттащил его, прикрыв своим телом, в лодку, хотя тот отбивался и кричал как бешеный. Затем Юсуф, сильно оттолкнув лодку от берега, вывел ее на середину реки. Лодка быстро поплыла по течению.
– Куда отвезти тебя? – спросил Юсуф у своего странного друга.
– Туда, к острову Рода, где ты видел сияние, – ответил незнакомец, успокоенный ночной прохладой.
Несколько ударов веслами, и они подошли к берегу. Прежде чем спрыгнуть на песок, человек в черном плаще сказал своему спасителю, сняв с пальца перстень старинной работы:
– Где бы ты меня ни встретил, покажи мне этот перстень, и я исполню любое твое желание.
Затем он пошел в глубь острова и скрылся за деревьями, подступающими к самой воде. А Юсуф, чтобы успеть к обряду жертвоприношения, с удвоенной энергией налег на весла.
НЕУРОЖАЙ
Несколько дней спустя халиф, как обычно, вышел из своего дворца и отправился в обсерваторию на горе аль-Мукаттам. Все привыкли к тому, что время от времени он ездил туда на осле в сопровождении только одного немого раба. Считали, что халиф проводит ночь, созерцая небесные светила, поскольку возвращался он лишь на рассвете.
Это не вызывало удивления его слуг, ведь также поступал и его отец Азиз-Биллах, и дед Муизз ли Диналлах, основатель Каира, весьма искушенные в каббалистических науках. Но халиф Хаким, изучив расположение звезд и убедившись, что ему не грозит опасность, быстро снимал свой костюм и надевал одежду раба, которого оставлял в башне, затем покрывал темной краской лицо, чтобы стать неузнаваемым, и спускался в город, где, смешавшись с толпой, узнавал секреты, которыми впоследствии пользовался, управляя государством. Так появился он несколько дней назад в океле сабеев.
На сей раз Хаким спустился к площади Румейла, самому оживленному месту в Каире: люди собираются здесь группами – в лавках, в тени деревьев, чтобы послушать истории и поэмы, потягивая прохладительные напитки и лимонад, лакомясь засахаренными фруктами. Жонглеров, альмей и дрессированных зверей обычно окружало плотное кольцо зрителей, люди хотели развлечься после дня, проведенного в труде. Но в тот вечер все было иначе: ропот толпы напоминал бурное море или шум прибоя. Халиф прислушался: в общем гуле можно было различить отдельные громкие голоса и гневные крики: «Городские амбары пусты!»
И правда, с некоторых пор народ волновался из-за неурожая; на какое-то время его успокаивали обещаниями, что скоро привезут зерно из Верхнего Египта, и каждый, как мог, экономил свои запасы; однако в тот день из Сирии пришел огромный караван, и добыть пропитание стало еще труднее. Чужестранцы взбудоражили толпу, и она двинулась к амбарам в Старом Каире, где хранились припасы на случай сильного голода. Десятую часть урожая ежегодно свозили в эти огромные склады, построенные когда-то Амру. По приказу завоевателя Египта эти амбары не имели крыши, чтобы птицы могли брать свою долю. С тех пор это благое начинание неукоснительно соблюдалось, поскольку убытки от птиц были весьма незначительны, а городу это приносило удачу. Но в тот день в ответ на требование разъяренной толпы раздать им зерно охранники ответили, что все зерно склевали внезапно налетевшие стаи птиц. Усмотрев в этом дурное предзнаменование, народ впал в глубокое уныние.
– Почему я ничего об этом не знал? – спрашивал себя Хаким. – Возможно ли, чтобы произошло такое чудо? Меня должны были предупредить звезды; ничего тревожного не увидел я и в расчерченной мной пентаграмме.
Он предавался этим размышлениям, когда к нему подошел старик сириец и сказал:
– Государь, почему ты не дашь им хлеба?
Хаким удивленно поднял голову, взглянул на человека своим львиным оком, решив, что тот узнал его, хотя халиф был переодет рабом.
Но старик был слеп.
– Ты безумен, – сказал Хаким, – зачем ты обращаешься с этими словами к человеку, которого не видишь, ведь ты мог слышать лишь мои шаги по пыльной дороге.
– Все люди, – сказал старик, – слепы перед богом.
– Значит, ты обращался к богу?
– К тебе, государь.
Хаким на минуту задумался, мысли его смешались, как тогда, после гашиша.
– Спаси их, – сказал старик, – в тебе одном могущество, жизнь и воля.
– Ты что же, считаешь, что я могу вот так, сразу дать им хлеб? – ответил Хаким, которого мучила какая-то неясная мысль.
– Лучи солнца не могут пробить тучи, они медленно их разгоняют. Облако, которое заслоняет тебя сейчас, – это принятый тобой человеческий облик, ты способен действовать лишь в пределах человеческих возможностей. Каждое существо подчиняется закону вещей, установленных богом. Только бог подчиняется тем законам, которые он сам установил. Мир, созданный им с помощью каббалистического искусства, исчезнет в тот же миг, когда бог нарушит собственную волю.
– Я вижу, – сказал халиф, – что ты просто нищий; ты узнал меня в этой одежде, но твоя лесть слишком глупа. Вот тебе кошелек, ступай.
– Я не знаю, кто ты, государь, ведь я вижу лишь глазами души. Что же до золота, то я сведущ в алхимии и могу сделать его столько, сколько захочу. Я раздам эти деньги твоему народу. Хлеб стоит дорого, но в славном городе Каире за деньги продается все.
«Да он просто колдун», – подумал Хаким.
Тем временем толпа кинулась подбирать деньги, которые ей бросил нищий, и ринулась к ближайшей пекарне. В тот день на один золотой цехин давали только одну окку[3]3
Два фунта.
[Закрыть] хлеба.
«Ах вот оно что, – подумал Хаким, – понимаю! Этот старец, пришедший из страны мудрецов, узнал меня и говорил со мной языком аллегорий. Халиф – это образ бога, и, как бог, я должен карать».
Он направился к цитадели и разыскал там начальника стражи Абу Аруса, знавшего о его переодеваниях. Вместе с этим офицером халиф взял с собой палача, как делал уже не раз. Подобно всем восточным правителям, Хаким вершил правосудие на месте. Он привел их к дому булочника, продававшего хлеб на вес золота, и, обратившись к начальнику стражи, сказал:
– Это вор.
– Пригвоздить ему ухо к ставням лавки? – спросил тот.
– Да, – ответил халиф, – но сначала отруби ему голову.
Народ, не ожидавший подобного развлечения, столпился вокруг булочника, который тщетно пытался доказать свою невиновность. Халиф, завернувшись в черную аббу, которую он взял в цитадели, казалось, выполнял обязанности простого кади.
Булочник, склонив голову, уже стоял на коленях, вверяя свою душу ангелам Мункару и Накиру. В этот момент, растолкав толпу, какой-то молодой человек бросился к Хакиму и показал ему серебряный перстень, усыпанный драгоценными камнями. Это был сабеянин Юсуф.
– Подари мне, – вскричал он, – жизнь этого человека.
Хаким вспомнил свое обещание и узнал друга с берега Нила. Он подал знак; палач отошел, и булочник радостно вскочил на ноги. Услышав разочарованные возгласы толпы, Хаким сказал несколько слов на ухо начальнику стражи, а тот громко произнес:
– Казнь откладывается на завтра на этот же час. Теперь каждый булочник должен продавать хлеб из расчета десять окк на цехин.
– На другой же день я догадался, – сказал Юсуф Хакиму, – что вы имеете отношение к правосудию, увидев, как вы ополчились на запретные напитки, но кольцо дает мне права, которыми я время от времени хотел бы пользоваться.
– Брат мой, – ответил халиф, обняв его, – теперь я свободен. Давай предадимся разгулу и вкусим гашиш в океле сабеев.
ПЕРВАЯ ДАМА ГОСУДАРСТВА
Войдя в окель, Юсуф отвел в сторону хозяина и попросил прощения за поведение друга.
– У каждого, – сказал он, – в момент опьянения бывают свои навязчивые идеи, мой друг воображает себя богом.
Это объяснение повторили завсегдатаям, и те, казалось, остались вполне удовлетворены.
Друзья сели на свои прежние места. Негритенок принес им чашу с опьяняющей смесью, каждый взял свою порцию, действие наркотика не замедлило сказаться; но, вместо того чтобы забыться во власти фантастических галлюцинаций и вести бессвязные беседы, халиф поднялся, обуреваемый навязчивыми идеями, как если бы его толкала чья-то неумолимая рука. На его крупном, словно изваянном скульптором, лице читалась твердая воля, и властным голосом он изрек:
– Брат, возьми лодку и отвези меня к тому месту, где ты прежде высадил меня, у самых садов Роды.
Юсуф был готов исполнить столь неожиданный приказ, хотя ему и казалось странным уходить из океля именно тогда, когда, распростершись на диване, можно было полностью отдаться блаженному забытью, но глаза халифа горели такой решимостью, что юноша послушно спустился к лодке. Хаким устроился на носу, а Юсуф сел на весла. Во время недолгого пути халиф проявлял признаки крайнего возбуждения. Он спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда лодка коснется берега, затем величественным жестом отпустил своего друга. Юсуф вернулся в окель, а халиф отправился во дворец.
Он вошел через потайную дверь и, пройдя по нескольким темным коридорам, очутился в своих апартаментах, чем весьма удивил придворных, привыкших к его возвращениям на рассвете. Его словно озаренное изнутри лицо, твердая, но в то же время неуверенная походка, странные жесты внушали евнухам непонятный ужас; им казалось, что во дворце должно что-то случиться, они жались к стенам, опустив голову и скрестив руки, и с почтительным волнением ждали. Всем были известны скорые расправы Хакима – страшные и не всегда справедливые. Каждый трепетал, зная за собой какой-нибудь грех.
Однако на сей раз никто не поплатился головой. Хакима занимала лишь одна мысль: забыв об этикете, он направился в покои сестры, принцессы Ситт аль-Мульк, что противоречило всем мусульманским правилам. Открыв дверь, он вошел в первую комнату, к ужасу евнухов и наперсниц принцессы, которые поспешно стали закрывать лица.
Ситт аль-Мульк (первая дама государства) полулежала на подушках в алькове одной из дальних комнат; убранство этой комнаты ослепляло своим великолепием. Свод, выполненный в виде небольших куполов, напоминал пчелиные соты или грот со сталактитами из-за вычурно-сложного орнамента, где перемежались ярко-красные, зеленые, голубые и золотистые тона. Стены на высоту человеческого роста были выложены изумительными мозаичными плитками из стекла; сердцевидные арки грациозно опирались на пышные капители в форме тюрбанов, а те, в свою очередь, покоились на мраморных колоннах. Вдоль карнизов дверей и окон шли надписи карматским шрифтом, изящные буквы которого перемежались с цветами, листьями и завитками арабесок. В центре комнаты бил фонтан, струи кристально чистой воды поднимались до самого свода и падали в круглый бассейн с серебряным звоном, рассыпаясь на тысячи брызг.
Встревоженная шумом, вызванным появлением Хакима, Ситт аль-Мульк встала и сделала несколько шагов к двери. Она сразу же предстала во всей своей прелести: сестра халифа была самой красивой принцессой в мире; невозможно было выдержать взгляд ее глаз, как невозможно не отрываясь смотреть на солнце; черные шелковистые брови казались нарисованными, легкая горбинка тонкого носа указывала на принадлежность к царской породе, а золотистая бледность чуть нарумяненных щек оттеняла ослепительно алый рот, блестевший, словно спелый гранат.
Костюм Ситт аль-Мульк отличался невиданной роскошью: полумесяц, украшенный бриллиантами, поддерживал вуаль, усыпанную блестками; зеленый и розовый бархат платья был почти скрыт сплошной вышивкой; только на рукавах, на локтях и на груди оставались островки, откуда исходило золотое и серебряное сияние; тяжелый пояс из золотых ажурных пластин с вделанными туда рубинами обвивал гибкий и тонкий стан, спускаясь к крутым бедрам. В этом наряде Ситт аль-Мульк напоминала владычицу исчезнувшего царства, ведущую свой род от самих богов.
Дверь резко распахнулась, и на пороге появился Хаким. Ситт аль-Мульк не сдержала возгласа удивления – не столько из-за появления брата, сколько из-за его странного вида. Казалось, с лица Хакима исчезли все живые краски. Его бледность словно была отблеском иного мира.
Внешне это был тот же халиф, но озаренный особым, внутренним светом. Его жесты напоминали движения сомнамбулы, а сам он походил на собственную тень. Он сделал шаг к Ситт аль-Мульк, движимый скорее усилием воли, нежели простыми человеческими чувствами, и взглянул на нее так пристально и хищно, что принцесса вздрогнула и обхватила себя руками, словно какая-то неведомая сила пыталась разорвать на ней одежды.
– Ситт аль-Мульк, – сказал Хаким, – я долго думал, кому отдать тебя в жены, но ни один мужчина на свете не достоин тебя. Нужно сохранить чистой божественную кровь, которая течет в твоих жилах. Мы должны сберечь сокровище, полученное от прошлого. Я, Хаким, халиф, повелитель неба и земли, буду твоим супругом; свадьба через три дня. Такова моя священная воля.
Услышав эти неожиданные слова, принцесса была настолько потрясена, что не могла вымолвить ни слова. Хаким говорил так властно, так убедительно, что Ситт аль-Мульк поняла: возражать бесполезно. Не ожидая ответа сестры, Хаким вышел из комнаты и, вернувшись к себе, тяжело рухнул на подушки и заснул: действие гашиша достигло апогея.
Сразу же после ухода брата Ситт аль-Мульк вызвала великого везира Барджавана и рассказала ему о случившемся. В годы отрочества Хакима, провозглашенного халифом в одиннадцать лет, Барджаван был регентом империи; он сохранил неограниченную власть, и, в силу привычки, его по-прежнему считали подлинным правителем, а на долю Хакима приходились лишь официальные почести. Невозможно сказать, что творилось в душе Барджавана, когда Ситт аль-Мульк рассказала ему о ночном посещении халифа; постичь загадочную натуру везира было выше возможностей простого человека. Может быть, страсть к знаниям и к размышлениям иссушила его тело и омрачила суровый взор, а решимость и воля избороздили его лоб морщинами и начертали на нем зловещий знак «тау», предвестник ужасный судьбы? Бледность неподвижного, словно маска, лица, на котором только иногда между бровями залегала глубокая складка, напоминала о том, что он вырос на выжженных солнцем равнинах Магриба. Уважение, которое питали к нему жители Каира, его влияние на знать и богачей – не говорило ли это о том, что он вершил государственные дела мудро и справедливо?
Ситт аль-Мульк, воспитанная им, всегда чтила его как своего отца, прежнего халифа. Барджаван разделял негодование принцессы, но сказал только:
– Увы! Какое несчастье для империи! Разум повелителя правоверных помутился, небо покарало нас. Сначала голод, а теперь новое наказание. Весь народ должен молиться; наш государь сошел с ума.
– Да спасет нас господь! – воскликнула Ситт аль-Мульк.
– Я надеюсь, – добавил везир, – что, когда повелитель правоверных проснется, это наваждение исчезнет и он, как обычно, будет возглавлять большой совет.
Барджаван ждал до рассвета пробуждения халифа. Но тот встал очень поздно, когда зал, где собирается диван, уже давно был заполнен учеными, законниками и кади. Когда Хаким появился в зале, все, как обычно, пали ниц, и, поднявшись, везир пытливо взглянул на задумчивое лицо властелина.
Халиф заметил этот взгляд. Ему показалось, что на лице его министра застыло выражение ледяной иронии. С некоторых пор Хаким сожалел о том, что предоставил своим подчиненным слишком большую власть; и всякий раз, когда собирался действовать по собственному разумению, он с негодованием убеждался, что встречает сопротивление среди улемов, кяшифов и мудиров, всецело преданных Барджавану. Именно для того, чтобы вырваться из-под опеки Барджавана и самому принимать решения, он и начал совершать ночные прогулки с переодеваниями.
Видя, что совет разбирает лишь текущие дела, халиф остановил обсуждение и громко произнес:
– Давайте немного поговорим о голоде. Я обещал, что сегодня отрубят головы всем булочникам.
Со скамьи улемов поднялся старик и сказал:
– О повелитель правоверных, разве не ты помиловал одного из них этой ночью?
Халиф узнал голос говорившего и ответил:
– Да, это так. Но я даровал ему жизнь при условии, что хлеб будут продавать из расчета десять окк за цехин.
– Подумай, – сказал старик, – ведь эти несчастные платят десять цехинов за ардеб муки. Накажи лучше тех, кто продает муку за эту цену.
– Кто они?
– Мультазимы, кяшифы, мудиры и сами улемы, которые хранят огромные запасы муки в своих домах.
Члены совета испуганно зашептались, все они владели домами в Каире.
Обхватив голову руками, халиф несколько минут размышлял. Разгневанный Барджаван хотел было ответить на слова старого улема, но раздался громовой голос Хакима.
– Сегодня, – сказал он, – в час вечерней молитвы я выйду из своего дворца на острове Рода, переправлюсь на фелюге через Нил, и там на берегу меня будут ждать начальник стражи и палач; по левому берегу Халига я войду в Каир через ворота Бабат-Тахла прямо к мечети Рашида. Я буду заходить по дороге в дома мультазимов, кяшифов, улемов испрашивать, нет ли у них зерна. И там, где его не будет, я прикажу отрубить голову хозяину.
Везир Барджаван не осмелился выступить на заседании совета после халифа, но, когда тот возвращался в свои покои, везир догнал его и сказал:
– Государь, вы этого не сделаете!
– Убирайся прочь, – гневно крикнул Хаким. – Помнишь, когда я был ребенком, ты в шутку дразнил меня ящерицей. Так вот, ящерица превратилась в дракона.