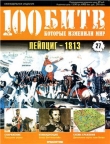Текст книги "14-й"
Автор книги: Жан Эшноз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
9
В январе, в положенный срок, Бланш родила ребенка – девочку, весом 3 килограмма 620 граммов, нареченную Жюльеттой. Ввиду отсутствия законного отца – непоправимого отсутствия, поскольку тот, кого считали биологическим родителем, разбился под Жоншери-сюр-Вельем за шесть месяцев до появления на свет дочери, она получила фамилию матери.
Сам факт того, что Бланш носила внебрачного ребенка, был воспринят довольно спокойно и даже не стал предметом сплетен. Нравы в семействе Борн вполне либеральные: просто последние полгода Бланш старалась не показываться на людях. Когда же дитя родилось, стали говорить, что во всем виновата война – свадьбу из-за нее не успели сыграть, тем самым намекая на обручение (которого тоже не было) и прикрывая незаконность этого события героическим ореолом отца, храброго воина, хлопотами Монтея посмертно награжденного медалью. И хотя отец Бланш, заглядывая в будущее, втихомолку жалел, что не на кого будет оставить фабрику, коль скоро нет наследника мужского пола, это не помешало сиротке Жюльетте стать еще до рождения всеобщей любимицей.
Простить себе не могу, сокрушался Монтей, всю жизнь буду мучаться. Ведь это благодаря его связям Шарля забрали с передовой – предполагалось, что над землей меньше риска попасть под пули. Разумеется, связи сработали, все получилось, Шарль был избавлен от пеших боев и переведен в делавшую первые шаги военную авиацию – никому из штатских тогда не приходило в голову, что могут быть и воздушные бои, да еще какие! – Шарля хотели уберечь. Но просчитались – возможно, несостоявшийся отец Жюльетты дольше прожил бы в окопной грязи, чем в поднебесье. Вот Монтей и твердил, дескать, это всё он виноват. Как знать! Что толку в сожалениях, отвечала на это Бланш, не стоит себя изводить, лучше осмотрите-ка малышку!
Малышке исполнилось три месяца, наступала весна, за окном на деревьях уже что-то проклюнулось, хотя пока еще не прилетело ни птички, в гостиной под окном стояла детская коляска.
– Простите же меня, – сказал Монтей, он тяжело поднялся с кресла, достал из коляски младенца, – послушал дыхание, проверил реакции, измерил температуру – и заключил, что всё – клянусь! – в полном порядке.
– Отлично, – сказала Бланш, запеленывая девочку.
– А как ваши родители, – осведомился доктор.
– Ничего, держатся, – ответила Бланш, – конечно, после смерти Шарля им было нелегко, но теперь они обожают малютку.
– Да-да, – снова запричитал доктор, – получилось ужасно, но я ведь хотел как лучше.
– Ничего, все уладилось, – прервала его Бланш.
– А кстати, как его брат? – вдруг вспомнил Монтей.
– Чей брат? – переспросила Бланш.
– Брат Шарля. Вы что-нибудь о нем слышали?
– Он регулярно присылает мне открытки. А иногда и письма. Насколько я знаю, он сейчас на Сомме и особенно не жалуется.
– Ну вот и славно, – обрадовался Монтей.
– Антим вообще-то никогда не жалуется, не такой он человек, – добавила Бланш. – И ко всему умеет приспособиться.
10
Антим и в самом деле приспособился. А если бы не приспособился и захотел об этом рассказать, не получилось бы – военная цензура не терпела жалоб. Но он привык, да, привык ко всему: к ежедневным земляным работам, к чистке и укреплению окопов, перетаскиванию тяжестей с места на место, ночным дозорам и дням отдыха. Хотя от отдыха – одно название: сплошь упражнения, занятия, инструкции, противотифозные прививки, помывки (если повезет), а то еще парады, построения да церемонии: то вручают введенные с полгода назад военные кресты, то объявляют благодарность, как вот на днях одному старшему сержанту из их взвода – за то, что остается на передовой несмотря на свой ревматизм. Привык к тому, что надо вечно перемещаться, переодеваться и, главное, все время быть на людях.
Эти люди – по большей части крестьяне, батраки, ремесленники, кустари, словом, рабочая кость; и только меньшинство таких, как Антим Сез, грамотеев, которые писали для товарищей письма родным и читали им те, что они получали из дома. Все делились друг с другом известиями, однако же Антим, узнав о смерти Шарля, не рассказал об этом никому, кроме Босси, Арсенеля и Подиоло, – четверка, несмотря на все передряги, старалась по возможности держаться вместе.
Весной сменили форму: всех нарядили в новенькие серо-голубые шинели, которые отлично смотрелись в лучах обновленного солнца, а ярко-красные брюки заменили на синие штаны с обмотками. Кроме того, сначала солдатам выдали круглые стальные нашлепки, вроде мисок, прикрывавшие макушки, которые нужно было носить под кепи, а примерно через месяц, уже в мае, когда все отдыхали, сидя на траве, – раздали маски и слюдяные очки, индивидуальные средства защиты, говорившие о появлении малоприятного технического новшества – боевых отравляющих газов.
Шлемы оказались страшно неудобными, все время соскальзывали, и голова от них болела, так что их старались не носить, а если и использовали, то скорее в качестве посуды, чтобы сварить яйцо или налить добавку супа. И только в сентябре, после Арденн и Соммы, когда часть, где служил Антим, очутилась в Шампани, эти шлемы заменили на синие каски, которые лучше защищали голову, но слишком сильно блестели. Солдатам поначалу было смешно – каски закрывали лица, так что не разберешь, где кто. Только привыкли, отсмеялись, как оказалось, что эти сияющие на солнце синие штуковины представляют собой отличные мишени; пришлось и их, как год назад походные котелки, вымазать грязью. Впрочем, какого бы цвета ни были каски, в осеннем наступлении они здорово пригодились. Особенно жаркий денек выдался однажды, в конце октября, – вот уж когда каски точно не помешали.
В тот день с утра пораньше начался обстрел. Лупили минометы калибра 170 и 245 миллиметров; пристрелявшись, немцы накрыли несколько линий окопов. И раненых, и невредимых засыпало землей, они задыхались, погребенные заживо. Та же участь чуть было не постигла Антима, но все-таки он выбрался из ямы, вокруг свистели пули, разрывались новые мины. Он бросался из стороны в сторону под смертоносным градом, а один раз, когда совсем близко в мешок с землей, прикрывавший бруствер, угодил здоровенный осколок, подумал, что ему пришел конец. Разодранный мешок швырнуло прямо на Антима, удар он получил изрядный, зато был спасен. В траншеях все смешалось, царили хаос, паника, тут-то и двинулась в массированную атаку пехота противника, наводя ужас на растерявшихся французов; солдаты обратились в бегство с криками: «Боши[4]4
Бошами во время Первой мировой войны французы презрительно называли немцев.
[Закрыть] идут!»
Босси с Антимом добрались ползком до ближайшего лаза в блиндаж, упрятанный на несколько метров под землю, но только успели укрыться, как к вражеским минам, гранатам и пулям прибавились газы. Немцы не скупились на самые разные отравляющие вещества: ослепляющие и удушающие, слезоточивые, раздражающие-нарывные; их выпускали из баллонов, начиняли ими особые снаряды, распыляли по ветру. Почуяв запах хлора, Антим надел защитную маску и жестами показал Босси, что надо поскорее выбираться на воздух – хоть там и больше риска быть убитым пулей или осколком, но можно спастись от еще более смертоносных газов: тяжелые, они оседают в траншеях, убежищах, узких проходах и долго остаются там, после того как ядовитое облако рассеется.
А в довершение всего, едва они выбрались на поверхность, в нескольких метрах от них упал и разбился вдребезги истребитель «ньюпор»; сквозь клубы дыма друзья увидели двух авиаторов, погибших при падении, – их изуродованные тела застыли на сиденьях и медленно обугливались, превращаясь в перетянутые ремнями скелеты. Никто в этом кошмаре не заметил, как день подошел к концу; какое-то время казалось, что вместе с сумерками наступило затишье. Но не тут-то было, всех ждал последний аккорд, финальный фейерверк – вновь загрохотала канонада. В убежище, которое покинули Босси с Антимом, угодил снаряд, от него ничего не осталось, а обоих солдат окатило фонтаном земли.
К ночи обстрел поутих, и все бы ничего, если бы не надо было топать в темноте по траншеям пять километров до самого Перта, чтобы поужинать, – продовольствие подвозить не успевали. Вернувшись, Антим успел прочитать перед сном последнее письмо от Бланш (она писала, что у маленькой Жюльетты прорезался второй зуб) и узнать от каптенармуса, что 120-й полк на правом фланге захватил две линии немецких траншей, а на левом, у Суэна, боши захватили две наши, но мы их скоро отбили, – в общем, конца не видно.
Наутро все возобновилось: бесконечный разноголосый рев, пронзительный холод. Ревела канонада, жахали снаряды, свистели, выли и визжали пули, рвались гранаты, изрыгали пламя огнеметы; смерть могла настигнуть со всех сторон: сверху от самолетов и гаубиц, спереди от вражеских батарей и даже снизу – стоило прикорнуть в траншее, воспользовавшись краткой передышкой, как можно было услышать прямо под собой глухой стук кирки – немцы рыли туннель, чтобы подложить туда мины и уничтожить противника с собою вместе.
Люди судорожно сжимали винтовку и нож, поблекший, потемневший от газов и лишь поблескивавший матовым блеском в мертвенном свете зависших ракет, вдыхали ядовитые миазмы от полуразложившихся лошадиных туш и человеческих трупов, да и от живых, кое-как державшихся на ногах в земляном месиве, воняло потом, грязью, мочой, блевотиной, калом, не говоря уже о затхлом духе плесени и гнили, которым было пропитано все вокруг. С чего бы, кажется, – ведь воевали под открытым небом, но эту затхлость каждый ощущал на себе и в себе самом, здесь, за рядами колючей проволоки, на которой висели смердящие изувеченные трупы, – связисты иногда использовали их для закрепления телефонного провода, а иногда торчащая из развороченной земли человеческая рука служила им вешалкой, на нее набрасывали шинель, мешавшую опасной изнурительной работе.
Все это было сотни раз описано, а потому, наверное, не стоит останавливаться на деталях этой гнусной зловонной оперы. Возможно, сравнивать войну с оперой неуместно, нехорошо, тем более если не очень-то и любишь оперу, но военное действо и впрямь столь же грандиозно, излишне патетично, непомерно затянуто, такое же громкое и в конечном счете такое же нудное.
11
Прошло несколько дней, и вот однажды утром, ничем особенно не отличавшимся от предыдущих, вместе со снарядами, но только более обильно на окопы посыпался снег, – как раз снарядов выпало негусто, всего-то штуки три, но именно теперь Падиоло разнылся.
Я замерз и устал, я хочу есть и пить, стонал он. Ну да, подхватил Арсенель, мы все тоже. Мне тошно, у меня болит живот, не унимался Падиоло. У всех болит, увещевал его Антим, поболит и пройдет. А хуже всего то (вот зануда, фыркнул Босси), что я не разберу: то ли мне тошно из-за живота, то ли живот болит из-за того, что тошно. Вы понимаете? Да отвяжись ты, огрызнулся Арсенель.
Если три первых 105-миллиметровых снаряда прошли над их головами и разорвались где-то далеко позади позиций, то четвертый, выпущенный более метко, в ту самую минуту попал в траншею и показал, на что способен: капитанского ординарца разнесло на куски, связисту оторвало голову, Босси проткнуло насквозь деревянным колом– подпоркой, множество солдатских тел порубило, словно топором, под разными углами, а одного егеря – пополам сверху донизу. Антим на секунду увидел все его органы в разрезе, от головного мозга и до таза, как на анатомической таблице, но тут же потерял равновесие и, инстинктивно прикрываясь от всего, что на него обрушилось, присел на корточки, оглушенный грохотом, ослепленный лавиной земли, камней, облаком пыли и дыма; его рвало от страха и омерзения на собственные ботинки и на землю вокруг, ноги по щиколотку утопали в грязи.
Вот, показалось было, ужас подошел к концу: пыль потихоньку оседала, возвращалось относительное спокойствие; правда, взрывы, мощные, рокочущие, не прекращались, но доносились издалека, приглушенные, точно эхо. Оставшиеся в живых поднимались, облепленные кусками пушечного мяса, в которые уже вцеплялись крысы; под ногами валялись куски человечины: голова без нижней челюсти, глаз, кисть руки с обручальным кольцом на пальце, оторванная нога в сапоге.
Но не успели все поверить в затишье, как неизвестно откуда и неведомо как прилетел запоздалый осколок снаряда, этакий короткий постскриптум к завершенному письму. Гладкая чугунная бляшка размером с ладонь, похожая на первобытный кремневый топор, дымящаяся, раскаленная и острая, как стекло. Эта штуковина, как будто точно зная, кто ей нужен, сиганула, минуя всех прочих, прямиком к Антиму, который как раз в это время вставал, и с маху обрубила ему правую руку по самое плечо.
Пять часов спустя в полевом лазарете все поздравляли Антима и не скрывали зависти: такое чудное ранение, предел мечтаний! Тяжелое, конечно, и теперь он будет инвалидом, зато как раз то, что надо, – на фронт уж точно больше не отправят! Товарищи на соседних носилках так бурно радовались, приподнимаясь на локте и размахивая кепи – кроме, конечно, тех, кто двигаться совсем не мог, – что Антим не посмел ни стонать, ни жаловаться на боль, ни жалеть о потерянной руке, хотя, пожалуй, был не в состоянии осознавать свою потерю. Да вряд ли он осознавал и степень боли, и все, что творилось вокруг, и то, что никогда уже ему не приподняться на локте – во всяком случае, на правом, – как делали другие под его незрячим взглядом. Его только-только вынесли из приспособленного под операционную барака, он только-только вышел из комы, открытые глаза бессмысленно блуждали, и, плохо понимая, чему это все так радуются, он решил, что надо присоединиться к общему веселью. Он ощущал, опять-таки не очень понимая почему, чуть ли не стыд за то, каким стал, и на ликованье лазарета автоматически, пытаясь подладиться, ответил смехом, больше похожим на затяжной спазм или конское ржание; все тут же замолчали, больному вкатили приличную дозу морфина и погрузили в прострацию.
А через полгода, с пристегнутым английской булавкой к правой поле пиджака пустым рукавом и с новеньким военным крестом на левой стороне груди, Антим гулял по набережной Луары. Уцелевшей конечностью он держал под правую руку Бланш, а та своей левой толкала коляску со спящей Жюльеттой. Антим был в черном, в трауре и Бланш, что вполне гармонировало с унылой цветовой гаммой фасадов – коричневых, серых, грязно-зеленых, – которую нарушала лишь блеклая, тускло поблескивающая под июньским солнцем позолота магазинных витрин. Антим и Бланш шли молча и только изредка перебрасывались парой слов по поводу газетных новостей: хоть под Верден ты не попал, сказала Бланш, а Антим в ответ промолчал.
Два года войны и непрерывные призывы так проредили население города, что даже в воскресенье на улицах было пустынно. И даже женщин и детей не видно – жизнь дорожала, в магазинах делать нечего; женщины в лучшем случае получали скудное военное пособие и были вынуждены, оставшись без мужей и братьев, искать работу: они расклеивали афиши, разносили почту, шли в кондукторы и машинисты, а большинство работало у станка, на военных заводах. Дети, начиная лет с одиннадцати, тоже были востребованы: забросив школу, они заменяли взрослых; в городе работали на производстве, на селе пасли скот, молотили пшеницу. И оставались только старики, нищие, горстка инвалидов – вроде Антима – да еще собаки, бродячие и на поводках.
Один такой неприкаянный пес, учуяв течную суку на другой стороне набережной Фосс, рванулся к ней и врезался впопыхах в колесо коляски, едва ее не опрокинув, но тут же Бланш дала ему хорошего пинка ногой в изящной туфельке, он заскулил и побежал прочь. Убедившись, что молодая мать не растерялась, а племянница по-прежнему сладко спит, Антим проводил взглядом несчастного пса, того заносило то вправо, то влево, член его все еще был наготове, но без всякого толка, ибо предмет вожделения свернул за угол улицы Веррери и скрылся из виду.
12
За пять сотен фронтовых дней Антим успел навидаться разных животных. Война ведь не только обрушивается на отдельные города, но и прокатывается по деревням, где живности в избытке.
Прежде всего это скот, полезный для полевых работ, для еды или для того и другого разом; сами крестьяне, когда их земля превращалась в театр военных действий, уходили, бросая полыхающие дома и фермы, изрытые воронками поля, а скотину и птицу оставляли на произвол судьбы. Вообще-то, отлавливать их и куда-то сгонять надлежало местным жандармам, но это была задача не из легких, особенно когда дело касалось бесхозных коров, которые так и норовили вернуться в дикое состояние и начинали шарахаться от людей, а уж к мстительным быкам и вовсе было не подступиться. Да и овец, успевших разбрестись кто куда по разбитым дорогам, и беглых свиней, бездомных кроликов, бродячих уток, кур, цыплят и петухов собирать не так просто – даже жандармам родом из деревни приходилось помучаться.
Зато такие одичавшие особи могли внести разнообразие в унылый солдатский рацион. Случайно подвернувшийся приблудный гусь куда как лучше, чем холодный суп да тушенка из банки с черствым хлебом, – ну, правда, недостатка в вине больше не было, его, как и водку, раздавали щедро, поскольку в штабе все больше укреплялись в мысли, что под хмельком солдат становится храбрее и меньше задумывается о своей судьбе. Таким образом, любое встречное животное рассматривалось как возможность вкусно поесть. Арсенель и Босси с голодухи наловчились даже, под руководством Падиоло, с удовольствием вспомнившего свой профессиональный опыт, вырезать куски мяса из живого вола, а потом отпускать его – пусть разбирается как знает. Дошло до того, что они без зазрения совести забивали ничейных праздных лошадей, все равно утративших смысл жизни, поскольку тянуть баржи по Маасу больше не приходилось.
Однако не только рабочие и пригодные в пищу животные встречались на фронте. Попадались также кошки и собаки, домашние, декоративные, привыкшие к комфорту; они остались без хозяев, без ошейников, без привычной миски с кормом, которую им подавали каждый день, и даже позабыли свои клички. И птицы, которых держат просто так, для удовольствия, как горлиц в клетках, или для украшения парков, как павлинов, – этих самовлюбленных задавак обычно никто не ест, но и выжить у них мало шансов, с их-то скверным характером. На такую живность не покушались и солдаты, по крайней мере, поначалу. Зато некоторым хотелось завести себе спутника хоть на несколько дней, так появлялись полковые любимцы, например, какой-нибудь бродивший вдоль траншеи кот.
Вокруг вязкого окопного стойбища водились и совсем другие, свободные, дикие звери. В полях и лесах, пока их не искорежила и не уничтожила артиллерия, превратив поля в марсианский пейзаж, а леса – в подобия гребенок с выломанными зубьями, некоторое время еще обитали вольные существа, которых люди, ни мирные, ни воюющие, никогда не покоряли; они жили на свой лад и не зависели ни от каких человеческих нужд. Многие из них: зайцы, косули, кабаны – тоже представляли гастрономический интерес, и, хотя охота в военное время строго запрещалась, их подстреливали из винтовки, приканчивали штыком, разделывали траншейным топориком или ножом и, радуясь счастливому случаю, съедали за милую душу.
Это касалось также птиц, лягушек, которых можно было поймать и убить по дороге с караульного поста; рыб: форелей, карпов, линей, которых глушили гранатами, если поблизости была река; и даже пчел, когда чудом удавалось набрести на незаброшенный улей. Оставались маргиналы, вроде лисиц, ворон, ласок и кротов, в силу неведомо какого кодекса считающиеся несъедобными; и все же, хоть их и причисляли почему-то к нечистым тварям, мало-помалу щепетильность отходила на второй план; глядишь, иной раз ежик сгодился на рагу и реабилитировал весь ежиный род. Впрочем, вскоре, когда на поле боя стали широко применять отравляющие газы, живности почти не осталось.
Не хлебом, однако, единым... В животном мире есть такие представители, которых люди мобилизуют на фронт не для пропитания армии, а для несения службы: это военные лошади, собаки и голуби. Одни возят на спине офицеров или тянут обозы и пушки, другие участвуют в атаках, а что касается пернатых, то из голубей-путешественников создавались целые почтово-голубиные роты.
Ну а больше всего на фронте было омерзительных маленьких тварей – неистребимых паразитов, которые мало того, что не представляли собой ни малейшей пищевой ценности, но еще и сами питались солдатской плотью и кровью. Это прежде всего насекомые: клопы да блохи, клещи да комары, мошка да мухи, роями облеплявшие глаза убитых – вот оно, изысканное лакомство! И все-таки ко всей этой дряни кое-как, но можно было притерпеться, самой же страшной напастью, бесспорно, были вши. Дай волю миллиардам вшей – они покроют ваше тело с головы до ног. Вошь быстро стала неотступным врагом, наравне с другими супостатами – крысами, столь же прожорливыми, вездесущими и бесконечно плодовитыми; крысы жирели, поедая все припасы (не помогало даже подвешивать съестное на гвозде), сгрызая ремни, покушаясь на обувь... да что там: даже на живое тело, стоило вам заснуть... а стоило умереть, так и на мертвое – им тоже подавай глазницы мертвецов.
Уже одной этой компании, вшей и крыс, упорных и настырных, сплоченных, монолитно-целеустремленных, одержимых одним желанием: глодать вашу плоть и сосать вашу кровь, доступным способом сживая вас со свету, – не говоря уж о противнике, идущем к той же цели иными путями, – довольно было, чтобы захотелось бежать куда подальше.
Но с войны просто так не сбежишь. Тут ты зажат со всех сторон: спереди враг, рядом вши и крысы, а позади жандармы. Единственный выход – стать непригодным, то есть получить хорошее ранение, такое, с которым уж точно отправят в тыл (как у Антима, например), – его и ждешь, о нем мечтаешь, но только получишь его или нет, зависит не от тебя. Кое-кто пытался тайком подстроить спасительное увечье своими силами, например прострелить себе руку, но чаще всего этот фокус не проходил: их разоблачали, судили и казнили. Что ж, быть расстрелянным своими, вместо того чтоб задохнуться, обуглиться или разорваться на куски, став жертвой неприятельских газов, огнеметов и снарядов, – тоже выход. А есть еще один, не хуже любого другого – застрелиться самому: палец ноги на курок, дуло в рот.