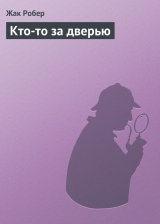
Текст книги "Кто-то за дверью"
Автор книги: Жак Робер
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Боже, как она была прекрасна! – вырывается у него стон. – И я жил с ней счастливо и спокойно! Но явился этот человек и все разрушил! Уничтожил! Он убил ее, а меня превратил в живой труп!
Стон переходит в рычание. Его гнев нарастает, как грохот копыт приближающегося галопом коня. Криком, рвущим горло, вырываются слова:
– Ах! Неудивительно, что одной пули не хватает! У меня возникает желание усесться в свое рабочее кресло, точно в кресло партера, и наслаждаться спектаклем, наблюдать за перевоплощением актера, вжившегося в свою роль. Но момент для этого еще не наступил. Терпение! Надо усугубить процесс превращения. Пусть произойдет полная идентификация, пусть волна ярости смоет последние барьеры в этом несчастном рассудке.
Бесшумно подхожу к магнитофону, нажимаю кнопку. И вновь несутся кристально чистые звуки рояля. Последние такты «Арабески». И тишина, наступившая вслед за этим, – это особая тишина, дрожащие звуки которой слышны только душе.
Почему, господи, мой мир не может свестись к этому немому волшебству? На мгновение я испытываю соблазн избавиться от монстров, затолкать их назад, в глубину зловонных лежбищ, откуда они были извлечены колдовскими чарами черного чемодана. Но нет, процесс должен неумолимо развиваться дальше. И в итоге я преодолеваю слабость, которая, быть может, свойственна всем искусным полководцам в минуту успешного завершения разработанной операции.
Магнитофонная катушка продолжает вращаться, не воспроизводя никаких звуков, кроме тихого шороха.
– Может, на этой пленке записана только музыка, – говорит Улисс откуда-то из глубины комнаты; он спрятался там, словно в укрытии.
Не успел он закончить фразу, как раздался женский голос, да так громко, что мне пришлось уменьшить звук:
«...Дай-ка, милый, я попробую! Рискну! Ой, как интересно! А микрофона я боюсь!»
Слышится смех, прелестный смех юной женщины. Затем она добавляет:
– "Погоди! Я прочту твое стихотворение об Отейле..."
Я выключаю звук, потому что Улисс кидается ко мне с вытаращенными глазами.
– Вы думаете, это она? – кричит он, задыхаясь. – Ее голос, а она мертва! Она здесь – веселая, живая. И в то же время она лежит где-то там, в земле... Моя жена... моя жена! О, как ужасно! Смогу ли я все это перенести!
Он тяжело дышит и внушает мне в этот момент жалость.
– Хотите, мы выключим магнитофон? – спрашиваю я мягко.
– Нет, я хочу слышать! – запальчиво произносит он. – Возможно, она обращается ко мне, ко мне, мосье!... Продолжим, прошу вас!
Я перематываю пленку, чтобы вновь услышать начало записи, затем включаю звук.
– "...как интересно! А микрофона я боюсь!... Погоди! Я прочту твое стихотворение об Отейле: «Твое тело, обжигающее, словно пламя...»
Она начинает декламировать, но тут же голос снова звучит нормально – она объясняет:
– "...Мое любимое стихотворение. Оно о стольком напоминает! Отейль... это было в самом начале, помнишь?... Ну, я начинаю!"
Звучит стихотворение:
"Твое тело, обжигающее, словно пламя,
Твое тело, влекущее, словно море,
Твое тело, костер и корабль,
Оно – вода и огонь,
Питающее мою боль.
А я – мореплаватель,
Засыпающий
На дне твоей нежности,
Когда, еще задыхаясь,
На исходе наших ночей
Припадаю к тебе
И пью твое золото и твою тайну,
Не слыша утреннюю птицу,
Околдовавшую Отейль."
– "Париж, 3 июня, 1960 года."
Пауза. И голос с лукавством произносит:
– "Видишь, я помню даже дату!"
Потом наступает тишина. Тишина, в которой таится нечто ужасное, ибо кажется, что голос умолк навсегда. Еще некоторое время катушка вращается беззвучно, но я окончательно останавливаю пленку в полной уверенности, что она выдала все свои секреты.
– 3 июня 1960 года! – говорит Улисс. – Вы слышали, 3 июня тысяча девятьсот шестидесятого!
– Ну и что?
– А то, что она, само собой разумеется, обращается ко мне! Тысяча девятьсот шестидесятый – это семь лет назад. Тот, другой, Поль, наверняка еще не появился в ее жизни. Значит, она разговаривает со мной. Со мной, своим мужем. Сколько теплоты, какое доверие между нами! И страсть! Ах, как это все жестоко!
Он мечется по комнате с безумным видом. Мне кажется, еще немного, и с ним случится нервный припадок. Я прошу его успокоиться, но знаю, что все мои уговоры бесполезны. Он дошел до той степени возбуждения, когда остаешься глух к доводам разума. И меня восхищает процесс, совершившийся в его рассудке. Какая перемена произошла с тем потерянным существом, которое постучалось накануне в мою дверь!
Он все бродит по комнате, словно пьяный, и я уже с трудом разбираю его бормотание:
– Но кто же он, этот человек? Человек, который все разрушил? Надо непременно узнать! Я должен его найти!
Последние слова прозвучали громко и отчетливо.
– Почему вы хотите его найти? – интересуюсь я.
– Вы еще спрашиваете? Этого вора! Убийцу! Может, он и ускользнул от меня на пароходе, но в следующий раз...
Он не заканчивает фразу, его потемневший взгляд ясно говорит о том, на какие крайности он способен.
– Вы с ума сошли! – говорю я ему.
– А вы, вы бы его пощадили?
– Речь не обо мне. Вы несете вздор. Я понимаю ваш гнев, понимаю даже ваше желание отомстить. Но есть же другие способы. Законные.
Я очень нравлюсь себе в этой роли – сдерживаю, регулирую. Кажется, я слышу собственный голос. Будто он записан на пленке, наслаждаюсь его плавными модуляциями, которые прекрасно сочетаются с моим по-отечески строгим тоном.
– В конце концов, – говорю я еще, – он – убийца. Он должен предстать перед судом. Вы можете потребовать расследования.
– Его оправдают! – зло бросает Улисс.
– Не говорите глупостей!
– Это убийство на почве ревности. Он отделается несколькими годами тюрьмы. О, это слишком мягкое наказание!
– А вы что хотите?
Он обращает ко мне свой взгляд, взгляд раненного животного, и выкрикивает:
– Его жизнь! Его жизнь за жизнь Франсуазы!
Великолепная реплика.
Ну что ж, теперь мы не далеки от цели! Однако наступил подходящий момент заставить говорить в полный голос мудрость. Надо сделать вид, будто я хочу удержать эту руку, которая жаждет взяться за оружие, ибо мне ясно – чем больше я стану ее удерживать, тем воинственней она будет. И, наконец, Улисс ни на секунду не должен догадаться, что я на его стороне. Если он почувствует, что я его подстрекаю, это неминуемо пробудит в нем недоверие.
Я говорю ему, что если он не обуздает свою жажду мести, то станет убийцей, подсудимым, осужденным.
– Вы думаете, меня это волнует? – со злостью произносит Улисс. – Во что он меня превратил? В жалкую развалину! Совершенно одинокого калеку! Мне плевать на свою жизнь!
Ага! Вот он и созрел! И возражаю теперь для проформы.
– Я сделаю все, чтобы помешать вам. Да и как вы отыщете этого человека? У вас нет никакого следа, ни одной зацепки. Известно лишь его имя – Поль? Какой Поль? Чем он занимается? Где живет?
Он пожимает плечами. Я знаю, что с этих пор ничто его не остановит. Теперь в его планах мщения присутствует и элемент упрямства.
– Я буду искать, я найду его след! – вопит он. – Мне остается в жизни хоть эта цель!
И добавляет с каким-то вожделением во взгляде!
– А что, если мы снова послушаем запись. Пленка не кончилась. Может быть, мы узнаем еще что-нибудь?
Чтобы доставить ему удовольствие, включаю магнитофон, перемотав пленку до того места, где звучит конец стихотворения:
"...На исходе наших ночей,
И пью твое золото и твою тайну,
Не слыша утреннюю птицу,
Околдовавшую Отейль."
– "Париж, 3 июня 1960 года."
И снова женский голос с лукавством произносит последнюю фразу: «Видишь, я помню даже дату!»
И снова тишина, нескончаемая тишина. Склонившись над магнитофоном, Улисс впитывает каждый звук. С шорохом крутится кассета, и кажется, так звучит сама пустота.
– Видите, говорю я, – больше ничего нет.
На этот раз хватит, поиграли; я выключаю магнитофон. Закуриваю, протягиваю пачку Улиссу.
– Вы курите?
Он отрицательно качает головой, и я замечаю, что его взгляд обрел странную неподвижность.
Одна строчка стихотворения преследует меня, и я произношу ее вслух:
– "И я пью твое золото и твою тайну..." Неплохо. Подумать только, да вы были настоящим поэтом!
Улисс с силой сжимает кулаки так, что синеют костяшки пальцев.
– Поэт убит! – глухо произносит он. – Моя голова пуста! Я хочу лишь одного – крови!
Он разжимает кулаки, и его длинные пальцы медленно вытягиваются.
– Нет! – тихо поправляет он себя. – Скорее, я испытываю желание душить. Сжимать, сжимать...
Внезапно его руки словно обхватывают чью-то шею, а лицо искажает отвратительная гримаса.
Словно зачарованный, наблюдаю, как им овладевает ненависть, и чудится, будто из его полуоткрытого рта вот-вот вырвется язык пламени. У него сделался тяжелый свинцовый взгляд, и в зрачках появился свет, подобный тому, что отражается на застывшей поверхности пруда от еще не разразившейся грозы.
Я потрясен прелестью этого преображения и не могу не выразить свое чувство вслух:
– Как интересно! Вчера вы не знали, ни кто вы, ни откуда явились. А сегодня жаждете задушить любовника своей жены!
– Убийцу моей жены! – поправляет Улисс.
– Пусть так! Но в конце концов у вас об этой женщине, о вашей жене, не сохранилось никаких воспоминаний. Как же вы можете до такой степени страдать? Даже хотеть убить? Только чтобы отомстить за кого-то, чье лицо вам, собственно, и не знакомо.
Он не отвечает, смотрит на меня слегка сочувственно, с непонятной улыбкой, но это не мешает мне продолжать свою мысль.
– Есть фотографии, знаю. Есть и голос. Но все-таки, что было бы, сохранись у вас воспоминание о ее ласках, обо всем, что связывает мужчину и женщину, проживших вместе годы?
– Было бы то же самое, – тихо говорит Улисс. – Я очень хорошо представляю себе ее ласки. Когда я молчу, знайте, я думаю об этих ласках. А узы, связывающие нас, я чувствую в себе, они согревают мою кровь.
Улисс объясняет мне, что человек, утративший память, – Не мертвец, он слепой, у которого отнят дар видеть собственное прошлое. Но его прошлое существует так же, как существует мир, окружающий настоящих слепых, и слепец со всей силой чувствует этот мир, которого он не видит.
– О, да, в самом деле, я, точно, слепец. Я не вижу своего прошлого, но чувствую, как оно яростно шевелится во мне!
Вдруг мы оба подскакиваем на месте: кто-то позвонил в дверь. Закупорившись в четырех стенах со своей жертвой, я воспринимаю этот сигнал из внешнего мира, как нечто нереальное. И Улисс, кажется, тоже в растерянности.
Я первым прихожу в себя, ибо, по правде говоря, отлично знаю, кто звонит. Я жду с середины ночи, и его появление означает, что первый этап моего труда закончен. Теперь надо смело приступать к следующему, совсем иному.
На протяжении последних нескольких часов я действовал точно волшебник. Сейчас, не медля, я должен превратиться в холодного стратега. Пусть мое сердце превратится в кусок льда! Пусть погаснет огонь воображения! Стратегу противостоит лишь суровая реальность, и чтобы ее победить, он должен с невозмутимым видом прикидывать свои шансы, подобно игроку, раздумывающему над шахматной доской.
Истина, – ты, отвратительная, как пустоглазая смерть, – можешь явиться! Я готов. Я хорошо тебя знаю. Уже многие недели я подстерегаю тебя на грани собственного отчаяния. Мое оружие начищено до блеска, и мне жаль тебя, истина, при мысли об участи, которую я тебе уготовил.
Но прежде, чем начнется схватка, освободим место, подметем сцену.
– Ко мне пришли, – говорю я Улиссу. – Один важный человек, по делу. Нам надо поговорить. Я бы вас попросил пройти к себе в комнату.
Беру Улисса за плечи, подталкивая к его логову.
– Вы подумаете, успокоитесь. А потом мы снова все обсудим.
Он поворачивается ко мне и бросает с угрожающей ноткой в голосе:
– Не оставляйте меня надолго одного!
Я не отвечаю и прикрываю за ним дверь.
Вновь раздается звонок. Гость выражает нетерпение. Л может, думает, что я отлучился. О, нет! Мой гость, я здесь и сейчас распахну перед тобой двери настежь. Чтобы ты, очертя голову, устремился прямо зверю в пасть!
Машинально бросаю взгляд на часы. Без четверти два. Вспоминаю, что с утра у нас во рту ни крошки. Не знаю, требует ли пищи желудок Улисса. Мой, превратившись в клубок нервов, пожирает сам себя. Кроме глотка воды, мне бы сейчас ничего не полезло в горло.
Пока я, тяжело ступая, иду к двери, у меня в голове мелькают беспорядочные мысли об этой воде. Или, точнее, мне представляется стакан прохладной воды. Это чудесная, прозрачная, родниковая вода; я вижу, как за запотевшим стеклом стакана она слегка дрожит на поверхности.
Вдруг мне до смерти хочется пить. Подобной жажды я еще никогда не испытывал, кажется, она меня иссушила; такова, верно, жажда преступника.
VI
Это он, это Андре, брат Пюс. Несколько секунд он стоит, не двигаясь, на пороге, желая убедиться, я ли открыл ему дверь, подлинно ли все происходящее. В его взгляде, кроме беспокойства, сквозит недоверие, словно в глазах людей, только что переживших несчастный случай.
Он неприятен мне в этот момент, так же, впрочем, как был неприятен всегда. Я не сектант и не преисполнен постоянного чувства неприятия буржуазии. Но есть же границы всему! Когда у тебя напрочь отсутствует чувство юмора, когда ты полон сознания собственной значимости и непоколебимой веры в полдюжины принципов времен царя Гороха, трудно рассчитывать, что твой ближний проникнется к тебе симпатией.
У него наверняка не меньше двух зонтов[8]8
Зонт – это символ буржуа XIX века.
[Закрыть]; один у него в руке, затянутой в кожаную перчатку, второй же мне не виден, похоже, он проглотил его вместо аршина, такой у него во всяком случае вид.
А шляпа! Ну кто еще носит эти черные шляпы с загнутыми полями? С владельцем такой шляпы сразу все ясно – он из тех, кто непременно хочет дать понять, что не одолжит вам денег, хотя и может.
– Здравствуйте, Андре. Входите.
Он входит в комнату, не произнеся ни слова, а мне удается избежать рукопожатия. Учитывая все, что я собираюсь ему сказать, лучше обойтись без этого.
Однако я вежлив:
– Как доехали?
– Спасибо, прекрасно.
– Вы не голодны?
– Нет, я поел на вокзале в буфете.
В своем черном мешковатом реглане, с кислым выражением лица, он напоминает служащего похоронного бюро, явившегося за клиентом.
– Очень вам признателен, что вы приехали не медля, – говорю я ему, натянуто улыбаясь.
– Если я вас правильно понял, нельзя было терять ни минуты, – произносит он мрачным видом.
– Надеюсь, вы не сердитесь, что я позвонил вот так, среди ночи?
Я разбудил его в четыре утра. Нехорошее время, у него привкус несчастья. Я еще слышу сонный голос на другом конце провода: «Что случилось, Луи?» Я не стал вдаваться в подробности, ограничившись лишь просьбой срочно приехать в Дьепп, потому что происходит «нечто очень важное».
Следует все-таки предложить ему сесть. Лучше, если он будет сидеть, когда услышит то, что я выложу ему через несколько минут.
Он снимает пальто неловкими движениями, как человек, привыкший к услугам лакея.
Беру все его барахлишко – реглан, шляпу, перчатки, зонт – и уношу в большой нормандский шкаф, который служит нам гардеробной.
– Позвольте сразу один вопрос, Андре, – говорю я, возвращаясь к нему. – Когда точно вы уехали из Парижа?
– Поездом в 11.30.
– Нет, я хочу сказать, в котором часу вы вышли из дома?
Он задумывается, что-то прикидывает в уме, усаживаясь в предложенное ему кресло.
– Погодите... Я долго ловил такси. А потом я заехал к своему адвокату...
Вот, он весь в этом! Ему звонят в четыре утра, а он едет к адвокату. Сидит на своей кубышке, вечно настороже.
– Скажем, я вышел из дома около половины десятого.
– И Пюс еще не появлялась?
Его кроличьи глазки округляются.
– Она должна была приехать в Париж?
– Да, она «должна была», – повторяю за ним, криво улыбаясь.
– Хотите, я позвоню домой, – поспешно предлагает он. – Она, наверное, приехала поездом 10.15 и сейчас, конечно, уже на месте.
Тогда правда вылетает из моих уст, подобно жаркому дыханию огня. Она обжигает меня, сейчас она спалит лицо моего гостя.
– Нет, Андре! Франсуаза не в Париже. Она в Лондоне! В Лондоне, со своим любовником!
Нет, я не сошел с ума. И ничего не путаю. Я говорю «Франсуаза», потому что это и есть настоящее имя Пюс. И не случайно ее зовут Франсуаза так же, как светловолосую женщину, возникшую из чемодана. На то есть причина: обе Франсуазы – это одно и то же лицо!
Итак, я имею удовольствие наблюдать, как бледнеет Андре. Его руки, упав на подлокотники, сжимают их изо всех сил.
Совершенно очевидно, что президенту-генеральному директору лабораторий Дюверже Андре Дюверже не просто смириться с мыслью, что его младшая сестра Франсуаза, уроженная Дюверже, завела себе любовника. Эта роскошь совсем не вяжется с принципами, унаследованными со времен царя Гороха.
– Это невозможно, – шепчет он, – у Франсуазы нет любовника!
Так! Он отвергает саму мысль. Он явно пытался ее проглотить, – я видел, с его горлом что-то происходило, – но мысль не прошла, и его этой мыслью стошнило.
Ну, что ж, я ему затолкну ее в глотку силой!
– Андре, если я что-нибудь ненавижу, так это иллюзии. Вы получили от Франсуазы письмо, в котором она сообщала вам о своем приезде?
– Нет, – отвечает он удрученно.
– Прекрасно! Так вот, это самое письмо она писала в моем присутствии, практически вслух, чтобы вернее меня обмануть, дуреха! Только, разумеется, она вам его так и не послала. Выбросила, наверное, в сточную канаву. Там ему, впрочем, и место.
– Нет, я решительно отказываюсь вам верить! – громко произносит Андре, вставая с кресла. – Лучше я позвоню домой. Вы не возражаете?
– Прошу!
И я указываю на телефон.
– Вы думаете, письмо было отправлено и затерялось? – посмеиваюсь я, пока он набирает свой номер.
– Я думаю, что услышу голос моей сестры, – сухо отвечает Андре.
Он дозванивается и, действительно, слышит в трубке голос, но не сестры, а горничной. И горничная говорит ему, что «мадам Франсуазы» нет. Она не приезжала, нет, никто ее не видел.
Ну что, получил, Фома неверующий! Качая головой, он вешает трубку.
– Она не оставила вам записку утром перед отъездом? – его голос звучит отрывисто, как собачий лай.
– Нет, даже сердца, пронзенного стрелой, и то не нарисовала.
– Вам не кажется, в конце концов, странным, что, уходя от вас к любовнику, она с вами не объяснилась? Ведь она знала, что вы узнаете правду.
– О, Франсуаза наверняка мне напишет! Только вначале она позаботилась о том, чтобы нас разделял Ла-Манш.
– Это немыслимо!
– Да нет, отнюдь, – смеюсь я. – Поставьте себя на ее место. На место женщины, бросающей мужа. Само собой разумеется, она опасается его реакции. В газетах столько пишут на эту тему...
Андре смотрит на меня, будто видит впервые.
– Однако вы выглядите весьма спокойным, – вполголоса замечает он.
И повторяет, повысив голос:
– Вы человек спокойный.
– Возможно, это одна только видимость, – говорю я. – Уж Франсуаза знает меня лучше, чем вы!
Он подходит к окну, но взгляд его устремлен в пустоту. Вижу, как легонько сгибается его широкая спина преуспевающего дельца. Колонна Дюверже покачнулась.
– Вас, Луи, я, возможно, знаю не слишком хорошо, но я знаю мою сестру.
Ох, уж эта его манера произносить «моя сестра»; так же, должно быть, он произносит «мой автомобиль», «мой холодильник»! Хоть я и женился на ней, «его сестре», она остается его собственностью, частью фамильного имущества.
– Ну, и что же ваша сестра?
– Она никогда от меня ничего не скрывала. Мне не верится...
Готово! Он снова перестает мне верить! Да, похоже, он слегка простоват, и мне придется вбить ему истину в голову, не церемонясь.
– Знаете, – говорю я ему, – и мне потребовалось время, чтобы поверить. Впрочем, я пришел к мысли, что именно женщин привлекает подобная ситуация. Потому что для них есть в этой ситуации поистине нечто дьявольское. И поскольку дьявол обладает чарами...
Его мало волнуют мои парадоксы. В нем просыпается деловой человек. И вот ему уже не терпится узнать подробности, а в голосе появляются металлические нотки:
– В конце концов, чтобы быть настолько категоричным, вы должны располагать доказательствами ее связи?
– О, да!
На этот раз я не сдержался, я выдал свою боль. С моих губ сорвались не слова, а стон, и я, едва волоча ноги, добираюсь до письменного стола.
– Я покажу вам письмо. Письмо от ее любовника.
Беру со стола письмо «Поля». Я правильно говорю – письмо «Поля», то, которое мы с Улиссом извлекли из черного чемодана и которое так хорошо изучили.
– Оно написано в Лондоне 3-го марта... Вы позволите представить образчик этой литературы? «Любовь моя, я не в силах дольше ждать. Ты придешь, и наши плечи соприкоснутся, наши руки, наши губы...» И так далее...
Я протягиваю ему письмо.
– Возьмите! Прочтите сами. Утолите любопытство!
Андре пробегает письмо, и я с удовлетворением наблюдаю, как он, неприятно изумленный, таращит глаза.
– Непостижимо! Но кто такой этот Поль?
Уж личные данные Поля я знаю наизусть! Улиссу сообщать их пока рановато, но наступит и его черед.
– Поль Дамьен, Париж, бульвар Мальзерб, 44. Журналист, пишет о политике.
– Как они познакомились?
– В Париже, разумеется.
И добавляю с вполне естественным сарказмом:
– Вы представить себе не можете, мой дорогой Андре, как любила Франсуаза ездить к вам в гости!
А вот уж это ему совсем не нравится. Он морщится.
– Использовать меня как алиби! Этого я ей не прощу!... Но все же они, должно быть, не часто встречались?
– О, напротив! Поль Дамьен, в свою очередь, нередко посещал наш добрый старый Дьепп.
– Чтобы повидать Франсуазу?
– Ну не меня же! Кстати сказать, мы не имеем чести быть знакомы.
– И... он часто приезжал?
Внезапно я улавливаю в этом степенном господине шевельнувшееся чувство зависти и восхищения. Бывают, значит, такие самцы, которые позволяют себе не только подцепить замужнюю женщину, но еще являются ублажать ее на дом. Под самым носом у мужа! Черт возьми, вот это любовники, достойные своих любовниц!
– Он приезжал чересчур часто, – произношу я сквозь зубы. – Франсуаза принадлежит к породе женщин, которые имеют большую власть над мужчиной, ради них мужчине и попутешествовать нетрудно.
– Франсуаза, маленькая моя Франсуаза! – бормочет президент – генеральный директор. – Но как же это возможно?
Сейчас я ему втолкую, этому слепцу! Открою ему глаза и не как-нибудь, а скальпелем! Пусть увидит, наконец, реальность, какой увидел ее я, со всеми ее Гнойными язвами!
Однако есть одна вещь, которая мне во всей этой истории нравится – Андре Дюверже начинает испытывать страдание. Братья всегда относятся к своим сестрам немного как мужья. И если те обманывают супругов, то у них возникает странное чувство, – будто и они рогоносцы. В то же время братья ничего не понимают в этих женщинах, вышедших из одного с ними чрева. Словно у сестер уже не выросла грудь и они, дожив до тридцати лет, в глазах своих братьев все те же девочки, играющие в серсо. Я уверен, Андре так до конца и не осознал, что Пюс уже больше не девица даже после семи лет замужества.
И он, этот теленок, продолжает сомневаться в способностях своей сестренки!
– Но тогда, значит, здесь в Дьеппе... они вдвоем? – спрашивает он с приторным лицом.
Совершенно очевидно, что слова внушают ему страх, и меня, чье ремесло играть словами, это забавляет. Слова-соучастники, слова-друзья, чудесные слова, которые, не уклоняясь, точно говорят то, что должно быть сказано. Слова, из-за которых развязываются войны и разрушается любовь, как и призывающие к миру, созидательные слова, слова, которые сближают народы и соединяют любовников, пока не наступит венчающая объятия тишина. Слова, вы несете на своих крыльях жизнь!...
Итак, словами, довольно звучными и ничего не скрывающими, – вот противные слова! – я объясняю Андре, что делали вдвоем его сестренка Франсуаза и журналист Поль Дамьен, когда встречались в Дьеппе. Они отправлялись прямиком в тот маленький отель, который некогда давал приют моим любовным играм за три с половиной франка. Фатальная необходимость! В самом деле, на весь Дьепп есть лишь один этот сарайчик, где можно снять комнату на час или на два. В округе слишком много епископов, и на такие дома свиданий смотрят не очень благосклонно.
Но то, что Пюс, моя маленькая Пюс, не колеблясь, с высоко поднятой головой прошла мимо грудастой матроны, преодолела ступени мерзкой лестницы вслед за воняющей уксусом прислугой – этого мне никогда не постигнуть до конца. Это ранило меня, быть может, сильней всего, и я знаю, что моя рана не заживет вовек.
Когда случается что-либо гнусное, в памяти почему-то остается одна картина, причиняющая больше всего страданий, и бессонными ночами именно она без конца является тебе. Для меня измена моей жены заключена вся целиком в образе Пюс, поднимающейся по лестнице дома свиданий. Именно эта картина сделала меня злым, эта и никакая другая.
– Разумеется, их в конце концов засекли и уж, конечно, не отказали себе в удовольствии известить меня.
– И вы себя не выдали? – удивляется Андре. – Я хочу сказать, вы не объяснились с Франсуазой?
«Объяснились»! Вот выражение в духе П. Д. Ж.[9]9
Сокращение по начальным буквам французских слов президент – генеральный директор.
[Закрыть]! Откровенно и честно, и будьте-любезны-пройдите-в-кассу! А что делает П. Д. Ж. с самолюбием, с тоской, которую испытывает человек, отравленный до мозга костей ядом жуткого видения? Попросту на все это плевать хотел?
– Десять раз, двадцать я готов был взорваться и бросить ей гнусную правду в лицо!
– И что же?
– Каждый раз брал себя в руки.
– Но зачем?
– Хотел посмотреть... Посмотреть, до чего она способна дойти. Ну, вот, она и дошла до Лондона!
Ему этого не понять. Он устроен не так, как я. В нем нет кошачьего азарта, заставляющего кота играть с мышкой, прежде чем ее слопать.
Он качает головой, он не согласен.
– Это невозможно, – говорит он. – Как можно знать об измене и не вмешаться из-за того лишь, что желаешь «посмотреть»?
Мне очень хочется его шокировать, ответить: «Из порочности. Вы никогда не слыхали о людях, любителях подглядывать?» Но я не мешаю ему продолжать.
– Нет, у вашего молчания другая причина.
– В самом деле! – произношу я, вкладывая в слова всю силу сдерживаемого бешенства. – У меня есть один недостаток, Андре. Я слишком горд. Я готов не скрывать своих страданий, но при одном условии: в свою очередь заставить страдать!
– Это обычное явление, – заявляет П. Д. Ж с серьезной миной, желая, видимо, чтоб я поверил в его многоопытность.
– Да, но у меня все в обостренной форме! Однако, когда речь зашла о Франсуазе, о ее измене, я тщетно искал, как заставить ее страдать.
– Между тем вы славитесь неистощимой фантазией, – усмехается Андре.
– Жизнь и романы – это разные вещи. Так по крайней мере я думал до сих пор.
– Вы в самом деле хотели отомстить?
– Разумеется! Но трудность состояла в том, чтобы найти способ мести, достойный меня, каким я себе, во всяком случае, это мыслю. Палить из револьвера для меня было совершенно неприемлемо. Слишком вульгарно! Мне хотелось чего-нибудь нового, невиданного и более жестокого.
– Более жестокого? – обеспокоенно повторяет Андре и, чуть помолчав, спрашивает: – В конечном счете придумали?
Бедняга! Неужели ты думаешь, я открою перед тобой свои карты! Уж не ради ли твоих выдающих больную печень глазок!
– Нет, мой дорогой Андре, я ничего не придумал. Итак, вы понимаете теперь, почему я предпочел молчать, изображать ни о чем не подозревающего мужа. Мужчины, безропотно скулящие у ног своих жен, вместо того, чтоб взять в руки плеть, внушают отвращение, не правда ли?
Он по-ослиному мотает головой. До него определенно доходит с трудом.
– Но как, – удивляется он, – как у вас хватило духа играть перед Франсуазой эту комедию?
Тут я смеюсь в открытую:
– Вы что же, в некотором роде упрекаете меня за то, что я ее обманул?
– Но если б вы не сдержались, возмутились, она бы, возможно, и не ушла... Вы бы ее удержали... У нее раскрылись бы глаза.
– И увидели что? Наш разлад?
Мне вновь приходит на ум тот странный разговор, который произошел у нас с Пюс вчера вечером. О муже, герое моего романа, и о постепенно удаляющейся от него жене. Каждая произнесенная нами фраза имела двойной смысл, и все, что говорилось о моих персонажах, касалось непосредственно нас и задевало до глубины души.
Тогда вот я и смог измерить всю глубину поистине непреодолимой пропасти, разделяющей мою бедную Пюс и меня. Как хорошо она сумела описать разочарование супруги и охватившее ее постепенно безразличие. Какая трезвость рассуждений! Я до сих пор слышу ее тоненький неумолимый голосок: «Приходится поверить в этого любовника, раз она уходит, раз она бросает своего учителя!»
Какой ядовитый взгляд она бросила на меня в эту секунду! Эго меня она покидала. И любовник, в которого она «верила», это был Поль, ожидающий ее в Лондоне.
– Знаете, – говорю я Андре, – мне хорошо известно, почему она меня оставила.
Издав дребезжащий смешок, добавляю:
– Потому что я был ленив.
– Ленив? – округляет глаза Андре. Пожимаю плечами.
– Это долго объяснять.
Андре достает платок, сморкается. Он ужасно противный при этом. Конечно, у меня предвзятое отношение. Он не противней других сморкающихся людей. Но ведь есть люди, которые сморкаются неприметно. А этот, развертывает платок, величиной со скатерть, издает трубные звуки, наливается краской и повторяет процедуру два или три раза. Я тем временем все думаю, не лопнут ли у него на шее вздувшиеся от напряжения вены.
– Есть одна вещь, которую мне хотелось бы знать, – говорит он, засовывая свою скатерть в карман. – Действительно ли Франсуаза влюблена в этого Поля Дамьена?
Я чуть не задыхаюсь.
– Это вы спрашиваете после того, как она отправилась к нему в Лондон! Бросив меня! Покинув этот дом, наш дом! О, да, Андре, несомненно!
Кровь ударяет мне в голову, я вижу, к чему он ведет, этот Тартюф! Он постарается смягчить дело, окрасить в радужные краски.
– Быть может, это всего лишь мимолетное увлечение, – говорит он сладеньким голосом.
Плевать я хотел! «Мимолетное увлечение»! Еще одно выражение в духе буржуа, слащаво-лицемерное. Мадмуазель Дюшемоль, дочь нотариуса, училась играть на скрипке и обрюхатилась от своего учителя, но это «мимолетное увлечение», в си-бемоль-мажор!
– Мимолетное увлечение! – визгливо кричу я. – Нет, Андре Дюверже, нет, не целый же год! Ибо вот уже год, как ваша маленькая сестричка «развлекается» со своим возлюбленным!
– Ах, прошу вас!
Ну, право, как же я могу говорить такое! Он прямо весь багровеет. Он не любит, когда называют вещи своими именами, наш маленький Андре! Он предпочитает говорить о «мимолетном увлечении». Ну-ка, где она там, его жена, мадам Изабель Дюверже со своим прекрасным воспитанием, уложу ее сейчас тут на диван, и пусть П. Д. Ж узнает лично, что значит мимолетное! Ах, это мимолетное отнюдь не мимолетно!








