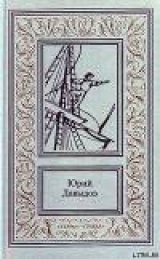
Текст книги "Земная Атлантида"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Юрий Владимирович Давыдов
Земная Атлантида
1
Граф Абай, кавалер ордена «Печать Соломона», мурлыкал под нос:
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
В давнишние годы, когда он еще не был военным советником негуса и не нашивал на мундире красивый золотой орден с изумрудом, в давнишние годы, когда граф не был графом, а был простым армейским офицером, один из его приятелей кавалеристов говаривал: «Не тот наездник, кто первым прискачет, а тот, кто сто верст шагом проедет».
Пословица среднеазиатская, туркменская, кажется, была справедливой и здесь, на дорогах Эфиопии, и граф Абай, вспоминая ее, не горячил, не пришпоривал темно-гнедого, с подпалинами в пахах и на морде жеребца.
За караковым жеребцом шествовал с тяжелой и внушительной фацией белый слон. Слон погромыхивал цепью, как колодник, и оставлял на дороге круглые, точно сковороды, оттиски, рядом с которыми ложился легкий след Алямо – проводника, эфиопского юноши, почти еще мальчика, губастого и задумчивого.
Всадник и слон открывали процессию в несколько сот человек: чернокожие солдаты в светлых плащах-шаммах с ружьями и саблями и какие-то изможденные европейцы в лохмотьях, кто с костылем, кто с палкой.
Три дня назад все эти люди вышли из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и теперь двигались на восток, к городу Харару. Оттуда побредут они пустыней к соленому мареву Красного моря и остановятся в душном портовом городе Джибути, где с каждым годом все бойчее звучит французская речь. Из Джибути эфиопские солдаты повернут домой. Чернявые европейцы в лохмотьях взойдут на пароход, и прощай Африка, детям закажут они совать нос в Эфиопию… А граф Абай, темнолицый Алямо и слон поедут далеко на север, в город с адмиралтейским шпилем, вонзающимся в низкие облака, и выпуклой рекою, гложущей береговой гранит.
Но все это еще как бы в ином мире. А тут, над рудым плоскогорьем, вальсируют цветастые бабочки, тут топорщатся небритые кактусы, грозящие своими иглами неосторожному путнику, тени огромных сикомор манят свернуть с дороги, бьют в ущельях серные источники, окутываясь парами, и у берегов озер шумят крылья толстоклювых гусей.
Итак, был третий походный день. Он же – второй день июня 1896 года. День как день, не отличимый от вчерашнего.
Граф Абай ехал шагом, мурлыча под нос:
Не пылит дорога…
И вдруг привстал на стременах: дорога пылила. Ничего бы, пожалуй, не было в том удивительного – торопится какой-то гонец в Аддис-Абебу, и все дело. Однако встречи на караванной тропе – событие, и граф Абай приложил к глазам полевой бинокль.
Он увидел двух верховых и тотчас определил, что они не эфиопские гонцы и не эфиопские воины, но европейцы. И не какие-нибудь там комми, а… «Впрочем, – прикидывал граф, – нашим еще рано… Однако… Эге-ге-ге…» Не белые тропические шлемы и не белые распахнутые плащи, не винтовки и не револьверы конников рассматривал, прильнув к окулярам, военный советник императора Эфиопии. Совсем иное занимало его. У одного всадника была кожаная сумка, русская офицерская сумка для всякой малости, а у другого, плечистого бородача, – котелок, настоящий кавалерийский котелок драгунского образца. И вот они – две эти вещицы – все объяснили графу Абаю. Он понял, что… «Нет, черт возьми, отчего только двое? Где остальные?»..
Тень огромной придорожной сикоморы накрыла обоих – графа Абая и незнакомца, который сидел в седле тем несколько небрежным и уверенным манером, каким отличались офицеры-гвардейцы. Граф осадил коня, козырнул и, удерживая волнение, спросил громко:
– Ежели не ошибаюсь, лейб-гвардии гусарского?
У незнакомца взлетели брови.
– Так точно, – отвечал он с быстротою растерянности. – Поручик лейб-гвардии гусарского полка Булатович. Простите… с кем имею честь?
– Леонтьев, – представился граф. – Поручик в отставке Николай Степанович Леонтьев. – И прибавил не без гордости: – Надеюсь, слыхали?
Еще бы! Как было Александру Булатовичу не знать этого имени? В прошлом году отставной офицер Леонтьев снарядил маленькую научную экспедицию в Эфиопию, сам доктор Елисеев в ней участвовал. «Леонтьев – человек благородный и бескорыстный», – говорили и писали в прошлом году. А потом пошли слухи о близости Леонтьева к эфиопскому императору Менелику II, говорить и писать стали: «Леонтьев – авантюрист»… Как бы там ни было, а Булатович очень рад встрече с Леонтьевым. Удача, настоящая удача! Ведь могли и разминуться. А теперь сядут они под этой сикоморой, и поручик дотошно расспросит Леонтьева, с чего ему начинать в Аддис-Абебе…
– Займись-ка, – кивнул Булатович своему спутнику, кряжистому бородачу с широким малиновым лицом, и рядовой Зелепукин принялся развязывать тюк, притороченный к седлу.
– Те-те-те, – заулыбался Леонтьев, глядя на Булатовича. – Сразу и видно нашего брата. Небось угощать меня?
– Со свиданьицем, ваше благородие, – ответил вместо Булатовича Зелепукин, – без этого никак невозможно.
Булатович рассмеялся, а Леонтьев сказал:
– Невозможно… Да только не вы меня, а я вас должен потчевать. Вы тут, – он сделал широкий жест, – вы тут в гостях, а я, можно сказать, дома.
Обернувшись к Алямо и проводникам-эфиопам, он приказал разбить палатку и достать провизию.
– Да, вот еще что, – договорил Леонтьев, удерживая Алямо за рукав, – передай, чтоб отряд двигался, я догоню.
Палатка у Леонтьева была шелковая, золотом расшитая, не палатка, а шатер атаманский. И харчи были отменные. Но когда Булатович извлек из своего тюка бутылку шампанского, Леонтьев щелкнул пальцами и прищурился:
– Давненько мы не видали «Мадам Клико». Ну, ужо доберусь до Питера, берегись ресторатор Палкин.
– Эка хватили – до Пи-те-ра…
– Не так уж и хватил. Я – прямехонько в Санкт-Петербург. И по государственной надобности.
Твердое лицо Булатовича с обветренными, загорелыми до черноты скулами выразило мальчишеское любопытство.
– Николай Степанович, – взмолился он, расстегивая ворот фланелевой рубахи, – вы все загадки загадываете.
– Да какие же загадки, – отвечал Леонтьев, – все весьма незагадочно. – Он поглядел на бутылку. – Нет, так не пойдет. – И весело поторопил Зелепукина: – Ну-ка, братец, тряхни «Мадам Клико».
Зелепукин откупорил бутылку; шампанское было теплое, обильно пенное, и он неодобрительно заметил:
– В таком разе лучше б беленькой.
– Вина кометы брызнул сок, – улыбнулся Булатович.
Выпили. Булатовичу не терпелось послушать Леонтьева, Леонтьеву не терпелось послушать Булатовича, и разговор пошел в прискочку, сбивчивый: один все о России выспрашивал, другой – про Эфиопию.
– А вы Александра Васильевича-то знавали?
Булатович отвечал, что с Елисеевым познакомиться не успел, хотя слушал его доклад в мае девяносто пятого в Географическом обществе и тогда же возгорелся желанием посетить Эфиопию; написал письмо Елисееву, хотел рандеву получить, но ответа не было.
– И признаться, обиделся. А через неделю, кажется, гляжу в газетах: после непродолжительной болезни скончался… Так, знаете, на душе тяжело стало, я ведь с юности все за его книжками и статьями охотился… Из каких только опасностей живым выходил, а тут на тебе: приехал в Питер и…
– При жизни не оценили, а уж после того, как на Смоленское свезут… – Леонтьев махнул рукой.
– Ну хорошо… – начал Булатович и смешался: – То есть… чего уж тут хорошего… Но вы-то, Николай Степанович… По чести, разное в Петербурге судачили.
– Пусть их. – Леонтьев презрительно дернул плечом. И загорячился: – Я, батенька, выгод под огнем не искал. Почему застрял? Думаете, славы ради? Оригинальности ради? Не скрою, наградами негуса польщен, титулом тоже горжусь. Каким? А-а, да об этом не слышно еще было? Графским титулом, первым в Эфиопской империи. Вот тут, – он кивнул на дорожный саквояж, – грамота Менелика припрятана. – И титулом, и наградами. Да-с, не в министерских прихожих высидел. Я еще в прошлом году, с Елисеевым, как в Харар приехал, да пожил среди эфиопов, да присмотрелся к черному народу, еще тогда полюбилась мне крепко и страна эта, и народ. А как итальянцы на них грянули, да еще генерал Баратьери поклялся, что привезет негуса в клетке, а подданных его в рабов Италии обратит, так вот с того самого времени мысли мои такое направление приняли… Вы уж извольте выслушать. Первого соотечественника в вашем лице встречаю, не обессудьте…
Булатович сделал протестующий жест: дескать, я весь внимание.
– Ну-с, – продолжил Леонтьев, – мысли мои были следующие. Я их, батенька, и в дневнике напечатлел, эдакое, знаете ли, пристрастие довериться бумаге, коли больше некому. Вот я и подумал: а имеет ли нравственное право распрекрасная Италия, имеет ли она право-то с пушками своими идти на беззащитных эфиопов? Где же, думаю, прописные истины о любви к ближнему? В последний раз, помните, когда Германия с Францией лоб в лоб столкнулись, какое сочувствие вызвали жертвы и обездоленные в Европе! И теперь еще вспоминают братоубийственную войну. Так? А вот на наших глазах Япония безоружных китайцев громила – и что же? Ну что? Да ничего! Никто в Европе и пальцем не шевельнул, никто китайцам ни словечка сочувствия… Почему же? Почему? – Леонтьев говорил с такой горячностью, что Булатович почел за нужное несколько успокоительных слов вымолвить, но Леонтьев лишь досадливо отмахнулся. – Почему же? Ведь и там и там погибали люди, и там и там кровь лилась. А теперь возьмите Африку. Темнокожих-то, Александр Ксаверьевич, и вовсе ни в грош не ставят. То есть что я хочу сказать?.. – Леонтьев облизнул сухие губы. – Разодрали по частям, и баста. А вот если бы нашелся кто-нибудь и расспросил наших черных братьев, тогда бы, поверьте, явилась история Африки, вопиющая к небу. – Ему не хватило дыхания, он быстро и пристально взглянул на Булатовича и вдруг смущенно прибавил: – Однако я распалился…
Булатович задумчиво покачал головой, ответил медленно:
– Много вы сказали справедливого. Я и не помышлял… в таком… общем-то абрисе. Но хочу заметить, Николай Степанович, война абиссинцев против Италии большое сочувствие вызвала в русской публике. Должно быть, нечто подобное испытывали русские в начале века, когда тоже единоверные нам греки против турок восстали. Большое сочувствие, да. И при сборах нашего отряда, и сам этот отряд что ж иное, как не выражение нашего сочувствия?
– Знаю, – перебил Леонтьев, – благое дело. Но вот обо мне… Не взыщите, самолюбие мое действительно страдает. Поручик Леонтьев – авантюрист! Я и раньше слыхивал то же: когда приехал в Петербург с первым эфиопским посольством. Говорят, министр Витте изволил выразиться: оффенбаховское, мол, посольство, а Леонтьев руки на нем греет. Противно-с, ей-богу. Ну а потом, что же предосудительное совершил отставной поручик Леонтьев? Да, стал военным советником императора Менелика. Да, был в сражениях, в дни кампании не засиживался… – Он поджал губы, подумал, сказал просто и доверительно: – И этим горжусь.
– Очень вас понимаю, – искренне ответил Булатович. – И завидую. Теперь что ж? Отряду нашему дело, разумеется, найдется, а я… Кстати, Николай Степанович, вот что еще хотел спросить вас. Совсем как-то из виду выпустил вашу обмолвку…
– Какую?
– Да про Петербург. Вы, кажется, сказали, что в столице будете?
– Шествие мое видели? – улыбнулся Леонтьев. – Слона с погонщиком да этих калик перехожих? Видели? Ну, так вот, калики сии – пленные итальянцы. Я вызвался препроводить их в Джибути. А слон… О, это храбрец! Стоило поглядеть на него в бою! Император шлет его в подарок нашему государю. А я вам по секрету скажу: неловко как-то, верите ли, эдакого-то воина заслуженного да в клетку… «По улицам слона водили»… Ей-богу, неловко. – Леонтьев хмыкнул в усы. – Ну-с, и дипломатическое есть поручение: войти в переговоры с Италией относительно условий мира… Впрочем, ладно, это потом. Скажите: наши где? В Хараре? Так-так… А сколько людей идет?
Выслушав Булатовича, Леонтьев спросил бумаги.
– Я вам, Александр Ксаверьевич, несколько рекомендательных писем к друзьям своим напишу. Император, конечно, ждет не дождется наших, но в столице, как и на «брегах Невы», рекомендательные письма весьма полезны…
Час спустя Зелепукин подвел офицерам оседланных лошадей.
– До скорой встречи. – Леонтьев пожал руку Булатовичу.
– Буду ждать, Николай Степанович.
И они разъехались, взвихряя горячую красноватую пыль.
2
Каково, брат?
Меднолицый, косая сажень в плечах, Зелепукин, не оборачиваясь, роняет в бороду:
– Да уж, ваше благородь, не в Красное на рысях ходить…
Не в Красное, верно… Совсем не похоже на форсистый марш лейб-гвардейцев из столичных питерских казарм в лагеря красносельские. И-эх, и разлюли малина! Трубачи играют, горит амуниция, начищенная пути-помадой, и так ладно, слитно, крепко идет поэскадронно весь лейб-гусарский.
Да-а, думает свою думу Зелепукин, что было, то сплыло. А вот не желаете ль из Джибути в Харар на верблюдишках? Ни много ни мало триста пятьдесят верст, пропади они пропадом. Верблюд не конь, на верблюде что на море в качку. Затылок ломит, точно обухом тюкнули, в глазах мальтешение, виски стучат, как машина в ходу, и дремлется, дремлется, словно бы на веках гирьки понавешены. Чем дальше от моря, тем жарче, дух, спирает, ни дать ни взять – головою в печь лезешь. А верблюда под кладью не накормишь, не напоишь. Это тебе не кобыла. Его, дьявола, рассупонь, ослобони, тогда он еще пищу-воду примет. А так – ни за какие коврижки. А кругом – камень… В селениях, конечно, повеселее. Бабы в кожаных юбчонках улыбаются сахарно, ладошкой заслонившись, вослед глядят… Ну, ближе к этому самому Харару леса пошли, первеющие, надо сказать, леса, а дичи – и-и! – спасу нет. К ружьишку так и тянуло. Да только его благородие не дозволил поохотиться, на что завзятый охотник, а не дозволил: нам, говорит, дожди обскакать надо. Дожди, говорит, здесь что потоп, и ежели для отряда все в Хараре не приготовим, пиши пропало. Вот и жарили на верблюдах день и ночь. А уж в Хараре, слава те господи, лошадьми раздобылись…
Поручик Булатович об ином размышлял. Сильное впечатление сделал на него отставной офицер Николай Степанович Леонтьев, и он завидовал Леонтьеву, сожалея об упущенных возможностях. И как только можно было сносить петербургское существование? Производства по линия, полковые разговоры, цыгане на островах да тайные свидания с замужней дамой в богатом доме рядом с Мойкой. Какая гиль! А в то самое время… Булатовичу представилось: бешеная лава черных кавалеристов, рукопашные схватки, тревожные огни ночных биваков, засады в горах… И опять он подумал про Леонтьева: бросил все, заложил херсонское имение и уехал. И вот – граф и кавалер. Кто еще из русских может надеть на мундир золотую звезду с изумрудом посредине? Булатович вздохнул: уж очень явственно вообразил себя при ордене «Печать Соломона» первой степени… Впрочем, чего же после драки кулаками махать? Кто знает, не доведется ли ему, поручику лейб-гвардии Александру Булатовичу, снискать иную, не ратную славу? Кто знает, кто знает…
У него был тайный план, он никому не говорил о нем, даже Василию Васильевичу Болотову, петербургскому профессору, знатоку эфиопской истории, у которого брал уроки амхарского языка, даже Болотову ничего не сказал. А ведь не кто иной, как Болотов, подвел его однажды к полке, на которой грузно, в толстенных переплетах, как рыцари в кирасах, стояли двенадцать томов сочинения кардинала Лоренцо Массаи. Профессор не навязывал гусару все сочинение. Он дал ему лишь один том.
Этот том одолел Булатович. «Ну как?» – справился профессор, когда Александр вернул книгу. «Нда… Какая-то земная Атлантида», – ответил Булатович и пожал плечами: сия, дескать, грамота не для нас, гусаров, писана.
Отчего не открылся профессору? Он и сам этого объяснить не умел. А единственный человек, с которым хотел поделиться – Елисеев, – скоропостижно скончался тридцати семи лет от роду, и увидел его Булатович в тот майский день, когда Александр Васильевич отправился в свое последнее путешествие – на Смоленское кладбище.
Булатович пошел на похороны. Провожали Елисеева немногие: литераторы, географы, несколько художников. Дорога была неблизкой – с Выборгской стороны на Васильевский остров. Рядом с Булатовичем шел какой-то господин, мял шляпу и, обращаясь к соседу (тот печально, по-лошадиному кивал головой), говорил негромко: «Когда-то, понимаете ли, целые народы были путниками, потом – отдельные индивидуумы… Но духовное-то начало, понимаете ли, одно: тоска по светлому граду Китежу. И в особенности у наших! Да-да, у наших, у россиян. Как сказал Афанасий Никитин: «И от всех наших бед уйдем в Индию». И вот он, Александр Васильич-то, не из тех ли взыскующих града был, а?» Взыскующие града… Почему-то запомнились Булатовичу слова эти, и как-то слились они с его тайным замыслом…
– Ваше благородь!
Булатович будто спросонок взглянул на Зелепукина.
– Попоить бы, ваше благородь? – Зелепукин кивнул ва озерко.
Они спешились, стали прохаживать лошадей. Кони фыркали, перебирали ногами…
И вот снова с бодрой четкостью били копыта по твердой дороге. И снова владело Булатовичем то чувство остроты восприятий, какое испытываешь на дорогах, тобою не хоженных, будь то стежка на опушке где-нибудь в средней России, будь то тропа в джунглях или степной шлях.
Не первый десяток верст мчал Булатович по дорогам Эфиопии, а нет-нет да и вздрагивал в радостном, самому казавшемся наивном удивлении: да это же Африка, Африка, черт побери!
Выше всех иных областей великого континента лежало над уровнем моря Эфиопское нагорье. Огромное и массивное, оно воздымало к солнцу снеговые вершины-главицы. Его речные долины давали жизнь притокам Нила. Были тут и тропически-влажные леса, и обширные, к горизонтам уходящие поля, где вызревала кукуруза, были тут бескрайние пастбища, поля пшеницы и ячменя. Поселяне этого нагорья одарили мир некоторыми видами культурных злаков, и отсюда, с крыши Африки, отправились в свое победное странствие по белу свету бобы, кофе…
Куча камней сложена на краю дороги. Булатович уже знает: неподалеку, стало быть, часовенка-тихоня или бедный монастырек. Точь-в-точь как в Греции… И верно, поворот – и монастырь. Может, один из тех, что хранят в своих кельях стариннейшие летописи, старательно скопированные грамотеями-затворниками. «Исполнен долг, завещанный от бога мне, грешному»… В тех хрониках прочтешь о славном государстве Аксум. Аксум… Небольшой городок на севере Эфиопии. В древности же – столица могучего государства. И прочтешь в монастырской хронике про Эзану, царившего в Аксуме в IV веке нашей эры, об удачливых его войнах, о рабах, возводивших дворцы, и о том, как Эзана союзничал с римлянами, как насаждал христианство и как в ту пору была создана эфиопская система письма, сохранившаяся доныне…
Но времени нет посещать монастыри. Двое русских торопятся в Аддис-Абебу. И в деревнях задерживаются они ненадолго. Зайдут на крестьянский двор с глинобитными службами – медоварницей, закромами, конюшней, зайдут и в дом, в круглую хижину-тукули с соломенной кровлей конусом. В доме опрятно, пол циновками выложен или свежей травой устлан, пахнет в нем, к удовольствию Зелепукина, сеновалом. Из задней половины, где женщины хлебы месят, жарево жарят, выйдет темнолицая хозяйка в длинном белом платье, босоногая, иногда платком повязанная, иногда простоволосая, вынесет гостям угощение, а хозяин в чистой рубахе, выпущенной поверх узких портков, подаст буйволовы рога с медами. За трапезой, уважая обычай, Булатович с Зелепукиным отгораживаются полотенцами, ибо на людях пищу жевать почитается неприличием. После еды разговоры бы разговаривать, да опять недосуг. Булатович и Зелепукин благодарят за радушие, поручик кладет на круглый столик серебряную монетку, и оба путника, поклонившись, идут со двора…
На третий день после встречи с Леонтьевым подъезжали они к Аддис-Абебе.
Аддис-Абеба означает «Новый Цветок». Булатович слышал, что цветок этот еще не распустился, не расцвел, что город только рождается, и все же поручик был удивлен, когда увидел беспорядочную толчею шалашей и палаток. Столица? Скорее военный лагерь, временное пристанище. А красная черепичная крыша на самом высоком холме? Это, должно быть, и есть дворец императора Менелика II…
Булатович с Зелепукиным вымылись в ручье, побрились и переменили дорожное платье на форменную одежду.
3
Аддис-Абеба действительно походила на военный лагерь. Только теперь уже в нем не таилась напряженаая тревога, какая бывает в канун битвы. Теперь обнимала Аддис-Абебу великая радость победы – победы африканцев над европейцами.
О, сколько тут было воинов-храбрецов со знаками ратной доблести – золотой серьгою в ухе, с головным убором из львиной гривы! И сколько боевых плащей – зеленых, как свежая трава, черных, как полунощное небо, огненных, как закатное солнце, фиолетовых, как отсветы в горах, и малиновых, и желтых, и розовых. Далеко слышалось ржание застоявшихся коней, рев мулов, говор пирующих. Весело пировали воины, те, что смяли войска генерал-майора графа Дабромида, отпрыска старинной фамилии, сына военного министра, те, что рассеяли колонны генерала Аримонди, выкормыша Моденской военной школы, и опрокинули батальоны генерала Эллены, рьяного поборника захватных войн. Кто здесь, в Аддис-Абебе, не помнил, как бежали офицеры итальянского генерального штаба, пехотинцы, артиллеристы, альпийские стрелки. Кто не помнил, как улепетывали они, бросая раненых, бросая винтовки системы Ремингтона и пушки системы Максима-Норденфельда, бросая продовольствие, боеприпасы, знамена. А грозный гимн эфиопов «Пойте, коршуны, пойте» хлестал по их жалким спинам, как бич.
Все это было совсем недавно, и все это никогда не пожухнет в памяти. Певцы-азмари уже сложили героические песни и поют, подыгрывая себе на однострунных лирах, а песни народных певцов остаются во времени, как запах леса на засеках.
Праздновали победу живые. Мертвым были отслужены панихиды, по мертвым плакали вдовы.
Вечный покой убитым. Но что делать тем, кого мучат, лишая сна, осколки итальянских гранат, чьи руки и ноги раздроблены пулями, кто ранен в живот, в голову, в грудь? Что делать им? А их сотни, их тысячи.
Об исцелении увечных возносятся молитвы в храмах, где лик Распятого напоминает эфиопа, где позвякивают цепочками и бубенцами старинные, как в московских соборах, серебряные кадильницы. Но молитвами не одолеть телесную боль, а ладаном не осилить сладковатый запах запекшейся крови. И толпятся у дворца Менелика, толпятся у монастыря святого Георгия сотни, тысячи калек. Царь царей, помоги! Вызволи, Спаситель!..
Калек и раненых усаживают к столам-корзинам на широкошумных пирах. Им выносят дары из хором императора. Они могут есть и пить у каждого, пусть самого бедного очага. Но ни ласка, ни яства не избавляют от боли телесной. Затравленные болью, измученные, они просят у неба смерти. И когда разносится по всей Эфиопии весть, что откуда-то издалека, из неведомой стороны московской спешат в Аддис-Абебу хакимы – исцелители, калеки недоверчиво качают головами: ведь чудо ниспосылает только небо…
Тем временем отряд Русского общества Красного Креста, снаряженный на добровольные пожертвования, отряд врачей, фельдшеров в санитаров-солдат со своими хирургическими инструментами, лекарствами, корпией, одеялами, бельем, медленно двигался из Джибути в Харар.
А впереди отряда, стараясь обогнать надвигающиеся дожди, летели поручик Булатович и рядовой Зелепукин. Надо было поспеть в Харар быстрее быстрого: пусть харарцы собирают мулов и лошадей для громоздкого каравана! И они примчались в Харар за девяносто часов. На полсуток скорее, чем это удавалось привычным к зною верблюдам и курьерам-сомалийцам. И, не отдыхая, помчались в Аддис-Абебу: пусть столица готовит госпитальные помещения!.. Синим июньским полднем очутились они на холмах столицы Эфиопии. Без задержки, минуя стражников, через много дворов и ворот повели Булатовича во дворец царя царей, императора Менелика II.
Тяжело, но плавно отворяются кипарисовые створки высоких дверей. Еще несколько минут, и поручик предстанет перед вождем африканского народа, еще несколько минут, и он увидит человека, от которого зависит исполнение его, Булатовича, замысла.
Бурная судьба была у негуса негести[1]1
Негус негести – царь царей.
[Закрыть], у этого отдаленного потомка израильского царя-мудреца Соломона и ослепительной красавицы легендарной царицы Савской! Еще в России, читая о Менелике, Булатович всякий раз забывал, что речь идет о его современнике. Казалось, читаешь старинную хронику, ибо все в судьбе Менелика несовместным представлялось с прозаическим временем акционерных компаний, биржевой суеты, скандальных уголовных процессов. Чего только не было в жизни Менелика! И плен при дворе негуса Федора, и побеги, и темницы, измены друзей и союзы с недругами, интриги и кровь… Череда сцен, точно бы вышедших из-под пера сочинителя. Но то были доподлинные события и правдивые сцены. В 1889 году Менелик овладел наконец царской короной. И он стал эфиопским Иваном Калитой, эфиопским Петром Первым. Разрозненные царства собирает он воедино, приглашает европейских инженеров, строит плотины и каналы, прокладывает дороги, вместо брусков соли, заменявших деньги, вводит серебряную монету, сурово отчитывает попов, ненавистников европейских новшеств. Он знает, что не всем по вкусу его праведное дело, и потому зорко присматривает за вассалами и с неменьшей зоркостью наблюдает за белыми пришельцами…
И вот этого-то человека увидит сейчас Булатович.
В сопровождении царедворцев, одетых, впрочем, без всякой пышности, в простые и даже грязноватые шаммы, Булатович, держась по-военному прямо и собранно, идет в коридорах и комнатах жилища негуса, расположенного среди многочисленных дворцовых построек. Все здесь напоминает богатые арабские дома; десятки балкончиков выкрашены пестро; из окон видна зелень лужайки, где иногда заседает царский совет.
Булатович слышит стук своих каблуков, говор провожатых, замечает убранство комнат и вдруг ловит себя на странной и пугающей мысли, что все вокруг нереально, что вот сейчас, как на сцене Мариинского театра, падет занавес, и конец сказке… Провожатые умолкают, он слышит какое-то движение, суету, миг спустя все приходит в порядок и двери растворяются.
Менелик ждал его. Подле трона негуса разместились слуги. Булатович поклонился, император с улыбкой указал ему на стул. И странное дело: вместо того чтобы смотреть на Менелика, смотреть во все глаза, Булатович, не поймешь почему, воззрился на стул. А стул был самый обыкновенный, старенький, венский, как в номере дешевой гостиницы где-нибудь на Петербургской стороне. И при виде этого стула Булатовича опять охватило ощущение нереальности того, что с ним происходит. Но едва он уселся, как с неожиданной легкостью произнес давно приготовленный и заученный вопрос о здоровье и благополучии императора Эфиопии, а едва только произнес все это, как овладел собою и поднял глаза.
Булатович увидел пятидесятилетнего человека с умным рябоватым лицом, чернота которого оттенялась серебрящейся бородою и кисеей головной повязки. Одет он был вовсе не в духе «Тысячи и одной ночи», как раньше представлялось Булатовичу: шелковая в лиловую полоску рубаха, а на плечах черный плащ с золотым позументом.
Добродушной улыбкой темных глаз ответил Менелик на банальный, этикетом предписанный вопрос о здравии и благополучии его величества, но голову наклонил он при этом с царственным достоинством, и голос его прозвучал негромко и серьезно:
– Покорно благодарю, хорошо. Благополучен ли его величество государь Всероссийский?
Расспросы подобного рода продолжались недолго, живые темные глаза Менелика светились добродушной иронией, словно бы говоря Булатовичу: «Что поделаешь – ритуал. А мы-то с вами понимаем…»
И, покончив с ритуалом, Менелик заговорил иным тоном – деловито и быстро. Булатович подумал, что так вот и должен говорить тот, кто, подобно Петру Великому, встает на заре, едет в лес, где валят деревья и расчищают дорогу, знает по именам мастеровых и арсенальных служителей и слезает с коня, чтобы таскать камни для плотины.
Менелик спрашивал, сколько людей в отряде Красного Креста, что нужно приготовить для них, скоро ль они будут в Аддис-Абебе. И, спрашивая, все больше оживлялся, глаза его сияли, весь он так и лучился морщинками… Его секретарь Ато Иосиф, знающий по-французски и по-русски, записывал просьбы Булатовича в маленькую тетрадь.
Аудиенция продолжалась около часа.
У внешних ворот дворца дожидался Булатовича гусар Зелепукин. Жарко ему приходилось. С полсотни, а то и больше людей, раненых и больных, притиснули гусара к воротам.
– Хаким москов!
– Хаким!
И показывали искалеченные руки и ноги, обнажали раны.
– Москов, носков! – растерянно кричал Зелепукин. – Не хаким, а москов. Хаким едут, понимаешь? Едут, говорю, понимаешь? Скоро! Жди, говорю, жди! – надрывался гусар, стараясь втолковать эфиопам, что он хоть и москов, но не хаким-дохтур и что «дохтуры вскорости объявятся».
Выйдя из дворца, Булатович с минуту наблюдал мучения Зелепукина, потом поднял руку, требуя тишины, и стал объяснять, что «хакимы» недели через две-три будут в Аддис-Абебе и что император распорядился выслать навстречу им много мулов.
Булатович хотел было вскочить на коня, но тут поручика подхватили на руки и понесли, ликуя, крича что-то. С Зелепукиным попробовали управиться тем же способом, но кряжистый, почти квадратный гусар был точно чугуном налитый да к тому же еще барахтался отчаянно, и его отпустили, выкрикивая со смехом:
– Зохон![2]2
Слон.
[Закрыть] Зохон!
– Кишка тонка, братцы, – грохотал Зелепукин, стараясь не потерять из виду их благородие.








