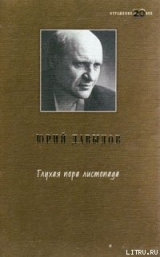
Текст книги "Глухая пора листопада"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Дом пятьдесят шесть дробь два на углу Большого проспекта и Гагаринской был на замете у департамента полиции – «по причине проживания лиц, скомпрометированных в политическом отношении». Да сами посудите: сперва библиотека принадлежала писателю Павлу Засодимскому; потом писателю Александру Эртелю; там же одно время снимал комнату и беллетрист Николай Златовратский. Хоть легальные, хоть при паспортах, но за версту неблагонамеренностью несет. А к ним кто? Универсанты, технологи, бестужевки, разных журналов сотрудники. С недавнего ж времени библиотека досталась братьям Карауловым, Николаю и Василию. Жена Николая, слушательница врачебных курсов, хозяйство вела, прислуги Карауловы не держали, скромно жили. Однако подполковник Судейкин прилепил филеров к угловому дому на Большом и Гагаринском, и вот уж, помимо прочих, замелькал в филерских суточных донесениях некий господин в английском суконном пальто с воротником-шалью, в круглой енотовой шапке с синим верхом. Господин этот – сыщики меж собою нарекли его Головастиком – приезжал на извозчике, держался спокойно, никогда не юлил проходным двором… Ага, вот он, собственной персоной. Ишь, прет, не оглядывается, ровно барин какой.
Из трактира близ Андреевского рынка Дегаев поехал на Петербургскую сторону. Был уже поздний вечер, ясный, в молодых звездах.
На Гагаринской, отпустив извозчика, Дегаев, не озираясь, не осторожничая, вошел в парадную, взбежал по лестнице, позвонил условным звонком.
В читальне он не показывался, а показывался лишь на тесных сходках в квартире хозяев библиотеки братьев Карауловых. Отворил ему нынче старший, Николай Андреевич, человек плечистый, гулкоголосый.
Ах, мирная картина! Круг от лампы, блики самовара, белое запястье женщины, опустившей стакан в полоскательницу, а в серебряной сахарнице – твердая голубизна колотого сахара. И наплыв папиросного дыма. Мирная картина… «О, в самом бы деле», – с внезапным и грустным сожалением подумалось Дегаеву.
Он знал собравшихся. Филолога и поэта Якубовича: «Так без жизни проносится жизнь вся моя: поглощаемый мутною тиною, я борюсь день и ночь, сам себе – и судья, и тюрьма, и палач с гильотиною…» Ну да, да, а молодость свое берет – румянец-то ровный, юношеский, неподвластный горькой думе… И милейший Стась Куницкий тут же, огненным взором брызжет, воплощенная пылкость этот Стась Куницкий, в жилах его горячая, как пунш, смесь польской и грузинской крови. Он Дегаеву вроде бы крестником: Стасю передал Сергей Петрович нелегальный кружок в Институте путей сообщений… Кто еще? Ага, в креслах, поодаль, как будто в гоголевской шинели с поднятым воротом, неулыбчивый Флеров. Крупный, породистый нос, выпуклая, будто вызывающе развернутая грудь. «Кто знает, господа, не перейдет ли в скором времени дело революции в руки рабочих?» Это он сказал, неулыбчивый Флеров. А вот и Блинов. Блинов демократически пьет чай – с блюдечка пьет, вытянув губы. Блинов – будущий горный инженер (ежели не арестуют) и будущий зять (ежели Лизонька не отвергнет, что, впрочем, весьма сомнительно-с).
Дегаев принял от хозяйки стакан чаю, но еще не поставил на стол, как почувствовал пристальный взгляд и поднял голову.
В стакане тонко и дробно зазвенела ложечка; Сергею Петровичу почудилось, что где-то там, на улице, проехала тяжелая фура, и вот здесь, в комнате, этот дробный, тонкий звон. Он поставил стакан.
Ювачев? Дегаев смотрел на отрочески тонкого, загорелого офицера. Неужели Ювачев? Неужели один из тех офицеров-южан, с которыми он, Дегаев, познакомился в Одессе и в Николаеве? Значит, уцелел?
Ювачев, сын мелкого придворного служащего, был похож на романтичных моряков из увлекательных книжек капитана Марриэта: хорош собою, четкий очерк рта, бронзовость, которой одаривают солнце и ветер морей.
Ювачев стоял у зашторенного окна, спрятав руки за спину.
– Последний из могикан? – печально улыбнулся Дегаев.
– Вам уже известно? – быстро и неприязненно спросил прапорщик.
– Следовало ожидать, – вздохнул Дегаев. Прибавил значительно: – Увы, следовало. Да-с.
– Отчего же «следовало»? – Ювачев голосом подчеркнул это утвердительное «следовало».
Дегаев пожал плечами, словно удивляясь недогадливости молодого человека. И объяснил:
– Предательство. Я уж говорил: предательство. Я первый, верно, об этом сказал. Еще когда у Софьи Григорьевны… Ну да вы об этом знаете, надеюсь.
Дегаев взял чай, негромко заговорил с публикой.
Ювачев не слушал. Достал папиросы и спички, но не закурил. Он задумался, на душе у него было смутно. Повернувшись, он лбом раздвинул шторы, приник к черному слепому окну.
Недавно в Одессе Ювачев впервые увидел Дегаева, представителя центра. Да и товарищи его, офицеры флотские и армейские, тоже, кажется, впервые встретились с этим невзрачным, хмурым Сергеем Петровичем.
Тогда, в Одессе, Дегаев внушал членам Военной организации необходимость возобновить террористические действия. Террор замер вместе с эхом бомб на Екатерининском канале, бомб первого марта восемьдесят первого года. Террор словно бы иссяк вместе с казнью императора Александра Второго и казнью террористов на Семеновском плацу. Возобновить террористические акты, по мысли Дегаева (стало быть, и центра), значило возвестить, что «Народная воля» существует, действует.
Тогда, в Одессе, как казалось Ювачеву, Сергей Петрович был весьма категоричен и нецеремонен. Он беседовал с каждым офицером отдельно. Брал об руку, уводил в уголок. В этом «уводе» чудилось Ювачеву что-то паучье. И он, штурман Ювачев, довольно резко возразил Дегаеву: понуждать к террору неуместно, намерение метать бомбы должно исходить, так сказать, изнутри, а не под чарами чужого красноречия.
Дегаев отвечал небрежным жестом. А на упрямство Ювачева: «Серьезное требует серьезной подготовки» – и вовсе отмахнулся: «Пустое! Если и сорвется на полдороге, и то уж дело, хорошо, ибо жандармы узнают, что опять надвигается гроза». Ювачев вспыхнул: «Я, как офицер, как член Военной организации, у которой целью подготовка войска, пропаганда, я, сударь, не могу и не хочу в какие-то четверть часа принять определенные обязательства!» Дегаев рассердился и принялся за другого – опять поволок в угол… А Ювачеву подумалось: «Ну, брат, эка ты легко распоряжаешься судьбами! Раньше-то я слыхал про пушечное мясо, а нынче вроде бы слышу – про жандармское…»
Приникнув лбом к черному слепому окну, прапорщик чувствовал и смущение, и недовольство самим собою. И какого дьявола он сейчас сунулся со своими намеками: почему, мол, следовало ожидать разгрома Военной организации? Сунулся, и пожалуйте-с – щелчок по носу, как щенку: «Я говорил – предательство». И ведь верно. Он говорил. Он первый говорил о предательстве. Софье Григорьевне Рубинштейн напрямик о том объявил. Верно. У нее скрывался после побега из тюрьмы, ей и сказал про предательство. Именно Софье Григорьевне. И это тоже понятно: вот уж кто достоин безусловного доверия, так это она, Софья Григорьевна, легальная жительница Одессы и покровительница всех нелегальных, родная сестра знаменитых музыкантов и сама музыкантша. Говорят, у нее частенько находил кров Желябов. И право, неудивительно, что Дегаев, весь еще в огне, примчался к Софье Григорьевне – отдышаться, сменить одежду, одолжить денег. И действительно, тогда же сказал ей, что из жандармских допросов вынес убеждение: предатель в центре партии. Он, Дегаев, сказал ей первой, и от нее услышали другие. А Дегаев, взяв у Софьи Григорьевны адреса, приехал к ним, в Николаев. И действовал энергически. И это после тюрьмы, после страшного напряжения. Но едва он уехал, к госпоже Рубинштейн вломилась полиция: обыск, все вверх тормашками. И опять-таки ничего удивительного: где ж прежде всего искать беглеца? Ничего удивительного, штурман. На месте полиции вы поступили бы точно так же. Однако позвольте: эти аресты в Николаеве по следам Дегаева? Стало быть, сами и виноваты: плохо конспирировали… Ну а этот слух? В Одессе, за ужином у какого-то интенданта жандармский полковник, захмелев, хвастливо намекал о крупном предательстве. Впрочем, нельзя не признать, что жандармы – источник мутный, отравленный. Есть некий полицейский прием: темные слухи пускать в публику. Так-то оно так, а все ж одесские товарищи осторожности ради известили харьковских. Харьковчанам виднее, там и Вера Николаевна обреталась, а Фигнер ведь давно и хорошо знала Дегаева. Ну-с, харьковские и ответили: стыдно, дескать, клеветать.
Но сейчас, увидев Дегаева, это серое, нездоровое лицо, услышав этот голос, напомнивший ему о «жандармском мясе», сейчас штурман Ювачев будто б помимо воли поддался прежним подозрениям. И получил щелчок по носу. И поделом, поделом!
Ювачеву было нехорошо, обидно. Он чувствовал себя и правым и виноватым, он чувствовал себя скверно. Папироса смялась, табак крошился. Прапорщик взял другую, чиркнул спичкой. На черном окне обозначился и легонько вытянулся огонек. «Как якорный, когда видишь судно с берега», – рассеянно определил штурман.
А Дегаев, пригубливая стакан крепкого чая, говорил:
– Теперь, господа, надо практически. Златопольский прав: ее надо спасти. Разумеется, сил и средств у нас недостача. Но спасти надо. Далее вот что… Не знаю, осведомлены, нет ли… Хочу вам напомнить. Вы знаете эту историю с Нечаевым? Я знаю подробно. Нечаев был готов совершенно. Но мы шли к первому марта. На оба предприятия нас не могло хватить. Мы сделали Нечаеву прямой вопрос: он или центральный акт? Он или казнь царя? И Нечаев ответил, как подобает революционеру: просил отложить свой побег до совершения центрального акта. Одну минуту, господа! Для меня, как и для вас, Вера Николаевна – это… это… Ну да вы понимаете. Тут нет двух мнений. Однако могу поклясться, что на вопрос, подобный тому, какой был задан Нечаеву, Вера Николаевна…
– Мы не готовим! – заволновался Куницкий. – Мы ведь и не помышляем о центральном акте! Не так ли, господа?
Сергей Петрович, ощутив как толчок вопрошающие взгляды, медленно усмехнулся:
– Согласен, Стась. Ты лишь не прибавил: «пока что». Пока не думаем, пока не готовим. А разве мы забыли, что террор… Полагаю, господа, не забыли. – Он сунул руку в карман сюртука, выхватил печатные листки, сложенные вдвое. – Этим еще в Михайловской артиллерийской академии запасся. Вот, – он потряс листками, – вот: инструкция по изготовлению динамита. – Он внезапно заторопился, точно его подстегнули. – Но это не все, господа. Не мне убеждать вас в значении пропаганды. И вот это еще. – Он показал им книжку в ветхом переплете: «Руководство для типографщиков». И снова усмехнулся: – Издано товариществом «Общественная польза»!
Ни на одной здешней сходке не заикался Дегаев о терроре. Никогда не касался «техники» – динамитной мастерской, печатни. Должно быть, приглядывался. Должно быть, взвешивал. Должно быть, примеривался. Умолкнув, откинувшись на спинку стула, он чувствовал необыкновенное удовлетворение. Он, член Исполнительного комитета, заменяет весь Исполнительный комитет. «Вываренная тряпка»? Они узнают эту «вываренную тряпку»… Будут бомбы. Будет печатный станок.
Сказанное Дегаевым не прозвучало неожиданностью. Ничего нового. Тут было старое. Тут была «Народная воля». Разбитая, повешенная, замурованная. Каждый думал о возрождении, каждый думал о продолжении. Была та особенная минута, когда веришь – началось. Незримый, но явственный переход.
Заговорили разом, перебивчиво. Ювачев бросился к столу, Флеров выдвинулся из мрака. Говорили о Фигнер, о провале последней динамитной мастерской, о запасах шрифта в типографии Академии наук, о студенческом кружке… Дегаев вглядывался в лица. Где-то, в тени его мыслей, опять мелькнула грусть по мирным чаепитиям.
Прощаясь, Дегаев перешепнулся с Флеровым. Николай Михалыч занимался с московскими рабочими, а Златопольский в нынешней записке советует отыскать в Москве некоего Сизова. Не знает ли Николай Михалыч этого самого Сизова?.. Нет, он, Флеров, не помнит такого.
Прощаясь, Дегаев сказал Блинову, что послезавтра навестит Лизу. Не будет ли и Блинов на Песках? Будет? Ну и отлично.
Дегаев пожал руку Ювачеву. Прапорщик пробормотал: «Извините…» Дегаев улыбнулся: «Что ж, я вас хорошо понимаю. Держитесь осторожно в Петербурге, очень осторожно».
7Свечи горели звездчато, на мгновение будто жмурились. Тогда, тоже на мгновение, мерк огромный иконостас. Мрамор гробниц, белый как смерть, давил усопших самодержцев.
В Петропавловском соборе служили вечерню. Служба была будничная, нелюдная, священник вершил требу спустя рукава. Блинов томился. Он поглядывал на обстриженные затылки солдат, на прямую спину капитана Домашнева, начальника крепостных жандармов, на рыжеватого блондина в армейской шинели, майора Лесника, смотрителя тюрьмы.
Собор наводил на Блинова тоску. Его преследовал запах тления. Романовско-голштинско-готторпский погост, вот что такое этот собор… Без церкви на холме, без церкви у дороги русский пейзаж – сирота. Зодчие в опорках чутьем угадывали, где срубить храм. А этот? Знатоки находят пропорции, грозную прелесть, но Блинов чует – смердят гробницы. Кто-то ему говорил, что сторож за мелкую мзду пускает гимназистов; перед экзаменом бегут гимназисты, посвященные в великую тайну, бегут, чтобы одним глазом, в какую-то щелку глянуть на императора Павла; веревка повешенного приносит счастье, вид удушенного тоже. А любопытно было бы, а? Да нет, врут, наверное. Чего там увидишь, даже если щелочка есть? Император Павел Первый – табакеркой в висок да шарф на шею. Трагедия или фарс? Что ты знаешь об этом курносом? Только то, что он курнос. Матушку ненавидел, ать-два, прусский шаг, сидел в Гатчине. Нынешний тоже сидит в Гатчине. Здесь их закапывают. А у сторожа губа не дура: служащий во храме от храма и кормится… Служащий в тюрьме от тюрьмы и кормится, у Ефимушки губа не дура. Рядом тюрьма, совсем рядом, «караулы его величества стоят спокойно». Ефимушка не любит встречаться во храме. «Неспособно, – говорит, – боязно». И точно: вот эти солдаты, вот эти жандармы, и присяжные, отставные гвардейцы, и старик с крепкой шеей, и майор. Неспособно. Ничего не попишешь – срочная «депеша». Дегаев спешит успокоить Веру Николаевну, успокоить Златоиольского. Дегаев преображается, когда говорит: «Наша Вера…» Вот оно, старое товарищество… Ну, поп, будет кадить.
Отошла вечерня. Шаркая, подавался народ к выходу. Солдаты, прихожане из ближних с крепостью улиц. И Ефимушка-унтер выплыл, не глядя на Блинова, но близенько. Неприметно рукой об руку задел, принял депешу и поплыл далее в медленной толпе.
Гаснут свечи, сперва ослопные, большие, меркнет иконостас, жухнут каменья окладов, только вот тот, в рубинах, кровавым мраком дотлевает, и скоро уж, инвалидно постукивая, сойдутся поболтать погребенные самодержцы. А нынешний-то сидит в Гатчине.
Иоанновские ворота обдавали гулкой стынью. У Блинова холодела спина. На выходе из крепости, в Иоанновских воротах, он проникался колдовским гнетом русской Бастилии и убыстрял шаг, топорща лопатки, убирая руки в карманы.
Стражники втихомолку материли прихожан-богомольцев. Чего тянутся, черти собачьи? По четыре бы, в колонну – марш-марш, без задержки. Нс-ет, вольные, вишь… Вот ужо крикнут тебе команду, тогда навались плечом, брюхом навались, екри-и-ни, затворяй Иоанновские до утречка. И в будку. «Караулы его величества стоят спокойно».
Блинов хватил воздух всей грудью. Как вынырнул. А вокруг тьма, дальние огни, и справа, неподалеку – ход Невы, широкий, темный. Блинову подумалось о Времени. Неотчетливо, смутно подумалось, вот так, как слышалась Нева, и сразу же мысль скользнула к иному, «маленькому» времени. Он шел во тьму, к огням, быстро шел не только оттого, что торопился на Пески, но и потому, что крепость, как с костылем, гналась за ним длинными тенями, кислой вонью.
А на песках, у Лизы, была Яхненко.
Лиза ей обрадовалась. Ничего петербургского – малороссийская вишня эта Наталья Яхненко. Флегматична немного, но так и пышет здоровьем. Наташа не говорила: «Я страстно отдаюсь искусству», – и не засиживалась в Венской кофейне; хору Воронежского подворья, что на Васильевском острове, предпочитала «Гей, не дивуйте, добрii люди…».
С Дегаевой держалась она дружелюбно, но сердечных отношений у них не складывалось, а Лизе хотелось нравиться Яхненко, и эта Натальина сдержанность беспокоила, даже злила ее. У Лизы были товарки, а она ведь так нуждалась в интимной подруге после того, как познакомилась с Блиновым.
Наконец-то Наташа на Песках! Впрочем, Лиза подозревала, что причиною тому последняя книжка «Отечественных записок». В читальне уже составилась очередь. Наташа не поспела, замешкалась, ждать ей не дождаться. А Лиза возьми да скажи: есть, мол, только приходи. А книжки-то и нет у нее. Сболтнула, с языка сорвалось. Лизе и весело и неловко – попалась.
Нет, Наташе вовсе не по душе ни Цезарь, ни Дьяконова. И пусть Лиза их не защищает! Разве так можно? Антон Григорьевич остался недоволен. Да и как же? Соло трудные, спору нет, но разве одной, пусть отличной выучкой возьмешь? Если б Лиза послушала, как певали у Софьи Григорьевны… А Цезарь и Дьяконова, конечно, успешливые консерваторки, однако у Софьи Григорьевны…
Имя это Лиза уже слышала. Слышала здесь, в этой комнате, где у них гостиная. (Над фортепьяно пыльная гипсовая маска Бетховена, напротив, на другой стене, дагерротипный портрет покойного статского советника Дегаева; в сем vis-a-vis домашние не обнаруживали ничего комического.) Имя Софьи Григорьевны произнес здесь однажды Андрей Иванович. Да, да, Андрей Иванович Желябов. Он сидел в потертом дедовом кресле. Он был одет элегантно. Ему, верно, все было бы впору – и гвардейский мундир, и купеческий кафтан, и мужицкая рубаха распояскою. В тот вечер он был трогательно задумчив. С ним пришла неизменная его спутница. В этой женщине, похожей на девочку-подростка, Лиза не находила ничего примечательного – одутловатые бледные щеки, высокий, не женский лоб. Лиза недоумевала: какая неподходящая пара. Они приходили, в сущности, к Сергею. Сергей держался с ними почтительно: скрывая почтительность, делался шумен, развязен. Лиза догадывалась: гости – крупные революционеры, может, члены Исполнительного комитета. (Их подлинные фамилии узнала она, когда в здании окружного суда на Шпалерной шел процесс первомартовцев. В последний раз она видела Желябова и Перовскую на Семеновском плацу.) Андрей Иванович, вот кто восторгался госпожою Рубинштейн. Лиза тогда играла Шопена. Желябов вежливо похваливал, потом, оживившись, заговорил о Софье Григорьевне…
– Да, они дружили, – молвила Яхненко. – Андрей Иванович часто бывал у вас?
Знакомство с Желябовым давало Лизе превосходство, чувство причастности к чему-то значительному и необыкновенному.
– Ты… ты тоже его знала? – ревниво спросила Лиза.
У Яхненко не было желания открываться Дегаевой, с отстраняющим лицом Наташа ответила:
– Хорошо знала.
(И тут же подосадовала: зачем рассказывать Дегаевой, выйдет что-то банальное, ничего эта Дегаева по-настоящему не поймет. А с Желябовым виделась Наташа и после разрыва. Ни полусловом не корила за то, что оставил семью, сыночка оставил. Но сестру жалела. Ольге сострадала. Андрей Иванович отыскал Наташу в Петербурге, в консерватории. Он любил приходить к ней, но всегда один, без Перовской. И Наташа сознавала, что именно ей, Наташе, хочет Андрей Иванович объяснить причины разрыва с Ольгой, но Наташа не могла и не хотела слышать его оправданий. Теперь уж это давняя история. Нет на свете Андрея, и нет той женщины, что была ему и женой и соратницей. Жили вместе, умерли вместе. После казни Желябова Ольга сменила фамилию, вернула себе прежнюю, девичью. И племянник теперь не Желябов, а Яхненко. Жаль сестру, не задалась жизнь.)
– О, – сказала Лиза, фальшиво улыбаясь и грозя пальцем. – Ты его знала? До-га-ды-ва-юсь.
Наташа вспыхнула.
– Ничего ты не понимаешь!
Лиза не обиделась, рассмеялась, глядя на Яхненко. В сравнении с такой вишенкой Перовская была дурнушкой, и Лизе это было не по-хорошему приятно.
– Душно у вас, – сердито сказала Яхненко. – Пора мне. Ты журнал обещала.
– Ах, как же, как же, – всполошилась Лиза, – да вот беда… Господи, вот память! Прости, милая, выклянчил один знакомый, божился отдать скоро. Прости, пожалуйста.
У Яхненко очи рассверкались грозою, но тут – звонок в прихожей, и Лиза, прикусив губу, заторопилась выпроводить гостью.
Лиза нынче Блинова не ждала, а по звонку-то судя, Блинов пришел, Лизе же совсем не хотелось, чтоб Николай увидел Наталью Яхненко.
Блинов поклонился. Наталья хмуро, едва кивнув, прошла к дверям, а Блинов посмотрел ей вслед так, что у бедной Лизы екнуло под ложечкой.
Она хлопнула дверью, а этот противный Блинов как ни в чем не бывало спросил, нет ли Сергея Петровича.
– А! – вспыхнула Лиза. – Так вы не ко мне, сударь?
Он, смеясь, взял ее за руки.
– Оставьте! Оставьте! – сердилась Лиза, не удерживая счастливой улыбки.
Брат Сергей и Блинов, должно быть, виделись нередко. Лизе это нравилось. Пусть сблизятся, так возникает родственность. Сближение брата и Николеньки казалось ей какой-то гарантией… Да вот нынче хорошо бы обойтись без Сергея.
Они прошли в комнату, сели рядом на диване. И тотчас услышали взманивающую, предательскую тишину пустой квартиры, и Лиза быстролетно, точно воруя, глянула на Блинова.
От тишины, от самих себя их спас Сергей Петрович. Блинов поразился: тусклый, линялый, словно бы подменили Дегаева, совсем иной, нежели третьего дня у Карауловых.
– На скорую руку, Лизонька, с ног валюсь. Там и бутылочка. – Он отдал Лизе сверток, сказал Блинову: – Не откажетесь? Иногда почему же… – И спохватился: – Видели?
– Видел.
– А молодец, молодец этот унтер, – ухмыльнулся Дегаев.
– Дошлый, – согласился Блинов. – Уж такой дошлый, что как бы и не того…
– Мне тоже, знаете ли, разэдакое взбредает. Да только осторожность осторожностью, но и крайность, знаете ли… Ко всему, ко всем недоверие. Горький опыт, н-да-с.
Лиза вышла в кухню, Дегаев поманил Блинова.
– Есть некоторые тревожные сведения, – проговорил он негромко и потянул Блинова за край пиджака, приглашая сесть рядом. – Вам надобно уехать из Петербурга. Тсс! Слушайте! на месяц самое большое.
И пока Лиза возилась в кухне, Сергей Петрович объяснил Блинову цель будущего путешествия, назвал явки. Он определил Блинова эмиссаром Исполнительного комитета.
Сели ужинать. Дегаев налил водки. Блинов водку не терпел, от повторной рюмки он отказался. Дегаев пил страдальчески, Блинов с мимовольной брезгливостью подумал о запое, а Лиза затревожилась:
– Ты плохо выглядишь, Сереженька.
Он криво усмехнулся:
– Здоровью моему полезен… Я, знаешь ли, не ангел…
Вышла пауза.
– А, слушай, – произнес наконец Дегаев, словно что-то вспомнив. – Слушай, Лизок. Покорнейшая просьба: в Москву не прокатишься ли?
Она взглянула на него с недоумением.
– Понимаешь ли, – продолжал Дегаев, задумчиво почесывая щеку, – человек нам один нужен, очень нужен, вот какое дело. А нелегального как в Москву пошлешь? Коронация на носу, там землю роют, нюхают на каждом углу.
Никогда прежде брат не впутывал ее в конспиративные хлопоты. Никогда, а тут вдруг без предисловий, непременно. Нет уж, увольте… Но Лиза перехватила взгляд Блинова, устыдилась, даже как будто бы испугалась, ответила поспешно:
– Конечно, поеду, Сережа, как же не поехать…
– Вот и спасибо, милая, спасибо. Я тебе после объясню, что и как. – Он улыбнулся. – А кстати и коронацией полюбуешься.
– Балет и опера вместе, – заулыбался Блинов.
– А может, салют и фейерверк, – сдержанно и веско заметил Дегаев.
Блинов притаил дыхание.
– Неужели?
Но Дегаев как не расслышал. Он еще выпил и нахохлился. Молчание его было угрюмым, почти злобным. Блинову сделалось неловко. Ни на кого не глядя, Дегаев сказал, что хотел бы немного отдохнуть в своей комнате.
Собрался и Блинов. В прихожей Лиза, нервически всхлипнув, припала к нему, быстро и коротко оглаживая его щеку, требовательно зашептала:
– Не уходи! Не смей… Жди… Он скоро… Не смей…
Блинов кивнул, но ему было стыдно, за нее стыдно, и страшно, что она заметит этот его стыд за нее.
У себя, в своей комнате, Дегаев казнился. Негодяй, предатель, мразь, животное. Вот здесь, в этой комнате, ты жил с Любинькой, с Белышом. Еще и башмаков не износил. Млел, глядя, как она стелет постель, как взбивает подушки. Она сама чистота, твоя суженая, твоя спасительница. А ты мразь и подлец. Такой женщины нет в мире, она была с тобою в аду и спасла тебя. А ты негодяй, животное… Нагнув голову, он ходил по комнате.
Блинову было нехорошо. Лиза его ужаснула: жадный всхлип, жадный, требовательный шепот. Сейчас он уже не чувствовал к ней никакого влечения. «Прочь, – говорил он себе, – немедленно прочь». И не двигался. Стоя на другой стороне улицы, смотрел, как блуждает тень Дегаева. Прочь отсюда, это непорядочно, она и себя и тебя проклянет. Прочь, говорят. Но ведь обещал. Обещал, не так ли? Бежать, пожалуй, тоже непорядочно. Ах ты размазня, фалалей чертов!
Тень в окне исчезла. Блинов схоронился в подворотне. Неподалеку тяжело застучал экипаж. Потом стихло.
Дегаев ушел. Он как бы исповедался в своей комнате, грех отпущен. Он больше не думал об этой толстой потаскухе. Он переспал с нею в заплесневелом мезонине, изменил Белышу, в первый раз изменил. Но грех отпущен, баста. Он шел успокоенный. Он прошел почти рядом с Блиновым.
Тот выглянул из подворотни, ругая себя соглядатаем. Прислушался к шагам Дегаева.
За углом дожидалась Дегаева большая карета. Дегаев отворил дверцу, кто-то сказал: «Трогай!» – экипаж покатился.
Блинов постоял с минуту, вернулся в дом, но не успел позвонить – парадная распахнулась. Он увидел Лизины глаза. Почему-то мелькнуло: «Воровка».





