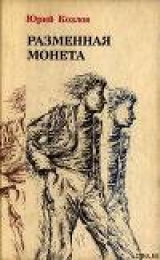
Текст книги "Разменная монета"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
То, что Никифоров мысленно простился с Джигой, странным образом повернуло к нему Джигу, уставшего, видимо, от поддакивателей, делящих вместе с ним пока ещё не существующий пирог.
Как-то вечером Джига вдруг позвонил Никифорову домой, попросился приехать.
Татьяна ещё с институтских времён относилась к Джиге с брезгливостью. Не хотела, помнится, чтобы Никифоров звал его на свадьбу. Никифоров не послушался. На свадьбе Татьяна послала Джигу через весь стол матом. «Да не суетись ты! – дёрнула Никифорова за рукав, когда тот начал было извиняться за неё. – Эта сволочь не обидится». – «Чего ты лезешь к нему?» – разозлился Никифоров. «А сама не знаю, – нагло ответила Татьяна, – мразь он, гаденький такой слизнячок! Знаешь, такие любят в кустиках сидеть, а как увидят женщину, выскакивают и… показывают. Не знаю, даёт ли ему хоть одна баба? По мне, так лучше застрелиться, чем такому дать!» – «И ты… всех мужчин вот так… на предмет дать?» – покоробился Никифоров. Свадьба, белое платье, кружевная фата – и совершенно неуместное хамское слово «дать». «Всех!» – злобно подтвердила Татьяна. Больше она прилюдно не посылала Джигу матом, но никогда и не изображала радости по случаю его появления.
Так и сейчас.
Сухо кивнула ему в прихожей, ушла в комнату смотреть телевизор, никак не отреагировав на принесённую Джигой бутылку «Пшеничной». А между тем выпить Татьяна была не дура.
Расположились на кухне.
Джига был рассеян, задумчив, не очень-то походил на удачника, перед которым распахнулись блистательные горизонты.
Разлили. Выпили по первой.
– Мы тут прикинули с ребятами, – вяло заел холодцом Джига, – всю нашу «Регистрационную палату», все семь управлений можно заменить одним компьютером. И тот будет загружен не полный день.
– Ну и замени, – пожал плечами Никифоров. Он знал, что в конторе сидят бездельники. Сам был одним из них. Однако простая мысль, что всех их можно взять да заменить одним компьютером, не приходила ему в голову, так как никогда не принимал Никифоров интересы конторы близко к сердцу, не считал её своей в том смысле, чтобы задуматься, хорошо или плохо она работает, элементарно вникнуть: чем, в сущности, она занимается? Какая от неё польза? «Регистрационная палата» была чужая, созданная вопреки разуму и нормальным человеческим представлениям контора, куда он был вынужден ходить, чтобы получать скудную зарплату, ждать двухтысячного года, когда подойдёт его очередь на машину, прихватывать что-нибудь по мелочи домой, добывать в типографиях у рабочих книги. Хоть и не лежала к этому душа. Всё.
– Я только что из министерства, – продолжил Джига. – Утвердили новое положение. Из семи управлений останется три. И рассуют по разным помещениям, вместе сидеть не будем. Наш отдел отойдёт к третьему управлению.
– Чей это, наш? – усмехнулся Никифоров, налил по второй.
– Меня утвердили замом генерального, начальником третьего управления, – сказал Джига, – фактически у нас будет самостоятельная организация.
– Ладно. Я-то тут при чём? – Никифоров выпил, посмотрел в чёрное кухонное окно. Там не было ничего, кроме блочных домов-близнецов, посвечивающих окнами.
– Сволочи! – Джига с трудом наколол на вилку ускользающий по дну тарелки крохотный, похожий на червячка, солёный опёнок. – Хотят загнать куда-то на Коровинское шоссе, в здание бывшего СМУ. Полуторный этаж. Денег на ремонт не выделяют. Оклады по низшей категории. Оргтехнику, и ту сами должны покупать. О служебной машине вообще нет разговора. Но… возможен вариант.
– Надеюсь, хоть без крови? Убивать никого не надо? – Никифоров не мог представить себе варианта, при котором он мог понадобиться окружённому хватами Джиге.
– Там один тип из министерства перескочил в горком. От него всё зависит. Он теперь главный по науке, а у нас как бы научная организация. Есть старинный особнячок на набережной в центре под мостом, пять организаций грызутся, кто ухватит. И машину новенькую чёрную можно получить. Прямо под мостом гараж таксопарка, там будет и стоять и обслуживаться. И оклады приличные, и мебель нормальную… Всё можно. Он одной ногой ещё в министерстве, что хочешь подпишет. Другой в горкоме, сам и утвердит, вступив в должность. То есть одним махом: здание, оклады, мебель, машина… Да, машина…
«Ну да, – подумал Никифоров, – я же шофёр второго класса, автослесарь…»
– Ты… шофёром меня хочешь?
– Ну, – оторвал от пустой тарелки бесцветные глаза Джига, – что ж ты сразу о себе? Даже не поинтересовался: чего, собственно, тот тип добивается?
Никифоров был совестливым человеком. Когда пил водку – вдвойне. Джига, тот от водки странно яснел, говорил голую холодную правду. Потому-то Никифоров не очень любил выпивать с Джигой. Никифоров совестился, добрёл, располагался к собеседнику, а с Джигой и говорить-то по душам не получалось – сидел, как снеговик, всё норовил о серьёзном. Разве для этого люди выпивают? Всё у Джиги было наоборот от того, что он был нерусским человеком.
– Чего он добивается? – Никифоров понял, что тот добивается чего-то такого, о чём Джига не может рассказать своим новым друзьям. Потому и приехал сюда, к нему, пребывающему в ничтожестве.
– Забавный такой мужичок, – усмехнулся Джига, – просит, чтобы я снял свою кандидатуру до выборов. Мы с ним идём по одному округу. А всего трое. За меня, по предварительным опросам, семьдесят процентов. За мужичка – десять. Третий – какой-то советник из МИДа – у него шансы нулевые. Если я сойду, новых поздно выдвигать, прошли сроки, тогда, глядишь, мужичок-то и одолеет мидовца, пролезет в депутаты.
– А взамен, стало быть, всё, что ты говорил? – Никифоров тоже решил быть холодным и ясным.
– Так, – подтвердил Джига.
– И что ты надумал?
– Снять кандидатуру. Как только он выполнит. Никифоров вспомнил собрание, на котором Джигу выдвинули кандидатом в депутаты: переполненный зал, горящие глаза бездельниц из «Регистрационной палаты», отчаянные, как перед смертью, выступления, встречаемые то овациями, то конным топотом, неодобрительным гулом, смешанный с изумлением подъём, охвативший присутствующих, – оказывается, мы не пыль, мы люди, что-то можем, вот он, наш избранник, он думает так же, как мы, он понесёт наши мысли дальше, будет стоять за справедливость, что-то сделает для нас!
С неожиданной стороны вдруг увиделись неистовствующие регистрационно-палатные бездельницы. Прежде у Никифорова уши вянули от их разговоров: о вещичках, косметике, кто где что купил или продал, за сколько, кто где был и – почему-то обязательно – чем там угощали, о болезнях, собаках, кошках, цветах, шитьё, вязанье, моющих средствах, мыле, мебели, сантехнике, о приготовлении пищи – кратко, о мужьях других бездельниц – бесконечно, и лишь иногда – о детях, почти никогда – о прочитанных книгах, вообще никогда – о нематериальном. Обнаружилось, что и им – замужним или разведённым, разъевшимся или измождённым, отупевшим, зациклившимся на домашних делах или иссушающим себя нелепыми занятиями, вроде йоги, гимнастики ушу – и им свойственно чувство собственного достоинства, и они, оказывается, отчётливо представляют, к чему надо стремиться, как жить, и не хотят жить как живут. И вполне возможно, живи они в иных странах, в иных условиях, были бы способны на большее, нежели ежедневно убивать по восемь часов в конторе, стоять в бесконечных очередях, добывать кроссовки и ветчину, ускоренно стареть, тупеть, копить злобу да и выплёскивать её в тех же очередях или дома на мужа и детей.
Никифорова подхватил, понёс ветер единства. Он поддался общему порыву к достоинству и справедливости, аплодировал и топал вместе со всеми, вдруг поверил вопреки всему, что можно, можно ещё изменить жизнь к лучшему, вот изберут своего депутата и…
И… очнулся, как лбом на камень: да депутат-то Джига! Он ли его не знает? И не избавиться было от мысли, что в зале, где все искренни, все в едином порыве, тем не менее творится обман, но обман невидимый, вознесённый на ту горнюю эмоциональную высоту, когда ещё чуть-чуть, самую малость, и он превратится в истину. И истина станет править миром.
Но…
Нет чуть-чуть, нет малости!
Джига несомненно был тогда совершенно искренен. И не знай его Никифоров пятнадцать лет, он бы верил каждому его слову. Да, впрочем, и зная, верил.
Но истины не было. То есть, может, она и была, только Джига не имел к ней никакого отношения.
И потому слёзы, эмоции, порыв, дух единства и справедливости, витающий над залом, всё предстало не просто обманом, а трагедией и фарсом одновременно. И Никифоров был рьяным статистом в этой постановке и зрителем тоже одновременно. Играл и… не верил. И неизвестно, что в большей степени. И лез в голову Грибоедов: «Да умный человек не может быть не плутом. Когда ж об честности высокой говорит, каким-то демоном внушаем: глаза в крови, лицо горит, сам плачет и мы все рыдаем». И что-то совсем горестное: ужели такой вот – у самой истины! – обман и есть русский путь? Как сейчас на этом собрании? До каких пор обречены на такое? Нас ли кто обманывает, сами ли рады обманываться? Или кто нас обманывает, сам обманывается вместе с нами, и уже нет концов и начал? И есть ли вообще для нас в этом мире истина?
С собрания Никифоров ушёл с больной растревоженной душой.
– Неужели власть всегда обман, всегда предательство? – Никифоров забыл про Джигу, не ему задал вопрос.
– Всё пронизано нищетой, – Джига, впрочем, как бы и не услышал вопроса. – На всех собраниях первый интерес: сколько у тебя комнат, какая зарплата? Как услышат, что живу в коммуналке, получаю сто восемьдесят – всё, успех полнейший. Разве только из леса, из шалаша какой-нибудь бомж-отшельник превзойдёт. Ты понимаешь, какое дело, – растерянно произнёс Джига, – нищеты в нашей жизни выше головы, экскаватором не вычерпать. Она – основа всего. В том числе и власти. С прежней всё ясно: воровали, жрали в три горла, да гадили где жрали. Но ведь и новой, законно избранной, головы не поднять. Не даёт вздохнуть, распрямиться проклятая нищета, всё отравляет, любую здравую идею превращает в мерзость. Ну ладно, допустим, изберут. Что впереди, неизвестно, хотя, конечно, известно: или со старой властью мирись, становись таким же, или… борись с ней, да только сколько можно бороться? Ну не может человек всю жизнь бороться! Хочется же и сделать что-то. А что сделаешь? За спиной – океан нищеты, голодные волчьи глаза. Впереди – сплочённая, циничная сволочь, не умеющая ничего, кроме как жрать, гадить и удерживать власть. Она же в случае чего против меня тех, кто меня избрал, и использует. Квартиру получу – ах он, подлец, вот для чего лез в депутаты! Перейду со ста восьмидесяти на четыреста – отозвать продажного гада! А как же иначе? За нищету избрали, и нет ничего в головах, кроме нищеты и ненависти. Богатыми – да, конечно, хотят, но чтоб всем сразу и без труда. С неба. А что всем сразу никак, это не укладывается. Нищих большинство. И они каждый раз будут пожирать меньшинство, призывающее их к работе. Пока не начнут подыхать от голода! Как же эти идиоты наверху не понимают, что не вонь надо пускать в газетах, хороша или плоха частная собственность, а вводить её, вводить, как картофель при Екатерине! И у каждого частного дома, на каждом поле, возле каждой фабричонки ставить солдата с автоматом, чтобы стрелял, стрелял в нищую покушающуюся сволочь! Только тогда что-то… Бог даст, лет через двадцать. Или голод, нищета, смерть и словоблудие о социальной справедливости, или нормальная жизнь и труд! Третьего пути нет, не придумало человечество. Так куда мне с такой программой? Когда всем плевать на программы, главное, чтоб был нищ и сладко пел, как все разом хорошо заживём, вот отнимем у ЦК пайки и дачи, и заживём… А работать не будем, зачем нам в такой великой стране работать? Но и богатеть никому не дадим! Ты не поверишь, – вдруг расхохотался Джига, – ещё не избрали, а шагу ступить не могу! Хотел вот кожаное пальто купить. Ребята из моей группы: вы что, нельзя, непременно спросят, откуда у вас две тысячи, да накануне выборов? Ну смешно же! Разве дадут они мне что-нибудь для них же сделать? Нет, будут следить, в каком я хожу пальто. Никогда не дадут. Так на кой хрен мне это депутатство? Пусть горкомовец депутатствует, – Джига лихо допил водку, пробежал холодным серым взглядом по столу, но не было на столе разносолов.
– Хлебом закуси, – посоветовал Никифоров, – хлеб пока свободно берём.
Джига и закусил, предварительно посыпав горбушку солью. Он был демократичен, как крокодил. Не обижался, когда посылали через весь стол матом, заедал им же принесённую водяру горбушкой с солью. «Вот что значит нерусский человек», – с некоторым даже уважением посмотрел на него Никифоров.
Решение Джиги отказаться от депутатства вызвало в Никифорове двойственные чувства. Горечь от того, что обман подтвердился, боль за людей, поверивших Джиге, мимолётную скорбь за в очередной раз предаваемую Россию. И – тихонькое, подленькое удовлетворение, что не быть Джиге всенародно известным, не греметь с телеэкрана, не мелькать в газетах, не скажет Никифорову Татьяна: «И этот дебил уже заседает, один ты в говне!» Как-то даже симпатичен сделался Никифорову отказавшийся от депутатства Джига. Никифоров вспомнил про домашний ликёр. Но Джига от ликёра отказался.
– Я всё взвесил, – заявил он. – В случае депутатства я не приобретаю ничего, кроме пустых хлопот, невозможности что-либо сделать, тысяч голодных глаз в спину. А тут – особняк рядом с Кремлём, собственная организация, почти никакой работы, одним словом, неограниченные возможности. И транспорт. А что сейчас машина? – И сам же ответил: – Это три тысячи в месяц, если с умом! Начнём с машины, а там посмотрим, идей много.
– Новенькая «Волга» – это серьёзно, – согласился Никифоров, – только разве ты можешь водить?
– Конечно, не так, как ты, – усмехнулся Джига, – но правишки есть. Буду совершенствоваться под твоим руководством. Ну так как?
– Что как?
– Согласен?
– Шофёром?
– Плохо ты обо мне думаешь, – обиделся Джига. – Придумаем что-нибудь. Скажем, начальником отдела. А шофёром – в той же степени, что и я. Будем, так сказать, сменщиками-напарниками.
– Но это же абсурд! – воскликнул Никифоров. – Ты выходишь в начальники. Государство выделяет тебе служебную машину, чтобы ты, значит, ездил по государственным делам, а ты собираешься… возить за деньги всякую сволочь… Нет логики.
– Нет логики? – усмехнулся Джига. – А в колхозах есть логика? Шестьдесят лет не могут накормить народ, а существуют. В нашей жизни вообще нет логики. Мы живём в мире, который в принципе не должен существовать. Есть, конечно, и что-то реальное, но как кочки среди болота, островки среди океана. Возить за деньги, увы, реально! А прочее – наша контора, соцсоревнование, регистрационная деятельность, государственные дела, по которым я якобы должен ездить, – воздух, абсурд! Ты прав, логики нет. Вернее, есть логика абсурда. По ней и живём.
Джига ушёл, когда в разбросанных по пустырю домах-близнецах осталось всего по несколько приглушённо горящих окон. В одном – укладывали младенца, в другом – сочиняли никому не нужную диссертацию, а может, гневную публицистическую статью, в третьем – выясняли отношения, в четвёртом – возможно, составляли план какого-нибудь преступления. «А что, интересно, было в моём окне? – подумал Никифоров. И с каким-то даже испугом: – А ничего! Выпивали, всего лишь выпивали!» Только не отделаться было от противной мысли, что Джига-то, может, и выпивал, Джига всё для себя давно в жизни решил, а вот он, Никифоров, не просто выпивал, но и… соучаствовал в чём-то таком… А точнее, в том самом предательстве России, повсеместность которого Никифоров столь остро ощущал, но винил кого угодно, только не себя. Предавали другие. Власть. А Никифоров… Кто он, что с него взять? Но, оказывается, можно и с него. За прибавку к жалованью, за обещание дать подзаработать на чёрной «Волге». Никифоров давно привык к смутной тоске по истине. Как и к ясному осознанию того, что в жизни истины нет. То был персональный Бермудский треугольник, который Никифоров носил в своей душе. Самые горькие откровения, сомнения исчезали в нём бесследно. Никифоров подозревал, что подобный треугольник существует в душе каждого советского человека. Иначе попросту не выжить. Как выжить, когда выбирать можно только между тоской и бессильной злобой? Сейчас, после ухода Джиги, определённо было больше тоски.
Обычно, стоило Никифорову лечь в постель хоть на минуту позже Татьяны, она уже спала, или делала вид, что спала, так как не очень-то рвалась исполнять супружеские обязанности, отлынивала как только могла. «Давай-ка, дружок, отвыкай!» – сказала она однажды Никифорову. «Почему?» – удивился он. «Видишь ли, – объяснила Татьяна, – наша жизнь настолько чудовищна, что все попытки извлечь из неё удовольствие смехотворны и бессмысленны. Когда вся жизнь не доставляет ни малейшего удовольствия, его не может доставить ничто!»
А тут вдруг выставилась с подушки на выпрыгивающего в темноте из перекрученной брючины Никифорова:
– Чего он приезжал? Подговаривал что-нибудь украсть?
– Украсть? – Никифоров наконец вырвался из брючины, заторопился, не веря своему счастью: надо же, не спит! – Что украсть? Почему… – Пуговицы на рукавах рубашки влипли в запястья. Никифоров одну с трудом расстегнул, другая выстрелила, улетела, как пуля, в темноту, покатилась по полу.
– Зачем же этот гад приезжал? Не верю, что просто так. Наверняка задумал какую-нибудь мерзость.
– Да нет, у нас там намечается кое-какая реорганизация, вот он и…
– Смотри, Никифоров, – Татьяна почему-то до сих пор называла его по фамилии, как в армии, – не соглашайся воровать! В жизни ведь как? Украдёшь на копейку, а у тебя потом на тыщу. Хорошо, если не убьют.
– У меня? Да что у меня красть? И… кто украдёт?
– Не знаю, – ответила из темноты Татьяна. – Найдут что. Что-нибудь такое, что тебе в голову не придёт.
Секунда минула с этой фразы. Разгорячённый Никифоров ворвался в кровать, но руки Татьяны пионерски лежали поверх одеяла, а сама она спала так крепко, что сказочная спящая царевна показалась бы рядом с ней жалкой притворщицей.
3
А между тем сумерки сгустились настолько, что впору было зажигать лампу на столе. Но Никифоров не собирался дочитывать детектив. Иной же работы в конторе у него попросту не было.
Как поначалу не было её ни у кого в самостоятельном третьем управлении расформированной «Регистрационной палаты».
У немногих ветеранок, знавших Джигу по прежнему совместному ничтожеству, взятых им сюда за собачью преданность.
У новых, похожих на манекенщиц, молодых ногастых особ, каких-то заторможенно-распущенных, ходящих на работу по скользящему, одному им ведомому графику. У Никифорова было ощущение, что они приходят сюда отсыпаться после неправедно проведённых ночей, расслабляться, восстанавливаться, прихлёбывать из длинных стаканов невиданные простыми советскими смертными напитки, зевать накрашенными лягушачьими ртами, шелестеть небрежно фантастическими немецкими магазинными каталогами.
Почему-то девицы эти постоянно находились в процессе переодевания. То менялись между собой, то примеряли принесённое в больших спортивных сумках другими.
Чаще других приносил некий Серёжа, солидный седой мужчина за пятьдесят, одевающийся, как бывший олимпийский чемпион, не спившийся, как многие олимпийские чемпионы, а удачно осевший на выездной должности в спорткомитете. Серёжа, как стало известно Никифорову, работал в основном с финнами, знал язык. Никифоров не раз слышал, как бойко болтал Серёжа по-фински по телефону. «В институте выучил?» – поинтересовался у того. «Да нет, – засмущался Серёжа, – по ходу дела, так сказать…» Народ талантлив, подумал тогда Никифоров, сам чрезвычайно тупой к чужим языкам. Цены у Серёжи были умопомрачительные. Девицы ругались, но брали. Серёжа почти никогда не сбавлял. Исключение делал, только когда отсчитывали новенькими купюрами и, допустим, не докладывали одну двадцатипяти– или пятидесятирублевку. «Ну что с тобой делать?» – укоризненно качал головой Серёжа. Вид денег, в особенности новых – старых, захватанных нет – действовал на Серёжу умиротворяюще. «И ведь знаю, что хлам, туалетная бумага, – вздыхал он, – а приятно, когда нелапаные…» Девицы тут же прямо при Серёже, а случалось и при Никифорове, примеряли, не стесняясь, раздевались до нижнего белья. Видимо, не считали их за полноценных мужчин, а может, вообще не знали стыда. «Слушай, а кто этот Серёжа?» – спросил Никифоров у Джиги, не в силах поверить, что почтеннейший, неторопливый, начитанный Серёжа всего лишь заурядный фарцовщик. «А работает в горисполкоме, – ответил Джига, – в отделе культуры, кажется. Ты попроси, он тебе достанет билеты в театр. Дать телефон?»
Больше Никифоров ничему не удивлялся.
Даже когда однажды из опорожняемой Серёжиной сумки вдруг выкатились на стол расписные деревянные яйца, какие продают умельцы на рынках под Пасху. Одно – размером со страусиное – грозно покатилось на Никифорова, проходившего случайно мимо стола. «Ну да, конечно, толкает финнам за марки», – поймал Никифоров яйцо, собрался было бросить, как мяч, Серёже, но что-то остановило. Никифоров рассмотрел яйцо повнимательнее. На фоне многоэтажной, почему-то с одним-единственным куполом, с зарешечёнными на исправительный манер окнами, церкви в ярко-красном халате с большими пуговицами была изображена, как явствовало из витиеватой псевдославянской надписи внизу, «богоматерь-мадонна»… без младенца Иисуса! Черты лица «богоматери-мадонны» были смазанными, как это обычно происходит с лицами сильно пьющих женщин, а многоэтажная зарешечённая церковь ну точно походила если не на тюрьму, то на ЛТП или спецбольницу, из которой «богоматерь-мадонна» благополучно выбралась в мир, оставив на попечение ненавидящему сирот государству дефективного или нормального, не суть важно, совершенно не нужного ей младенца Иисуса. И если в фарцовщике – работнике исполкома (в конце концов чем отличается исполком от других организаций, где числятся или работают фарцовщики?) – в общем-то, не было ничего особенного, то тюремно-пьяная мадонна без младенца наводила на мысли о совсем уж бездонной пропасти, пред которой слабел разум и опускались руки. А может, просто один какой-то нетипичный пакостник размалевал бездумно деревяшку, и нечего было по нему обобщать!
С ветеранками, первоначально благостно коротавшими дни за вязанием, плетением ковриков, разгадыванием кроссвордов, Никифоров поддерживал добрые отношения.
С новоизбранными девицами, хоть и были среди них настоящие красавицы, вообще никакие отношения не устанавливались. Они казались Никифорову пришелицами с Луны, он не был уверен, разберут ли они его речь, если он заговорит о чём-то отвлечённом, как это обычно бывает, когда мужчина намерен поухаживать за женщиной. Сам Никифоров понимал их разговоры далеко не всегда. Вроде бы они тоже говорили по-русски, но целые смысловые пласты ускользали от Никифорова не столько даже из-за обилия жаргонных словечек, сколько из-за того, что отличным было мировоззрение девиц, их фундаментальный, так сказать, взгляд на жизнь. Слова, бывшие для Никифорова просто словами, обладавшими определённым конкретным содержанием, для девиц одновременно являлись символами, за которыми скрывались какие-то особенные, известные им и их кругу понятия, быть может даже не имевшие чёткого словесного выражения. Суть отличия, впрочем, была Никифорову ясна. Если его пока ещё что-то в жизни сдерживало, через что-то он не мог преступить, а что-то, напротив, делал не задумываясь, скажем, брал под руку вступающего на эскалатор слепого, помогал подняться упавшему, одним словом, некая первичная нравственность на уровне заповеди «не убий» и частично «не укради» была ему присуща, девицы уже существовали в иную – пока ещё параллельную, но неуклонно вытесняющую никифоровскую, эпоху: после нравственности. Житейски же одним из проявлений этого было то, что девицы в принципе не считали за человека мужчину, или за мужчину человека, не имеющего долларов, не связанного с заграницей, не обладающего доступом к дефициту. Никифоров и девицы были безнадёжно разделены самым унизительным и циничным из всех – долларовым – апартеидом.
«Зато и преодолимым, – возразил Джига, когда Никифоров поделился с ним этими мыслями, – вот проведём конкурс красоты «Мисс Регистратор», будут доллары!»
Из этого, вероятно, следовало, что при наличии долларов статус Никифорова изменится, однако другое занимало Никифорова: что же за мерзость эти доллары, в какой свинячий хлев превращается из-за них всё вокруг и отчего первыми дорываются до них наиболее подлые и недостойные? И дальше: каким, интересно, образом будет с помощью долларов, марок или франков модернизирована экономика, когда при одной мысли о них люди скотинятся и зверятся? Это было всё равно что дать больному сильнейший наркотик и надеяться, что по окончании действия тот не заколотится в мучительнейшей «ломке», не потребует с ножом к горлу ещё, а отправится бодро трудиться на благо страны.
«Не доллары виноваты, а люди! – наверняка не согласился бы Джига. – Другого пути поднять экономику нет, хоть умри!»
Вполне возможно, что так оно и было. Чего-то тут Никифоров не понимал. Отупел, отстал от жизни. Но он никак не мог преодолеть мистического страха перед проклятыми долларами, хотя бы уже потому, что люди из-за них шли на совершенно дикие унижения и преступления, на которые вряд ли пошли бы из-за родных советских рублей.
Джига, впрочем, истолковал сомнения Никифорова по-своему.
«Ну чего ты ходишь облизываешься? – спросил он. – В конце концов эти девочки мне кое-чем обязаны. Какая понравилась? Машка? Кристина?»
«Сдурел?» – испугался Никифоров. Если бы он сказал Джиге, что не пристало тому выступать в роли сутенёра, Джига бы не понял. Если бы: что как ни странно, дико, нелепо это звучит, но он по сию пору, на тринадцатом году со дня свадьбы, любит собственную жену и, что совсем непостижимо, с каждым годом любит больше и больше, сохранять верность для него легко и просто, а изменять – творить над собой насилие, Джига бы не понял. Поэтому Никифоров ответил коротко: «СПИД».
«Определённый риск есть, – согласился Джига, – тут без риска никак. Но ведь человечество придумало презервативы. За отечественные не буду говорить, а иностранные вполне надёжны».
«Презервативы не дают стопроцентной гарантии», – возразил Никифоров, чтобы покончить с этой темой.
Но Джига покончил с ней по-своему.
«Такая ли уж ценность наша жизнь, – спросил он, – чтобы бояться СПИДа?»
«Наша жизнь, конечно, нет, – ответил Никифоров, – да больно омерзителен этот СПИД».
«Разве страдание может быть омерзительным?» – удивился Джига.
«Страдание, вероятно, нет, – ответил Никифоров, – омерзительно, что, растянуто подыхая, вынужден побуждать окружающих к жалости, не испытывая к ним ничего, кроме ненависти, что все они делали то же, что и ты, но ты почему-то подыхаешь, а они почему-то остаются жить».
«Это не по-христиански», – поморщился Джига.
«Так ведь и Христова эра, поди, закончилась».
«Не скажи, – неожиданно вступился за Христа Джига, – так много раз было. Как чаша терпения на небесах переполнится, как только наказание за грехи, так сразу: Христова эра закончилась! Дьявол, Антихрист правят миром! Значит, как безнаказанно грешить, так Христова эра? А как расплачиваться за грехи, сразу Антихристова?»
«А по-твоему, – с каким-то даже уважением посмотрел на Джигу Никифоров, – миром всё ещё правит Бог?»
«Конечно. Кто же ещё?»
«Миром правит Бог, а ты воруешь?»
«Именно так, – подтвердил Джига, – миром правит Бог, а я ворую».
«В таком случае, – пожал плечами Никифоров, – наш спор не по существу. Мы просто запутались в терминах».
«Именно! – радостно закричал Джига. – Вся так называемая философия, всё развитие человеческой мысли – всего лишь тысячелетний спор о терминах! Тогда как суть неизменна: Бог правит миром, а я ворую!»
Никифоров, помнится, подумал, что Джига сошёл с ума от безделья.
Но закончилось безделье в «Регистрационной палате».
На сонных длинноногих девок, как шмели на мёд, налетели фотографы – свои и иностранные.
Несколько комнат в особняке незаметно превратились в настоящие фотоателье. Туда принесли какие-то лестницы, установили осветительную аппаратуру. В зависимости от платёжеспособности фотографов сооружали то прямо-таки царские, малахитово-меховые, то поскромнее, со спортивными снарядами, цветочками интерьеры. Из-за притворённых дверей доносились автоматные щелчки фотоаппаратов, торопливая иностранная речь, гнусаво-тягучие вопросы девиц: «Тру-усы снима-ать?», «Но-огу ку-уда?», «Гру-удь пока-азывать?»
В самую светлую и просторную комнату на втором этаже въехал некий Дерек, представитель голландской, что ли, фирмы, похожий на студента улыбчивый молодой человек в очках. Примерно месяц Дерек довольствовался одним лишь письменным столом. Потом к крыльцу особняка, перепугав кладовщиков склада завода электромоторов, подполз длинный яркий трейлер. Из него весь день носили наверх ящики.
Наутро Никифоров не узнал спартанскую комнату Дерека. На двери появились светящаяся табличка с названием фирмы, электронный кнопочный замок с микрофоном. Сама комната оказалась перегороженной затемнённого стекла раздвижной стенкой. В первой половине комнаты объявилась секретарша – самая красивая из новоизбранных девиц – уже и непохожая на себя: в белой блузке, строгом чёрном костюме за литым столом с пятью, наверное, кнопочными телефонами, с как бы вырастающей из стола – такого же цвета – бесшумной пишущей машинкой, влепленным в стол же компьютером, за которым она вполне осмысленно что-то делала. В оставшейся половине комнаты, где разместился сам Дерек, техники оказалось ещё больше. Ксероксы, телексы, факсы, интертайпы, непрерывно выплёвывающие густоиспечатанную бумажную ленту, мигающие, неизвестно что показывающие дисплеи. У Никифорова отпали всякие сомнения: Дерек – шпион, резидент!
Но Дерек не был шпионом.
А если был, то легальным, долгожданным, желанным. В тот же вечер Дерек устроил приём по случаю открытия своего офиса. Пространство перед особняком заняли разноцветные иностранные и чёрные советские машины. «Чаек» было больше, чем «Волг». Судя по розовым холёным лицам, икорно рокочущим голосам, поднимающиеся на второй этаж солидные дяди тянули никак не меньше, чем на замминистров. От «Регистрационной палаты», организации, сдавшей Дереку в аренду помещение, на приёме присутствовали: Джига, Никифоров да штук семь девиц, разносящих на подносах напитки. Там-то Никифоров и установил доподлинно, что Дерек возглавляет бюро научно-технической информации.








