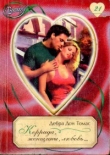Текст книги "Одиночество вещей"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Охраняй что-нибудь одно, старик, – вдруг чужим, взрослым голосом посоветовал Леон. – А так и Ленина измажут и церковь растащат. За двумя зайцами погонишься… – смолк, как подавился: везде, везде Зайцы!
Смертный свет качнулся вверх, свиная голова со знамени над бывшим райкомом-горкомом явила свой ночной (истинный?) кабаний клыкастый лик.
– Что? Что выбрать-то одно? – Леон услышал в голосе сторожа собственные тоску и смуту. – Подскажи, мил человек, ты должен знать.
– Я? – изумился Леон. – Откуда мне знать?
– Ты, – подтвердил сторож. – Кроме тебя, некому. За тобой пойдём.
Леон догадался, что ровная асфальтовая площадь, полуцерковь, бывший райком-горком, истукан в ортопедических ботинках и в лунной кепке, слепящий белый смертный свет, сторож со скреплённой проволокой мелкашкой (человек с ружьём) и странными вопросами – это театр, сцена.
Замысел режиссёра не понравился Леону.
Леон опустил руку в карман. Под складнем, которым он собирался устращать педерастов, нащупал монету. Извлёк на свет Божий. То оказалась датская монета в двадцать крон с дыркой посередине. «С дыркой, – усмехнулся про себя Леон, – а всё купишь. Рубль без дырки, а не купишь ничего!» Сунул монету под нос сторожу.
– Не наша, – уважительно засвидетельствовал тот. – Сверлёная.
– Вот сейчас выберем, – как заядлый напёрсточник, подмигнул сторожу Леон, – Ленин или церковь? Решка – Ленин, орёл – церковь. Или Ленин орёл? – Положил монету на ноготь большого пальца, выстрелил вверх.
Режиссёр не одобрил Леоновой самодеятельности.
Белый свет залил площадь, как убежавшее из кастрюли молоко. Туда – в молоко – бесследно упорхнула конвертируемая монета. Леон и сторож долго ползали по асфальту, бормоча: «Ленин орёл, церковь решка, Ленин, Ленин, орёл, орёл…»
Но не могли отыскать.
Конец поискам положили вакуумный свист тормозов, мощный моторный гул. Новенький, последней модификации, как будто и не венгерский, «Икарус» (это он светил фарами), дыша металлом и бензином, остановился на площади.
– Служивые! – донеслось из кабины водителя. – Объезд налево или направо?
– Направо езжай, – посоветовал сторож, – Октябрьскую перекопали. У почты свернёшь, и на шоссе.
– Куда автобус? – подскочил Леон.
– В Москву, – буднично ответствовал водитель из прекрасного и высокого кабинного далека.
– Стой! – не веря своему счастью, завопил Леон. – Возьми меня до Москвы! – Как рак клешнёй, с намерением не разжимать, вцепился рукой в нагретую ручку двери.
Дверь зашипела, как гюрза, мягко открылась. Внутри было прохладно – работал кондиционер. И темно. Автобус был заполнен спящими пассажирами едва ли наполовину.
– Деньги есть? – зевнул водитель.
– Есть, – душа в голосе ликование, ответил Леон. – И ученический билет. Мне за полцены.
– Отменено за полцены, – хмыкнул водитель. – Ишь ты, шустряк! Или по полной, или…
– За две трети! – поднялся по выдвинувшимся из двери ступенькам Леон.
– В Москву, значит, уезжаете? – отстранённо и вежливо полюбопытствовал сторож.
– В Москву, в Москву, – всё ещё не веря, подтвердил Леон. – Как чеховская сестра. – И только тут вспомнил: – Как же с монетой, старик?
– А отыщу, – ухмыльнулся сторож. – Куда мне спешить? Отыщу сверлёную.
– Может, и отыщешь, да только я не узнаю.
– Узнаешь, барин, – странно как-то ответил сторож. – А только я запамятовал: Ленин орёл или решка?
Дверь-гюрза зашипела, закрываясь, разделяя театральным звуконепроницаемым занавесом сторожа и Леона.
– Я – Калабухова Аня, мне пять лет, я не мочусь! – гордо заявила Леону утром с соседнего сиденья крохотная девочка с развязавшимся на голове бантом.
Автобус катил по пустынной автостраде. Утреннее солнце, чистое небо, быстрое движение вселяли надежду. Не так уж плох, в сущности, был мир, если в нём пока ещё существовали автострады, всходило солнце и из одного города в другой можно было добраться на автобусе.
Рядом с девочкой на сиденье помещалась небольшая сумочка. А вот присматривающих взрослых Леон что-то не приметил. Калабухова Аня болтала ногами и явно была не прочь побеседовать.
– Не может такого быть, – Леон не знал, как отнестись к услышанному, поэтому решил стоять на очевидном.
– Только в горшок, – уточнила Калабухова Аня. – Кто мочится не в горшок, воспитательница наказывает. А горшок, – добавила со значением, – сама выношу!
Леону оставалось только восхищённо всплеснуть руками.
– С кем ты едешь, Аня? – Он решил, что прежняя тема исчерпана.
– Одна.
– Одна?
– Бабушка проводила, – объяснила Аня, – мама встретит и, – зевнула, – в общагу.
– В какую общагу?
– На Володарку.
– Володарка – это что?
– А завод, – охотно объяснила Аня, – чулочный завод – володарка. Ты спал, – с превосходством посмотрела на Леона, – а я на остановке ходила в туалет мочиться. Теперь только в общаге буду мочиться.
На них прикрикнули, что мешают спать.
– Кто громко говорит, воспитательница тоже наказывает, – прошептала Аня, – бьёт зайцем.
Леон закрыл глаза, припоминая, есть ли у него ключ от квартиры? Кто откроет дверь, если мать стоит с утра в банковской очереди, а отец в поте лица превращает новые машины в старые? Лень было искать в рюкзаке. Леон сам не заметил, как сладенько задремал.
Когда открыл глаза, автобус мчался по Москве. Аня Калабухова с сумкой на коленях сидела рядом.
Едва она успела достать из сумки микроскопическую куколку, водитель резко затормозил. Автобус завизжал, продолжая движение вперёд и одновременно разворачиваясь вокруг собственной оси. Аня, как листочек от порыва ветра, прилепилась к спинке переднего сиденья. Леона тяжёлым невидимым пластырем притиснуло к окну. Причиной экстренного торможения явился вставший посреди проезжей части бронетранспортёр. Один военный в пятнистой форме сидел за пулемётом, наведя дуло на автобус. Другой, положив руку на автомат, медленно приближался к автобусу, к поспешно открываемой водителем двери.
Чем ближе приближался парень с автоматом, тем он меньше нравился Леону.
У парня было хорошее открытое русское лицо, но слишком уж нравилось ему идти с автоматом на безоружных пассажиров, слишком уж картинно-театрально он шёл, вооружённый на безоружных.
Леон подумал, что где вооружённые и безоружные в мирное время, там и театр, причём такой, в котором актёры с головокружительной быстротой меняются ролями.
Но парень, похоже, пока этого не знал. Он был молодым актёром. А потому приближался, как если бы всю жизнь собирался ходить с автоматом среди безоружных.
– Откуда? – Для начала крепко въехал водителю дулом в нос.
– Рейсовый из Нелидова. А что…
– Выходи, мразь! – рявкнул парень.
Леон изумился: какая, в сущности, мелочь, рейсовый автобус из Нелидова, способна разъярить человека с автоматом.
– В Москве движения нет! – Парень поймал водителя за воротник, вышвырнул его, слабо сучащего ногами, на асфальт, попинал для острастки крепкими чёрными ботинками. – Приготовить документы! – Но посмотрев на притихших баб, на широко распахнувшую на него глаза Калабухову Аню, на зашедшегося махорочным кашлем деда с мешком на коленях (не иначе как брата-близнеца сторожа), махнул рукой: – Освободить автобус!
– Извините, – громко полюбопытствовал в тишине Леон, – почему это в Москве движения нет? Кто отменил? Тут маленькая девочка, её должна встретить на автовокзале мать. Куда с ней?
– Что? – растерялся от невообразимой наглости Леона парень. – Сволочь! Ещё спрашивает! Да я всё ваше Нелидово!
– Поактивнее, поактивнее, граждане, – заглянул в автобус пожилой, тоже в пятнистой форме, но с брюхом. Такого трудно было представить летящим с парашютом на голову врагу. – В Москве чрезвычайное положение. Багаж проверим, и сможете забрать. Спиртное к ввозу в Москву запрещено. У кого есть, лучше сразу сдайте. Ни у кого нет? Неужели никто не везёт в Москву спиртное? В случае неподчинения, – вдруг широко, с хрустом в челюстях, зевнул, – военные патрули стреляют без предупреждения, учтите, граждане.
– Куда девочку? Её должна встретить на автовокзале мать! – крикнул Леон.
– Не до девочек сейчас, – ответил пожилой. – Правительство позаботится.
Леон полез в рюкзак за транзистором, привезённым в счастливые невозвратные годы отцом из Парижа. Должны же передавать новости! Если не наши, то Би-Би-Си.
Он и глазом не успел моргнуть, как молодой с автоматом, словно репку из земли, вырвал у него рюкзак.
– Хочу достать транзистор! – крикнул Леон. – Радио слушать тоже запрещено?
Молодой быстро и сноровисто (не иначе как служил раньше таможенником или тюремным надзирателем) обшарил рюкзак. Задумчиво уставился на потёртый транзистор.
– Барахло, Баранов, – подошёл пожилой. – Гонконговский «Филипс» семьдесят седьмого года. К нему нужен адаптер. Бери Кондзюлиса, Рахимбаева, дуйте в коммерческий на Чернышевского. Пошарьте там. Если из третьего гвардейского ещё там не побывали. Живее, живее, граждане!
Жарко, безветренно было в Москве в это июльское утро. Листья досрочно сгорели на деревьях, устлали асфальт. В воздухе пахло дымом. Стёкла на первых этажах были сплошь повыбиты.
«РОССИЯ – МАТЬ ПРАВА!» – протянулся по первой же стене странный, но понравившийся Леону лозунг. Только не очень было понятно: или Россия-мать права без уточнения, в чём именно (всегда и во всём права, и всё тут!), или же Россия-мать объявлялась матерью права в том смысле, как понимали право древние римляне, то есть Россия объявлялась страной, где подразумевалось неукоснительно соблюдение законов. Лозунг был хорош в обоих прочтениях. Хотя второе скорее выдавало желаемое за действительное. Ну да, собственно, для того, чтобы подвигнуть жизнь от действительного к желаемому, и пишутся лозунги.
«РОССИЯ – ОПЛОТ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ!» Сразу за первым тянулся другой лозунг, вне всяких сомнений, понравившийся бы дяде Пете. Этот лозунг тоже в известной мере опережал жизнь, но был неплох, как новые крепкие штаны на вырост.
«РОССИЯ – МАТЬ ВЕРЫ!» И этот лозунг лёг на сердце Леону. Он подумал, что, пока находился в Зайцах, в Москве кое-что изменилось. Во всяком случае, появились люди, сочиняющие приличные лозунги.
Что-то мягкое, влажное ткнулось в ладонь. Это Калабухова Аня вложила в ладонь Леона крохотную свою ладошку.
– Я боюсь, – сообщила Аня. – Это не наша улица, не володаркина общага.
Бросить Калабухову Аню было всё равно что не открыть на ночь клеточные двери кроликам, побрезговать блудными франками Платины, не похоронить по православному обряду дядю Петю. Если бы Леон оставил посреди улицы Калабухову Аню, доверительные отношения между ним и Господом его немедленно бы прекратились. Господу было свойственно мимолётное эпизодическое великодушие, и того же он, похоже, требовал от своих любимцев.
– Идём, – сказал Леон. – Увидишь дядю с ружьём, прячься за меня. Отыщем с Божьей помощью володаркину общагу.
Они двинулись по разорённой улице Чернышевского. Хрустящее под ногами стекло почему-то наводило на глупейшую мысль о хрястнутом об асфальт пенсне знаменитого революционного демократа. Бочком прокрался некто с выглядывающим из-под полы топориком, видимо откликнувшийся на известный призыв к топору.
В тонированные стёкла коммерческого магазина «Орион», любопытствуя, въехал бронетранспортёр, да и не выехал. Магазина, собственно, как такового, не было. Среди тёмных и прозрачных осколков, сухих листьев, ярких этикеток и прочих бумажек валялся разодранный, никому не доставшийся бюстгальтер. Тут же благоухала лужица, образовавшаяся после разбития бутылки итальянского миндального ликёра. Сизый, с лицом ежа, алкаш на коленях лбом вперёд не молился Аллаху, но, избегая осколков, схлёбывал ликёр с асфальта. Прохожие смотрели на него не столько с осуждением, сколько с сожалением, что сами не могут последовать его примеру. Главным образом из-за того, что буквально на глазах иссякала миндальная лужица. Слишком быстро схлёбывал ликёр сизый «ёж».
– В двадцатом гастрономе в подсобке, – произнёс кто-то безнадёжным треснутым голосом, – двести ящиков водяры и масло.
Ему не поверили. Не тому, естественно, что в подсобке водка и масло, а что сейчас хоть что-то осталось.
На Леона и Калабухову Аню никто внимания не обращал. Вообще на лицах немногих, неподчинившихся неизвестно откуда лающему радиоголосу, требовавшему разойтись по домам и не выходить до особого распоряжения, прохожих читалось разочарование.
Их обманули.
Коммерческие магазины были реквизированы пятнистыми автоматчиками по праву сильного. В продуктовых и прочих – пустота, как в обычные дни. Тут ещё понаехали автобусы с милиционерами, рассыпчато разбегающимися во все стороны с чёрным дубьём наперевес. Уже какого-то не в добрый час сунувшегося в разбитую витрину щетинистого хачика охаживали резиной по балде.
Нигде – от угла улицы Чернышевского до площади Ногина (или уже не Ногина? Леон не знал, как теперь называется площадь, равно как и кто был этот, как близнец похожий на Свердлова, если верить бюсту в метро, Ногин?) – не приметил Леон проявлений политической активности масс. Ни агитаторов-горланов-главарей, ни колонн демонстрантов, ни даже черносотенцев-бандитов-охотнорядцев, которые, если верить учебникам истории и демократическим ораторам, неизменно выползают на улицы в смутные часы истории, когда слабеет власть. Столь приглянувшиеся Леону лозунги предстали слоном на паутинных ногах с известной картины Дали. То есть, хоть и были написаны на стене, ровным счётом ничего не значили.
Похоже, беспорядки (бунт, мятеж, вооружённое восстание, революция, что?) застали народ врасплох.
Леон понял, что оказался свидетелем хоть и карикатурных, но исторических событий. Но на нём висела отбившаяся от володаркиной общаги маленькая Калабухова Аня. Леон был скован и замедлен в своих действиях. Не поспевал за историей.
Между тем ближе к площади Ногина (или как она сейчас там?) исторические события разворачивались во всей своей непреложности. Горло площади стягивали пятнистые – с короткими автоматами и ножами на поясе – солдаты, милиционеры, бронетранспортёры, даже новенькая зелёная пушечка торчала трубчатой костью в горле площади.
Леону хотелось туда.
Пока ещё было можно.
И он бы несомненно успел, если бы не Калабухова Аня, до которой вдруг дошло, что она не в Нелидове у бабушки, не в володаркиной общаге у матери, даже не в автобусе, а неизвестно где, неизвестно с кем. Она закричала с таким ужасом и так громко, что Леон решил, шальная пуля, не иначе, сразила маленькую Калабухову Аню.
У пробегавшего мимо пятнистого солдата дрогнуло сердце. Он ловко поддел Леона кованым ботинком. Леон рухнул на асфальт.
– Чего обижаешь ребёнка, вошь? – крикнул солдат.
– Не обижаю! Она сама! Нас из автобуса высадили! Хочешь, сам веди её домой, она адрес знает! – Чувство оскорблённой справедливости сделало Леона бесстрашным.
Но солдат уже был далеко, и получилось, что Леон проорал всё это в никуда.
– Потерявшихся детей сдают в милицию, ведь так? – пробормотал Леон.
Вокруг было полно милиционеров, но ни одному из них невозможно было сдать Аню. Вероятно, милиционеры сейчас хотели, чтобы им сдавались те, против кого их сюда прислали, а не потерявшиеся дети.
– Хочу домой! В общагу! – Серые глаза Ани были в слезах.
Леон почему-то вспомнил Северянина: на серебряной ложке протянутых глаз что-то там тра-та-та тра-та-та. Пообещал: как только откроется метро, они поедут в общагу, общежитие рабочих чулочного завода (фабрики?) имени (ордена?) Володарского.
Но пока что к метро хода не было.
Хода вообще не было никуда. Площадь впереди была закупорена войсками. Сзади по улице энергично двигались подкрепления. Редкие, интересующиеся разбитыми витринами, прохожие, как сквозь асфальт, провалились. Только Леон да повисшая у него на руке Калабухова Аня живыми соринками метались на ветру между сближающимися войсками.
Леон схватил Аню на руки, атлантом вжался в облупленную стену. Пятнистый солдат щадящим ударом приклада вбил его, как гвоздь, во тьму нежилого, как выяснилось, подъезда. «Неужто так сильны бунтовщики? Где они?»– только и успел подумать Леон.
В подъезде остро пахло мочой. Пол был в битых бутылках. Окна наверху зияли. В колодце подъезда, как в мочевой органной трубе, гудел ветер.
– Я боюсь, тут плохо, – прошептала Калабухова Аня.
Действительно, было не очень хорошо.
Леон посмотрел наверх и догадался: то Бог только что примерил полевую пятнистую форму, направил его в подъезд. Вдоль стены вверх, оставляя по центру стол пустой (тут был чёрный ход), как лента, частично без перил, частично с провальчиками, обрывами, торчащей арматурой спирально кружилась лестница, по которой при известной решимости вполне можно было забраться наверх к зияющим, хлещущим органным ветром окнам, откуда площадь представала как на ладони – ладони Господа.
Решимости Леону было не занимать.
– А я? – услышал он голос Калабуховой Ани, когда уже преодолел один пролёт и теперь собирался перебраться по арматуре на следующий.
– А ты…
Уличное пространство за дверью огласилось диким матом. Раздался глухой удар в дверь, матерный же стон, и словно наждачная бумага сверху вниз прошуршала по двери.
Леон вспомнил, что на двери нет ручки, что сам он открыл её нечеловеческим каким-то рывком на себя, просунув пальцы в занозистые замочные скважины. Второй уличный ходок оказался не столь удачлив. Бог ему не помог. Следовательно, нечего было ему делать в подъезде.
Нельзя было оставлять внизу Калабухову Аню.
– Я все слова, какие дядя сказал, знаю, – впервые, как покинули автобус, улыбнулась Аня. – И какие дядя не сказал, знаю.
– А читать? – тупо поинтересовался Леон.
– Читать не-а, – покачала головой Аня. – Буквы в старшей группе учат. Только Ленин могу прочитать.
– Ленин? – удивился Леон.
– Так называется детский сад, – объяснила Аня. – Везде Ленин написано.
– А страна? – спросил Леон. – Страна, где мы живём?
– А володарка-страна, – ответила Аня. – Или… тоже Ленин? – спросила почему-то шёпотом.
Леон опустил руку, поднял Аню наверх. Она была лёгкая и, похоже, не боялась высоты.
– Хочу посмотреть из окна, что там делается, – объяснил Леон. – Посидишь здесь? Постережёшь рюкзак?
Бетонная плита висела в воздухе на арматуре, как свифтовский остров учёных Лапута.
– Знаешь сказку про ковёр-самолёт? – спросил Леон.
– Не-а, – ответила Аня. – Ковёр знаю. У нас ночью в детском саду ковёр украли и кашу. Милиционер приходил.
Леон карабкался по лестнице, по торчащей из стены, как руки грешников из ада, арматуре, перепрыгивая или переползая на брюхе через светящиеся пропасти между ступеньками, то вжимаясь в мокрую, как будто плачущую по этим самым грешникам, стену, то скользя по бесперильному краешку, ощущая смертельное дыхание столба пустоты.
Наконец, в лицо ему ударил солнечный ветер. Леон достиг окна, вернее, пустой рамы.
Тут был широченный, как стол, старинного серого мрамора подоконник. Леон с удобством устроился на нём, подобно римскому патрицию на пиру.
Вот только представление по неизвестной причине задерживалось.
Площадь была пуста. Все ведущие к ней и от неё улицы были, как серо-зелёной паклей, заткнуты войсками, милицией, техникой. То есть ловушку представляла из себя площадь, и судя по тому, что нисколько не таились ловцы, подразумевалось, что зверь (звери?) в загоне. Дело сделано, оставалось лишь ждать, на какой номер выскочит зверь (звери?).
И он вскоре выскочил.
Это был танк.
В единственном числе.
Он выскочил точно на номер, над которым в данный момент в позе римского патриция расположился на сером мраморном ложе Леон.
Калабухова Аня внизу сердито, как детсадовская воспитательница, выговаривала крохотной куколке: «Будешь мочиться… Ленину отдам!»
Танк, вне всяких сомнений, сквозь какую-то засаду уже прорвался. Чёрные клубы дыма в огненно-электрическом потрескивающем абрисе, в летящих искрах поднимались позади него над площадью.
Решительно ничего не знал Леон про танк – кто в нём, за что они, почему? А уже был сердцем и душой на его стороне, потому что танк один шёл против всех. Слишком неравны были силы.
То был извечный гибельный протест, отношение к которому на Руси всегда циклично. Сквозь камни, коими официально побивались протестующие, стремительно прорастала трава любви, которую было не выполоть. Её можно было сравнить с любовью-жалостью (по Достоевскому) к каторжникам и арестантам. Если бы она не становилась яростно-необузданной, случись протестующему по слабости, жалости или недосмотру рефлексирующих властей уцелеть. Колебания властям не прощались. Трава народной любви неизбежно возносила протестующего на высоту власти, где ему оставалось либо сделаться последовательным тираном, тем самым исправив ослабевшую власть, закрепить на свой век народную любовь, либо – вознамерься он править совестливо – по-человечески – быть свергнутым и растоптанным.
Но танк, набезобразивший в центре Москвы, оставивший позади себя чёрные клубы дыма в огненно-электрическом посверкивающем абрисе, в летящих искрах, против которого были задействованы Вооружённые Силы, конечно же, уцелеть не мог. Даже если бы и прорвался сквозь эту (и ещё несколько) засаду. Так что предположения Леона относительно его героизации и последующей тиранизации были не более чем необязательными упражнениями ума.
Единственным желанием сидящих в танке, похоже, было умереть красиво. Иначе чем объяснить, что, покатавшись по площади, танк демонстративно задрал дуло в небо, развернулся боком, встал точно против наведённой на него пушки, возле которой немедленно начались судорожные хлопоты. Судя по тому, что отшвыривали ящик за ящиком, никак не могли подобрать подходящие снаряды.
Леон неотрывно смотрел на замершие стальные гусеницы и думал, что гусеничный транспорт крепко въехал в его жизнь. Сначала на гусеничном ходу отбыли в неизвестном направлении кролики, теперь он сам стремится в танк. Горячие слёзы наполнили глаза Леона. Сквозь слёзы, как сквозь увеличительные стёкла, он ясно увидел, что крышка люка на башне танка открылась.
«Вдруг они за Сталина, за коммунизм?» – ужаснулся Леон.
И ещё более ужаснулся, что и в этом случае он, ненавидящий Сталина и коммунизм, за… танк. Одинокий (коммунистический?) танк был сейчас ему роднее никаких солдат и милиционеров, разгоняющих прохожих прикладами, истеричничающих возле пушки. В танке было достоинство. В них – нет. Мысль Божия предстала нескончаемой и замкнутой, как лента Мёбиуса, стальная гусеница тягача или танка. Кролики отвергли свободу. Бог отправил их на гусеничном ходу в никуда, в независимую Латвию. Леон выбрал (получил от Бога) свободу. Бог предлагает ему отправиться на гусеничном же ходу в… коммунизм? В коммунизм, построенный в отдельно взятом танке.
Это было необъяснимо.
Необъяснимое Леон относил либо на волю Божью, либо на буржуазную лженауку генетику. Неожиданное открытие, что он является носителем коммунизма на генетическом уровне, озадачило Леона. Лишь в той степени привычно взялся он за очередное – без малейшей необходимости – умножение сущностей, в какой «что-то» предпочтительнее «ничто». Русскому человеку невозможно жить в «ничто»! Он задыхается!
Тут на башне танка встал во весь (немаленький, надо отметить) рост светловолосый, в пятнистом комбинезоне человек. Он показался Леону знакомым. Чего никак быть не могло, так как не было у Леона знакомых танкистов.
Новая порция горячих увеличительных слёз подступила к глазам. Леон узнал в стоящем на броне человеке подполковника Валериана из Нелидова, подарившего отцу инфракрасный прицел ночного видения, который Леон не сберёг.
– Снаряды не те? – весело крикнул Валериан. – Кто же ставит против танка пехотную пушечку?
Победительный, уверенный его голос поверг перегородивших улицу в ещё большее смятение. Не так должен был разговаривать смертник. Хотя кто знает, как он должен разговаривать? Несколько коротких стволов неуверенно взяли Валериана на мушку.
– Стреляйте, ребята, сделайте милость, – приглашающе расстегнул верхние пуговицы на комбинезоне Валериан. – Стреляйте в последнего офицера бывшей армии! Я бы мог вас всех здесь намотать на гусеницы, но не могу воевать с соотечественниками. А надо бы! – вдруг добавил устало и буднично. – Потому что те, кто отдаёт вам приказы, воюют. Давно воюют. Не пулями, так ложью, – махнул рукой.
Танк медленно, с Валерианой на броне и с задранным дулом, пошёл на наскоро сделанное заграждение.
В рядах заградителей возникло несогласованное неуставное движение. Их как бы стянуло в ком, внутри кома кого-то ударили, кто-то захрипел, задавленно заматерился, раздались три одиночных выстрела. Две пули ушли в воздух, одна взорвалась синими бенгальскими искрами о броню под ногами Валериана, который и не подумал спуститься с башни.
Солдаты образовали живой коридор, безучастно наблюдая из-под касок, как танк, словно сквозь стог сена, легко прошёл сквозь составленные прицепы, грузовики, только хрустели деревянные кузова, лопались мешки с песком, некоторые почему-то с сахарным, а некоторые с мукой.
– Не верьте, ребята, – обернулся Валериан, когда танк выбрался на чистый оперативный простор улицы Богдана Хмельницкого, – что наши танки плохие. У нас были лучшие танки в мире! И не верьте тому, что завтра напишут в газетах. Газеты лгут. Бог с теми, ребята, кто хочет видеть свою Родину сильной и счастливой! Дьявол – со всеми остальными! Прощайте! – Лязгнув гусеницами, танк круто – под прямым углом – свернул в длинный суставчатый переулок, известный своими проходными дворами.
Леон тупо смотрел с мраморного ложа-подоконника вослед удаляющемуся танку. Ветер высушил горячие увеличительные слёзы. В беспощадно-ясной, не застилаемой более ни коммунистической, ни патриотической романтикой перспективе Леону открылся священный античный ужас происходящего.
Некогда Леон долго размышлял над тем, что есть античный ужас и античный же загадочный «асбестос гелос» – неиссякаемый смех. Тогда, помнится, он превзошёл себя в умножении сущностей без необходимости.
Сейчас на последнем этаже нежилого дома в центре Москвы, на широком мраморном подоконнике без единого умножения сущностей понял, что античный ужас есть священный ужас, испытываемый человеком в момент осознания, что судьба его находится во власти гибельных событий, происходящих помимо его желания и воли. Неиссякаемый же смех, проклятый асбестос гелос – смех Господа над осознавшим это человеком. Когда унесут со сцены последнего человека-комедианта, тогда иссякнет в ложе смех Господа-театрала.
Пока же смеяться ему не пересмеяться.
Леону словно в свете молнии, как и положено в общении с Богом, открылась связь событий: встреча в нелидовской гостинице отца и Валериана, обещание Валериана быть летом в Москве, конспиративная (как Ленина в суде) работа отца и матери в малом предприятии «Желание», абсолютная неудача (если не считать лозунгов на стенах) танковой атаки, неизбежное и жестокое (ведь выступили-то русские, а кто и когда в мире заступался за русских?) наказание всех, кто причастен, чтобы другим неповадно было.
Вольно было Господу смеяться неиссякаемым смехом.
Леону было не до смеха.
Не помня себя, он слетел по пунктирной лестнице вниз, вышиб плечом дверь. По улице бегали солдаты. Дверь снаружи была в крови.
Вспомнил про Калабухову Аню. Оставить её в нежилом подъезде – месте, самой судьбой предназначенной для совершения гнусных преступлений, – значило поступить едва ли не хуже, чем только что Бог с русским народом.
Леон вернулся в подъезд, протянул руки. Калабухова Аня спрыгнула ему на руки. Усадив её на плечи, точнее, на рюкзак, как на сиденье, держа её за тонкие в стираных-перестираных гольфах ноги, Леон бодро устремился по улице, уже не обращая внимания на солдат.
К метро?
Но какое метро в чрезвычайное, в изумлении и страхе сидящей по квартирам шкурной Москве? Какой вообще общественный транспорт в Москве, перегороженной контрольно-пропускными и прочими пунктами, с ревущими в небе вертолётами, угрюмо вставшими у подворотен людьми с белыми (почему с белыми?) повязками на руках, возбуждённой, пьяно гомонящей толпой у Политехнического с плакатом: «С Лениным на тысячи лет!», портретом Николая Второго, драным полотнищем: «Демократия победит! Реакция не пройдёт!» и ещё почему-то чёрным пиратским флагом.
Только от подъездов Комитета государственной безопасности (или как он сейчас?) непрерывно отваливали чёрные «Волги» с сиренами и мигалками. Видимо, сегодня это был единственный, не считая бронетранспортёров, транспорт в столице.
Но не про Леонову честь.
Сотни раз Леон беспечально добирался до Кутузовского – на метро, на втором троллейбусе, на восемьдесят девятом автобусе, на сороковой маршрутке, плата за проезд в которой выросла на коротком веку Леона с пятнадцати копеек до пяти рублей.
Сейчас это было невозможно.
Своим ходом! С Калабуховой Аней на плечах! Принял решение Леон.
Он сжился с античным ужасом, игнорировал летящих во все стороны с сиренами и мигалками чёрных гарпий. Спасение, естественно мнимое, увиделось в последовательном раздроблении обречённой жизни на ряд мелких конкретных целей, из которых якобы что-то потом составится.
Леон определил первую: добраться до дома.
Античный ужас отступил.
Но не неиссякаемый смех.
Первые два поста Леон благополучно проскочил.
Ему вспомнилась книга французского зоолога, прожившего несколько лет среди горилл. Единственным для себя неудобством в этой странной жизни зоолог полагал невозможность выходить ночью из гнезда, где горилья стая устраивалась на отдых. Гориллы перед сном, как по команде, справляли большую и малую нужду непосредственно в гнезде. Зоолог утверждал, что если в аду существует (согласно маркизу де Саду) круг дерьма, то он прошёл сквозь этот круг при жизни.
Леон подумал, что в этом случае любой нежилой дом в Москве, да, к примеру, тот, где они недавно были, – филиал ада на земле. Однако же живут в этих домах не гориллы, а бомжи – советские люди, и не с естествоиспытательскими целями, как зоолог, а просто живут, отстаивая своё право жить там в кровавых схватках с другими бомжами.
Леон спохватился: умножение сущностей без необходимости сделалось его натурой. Но не ради очередного умножения сущностей он вспомнил книгу чудака-зоолога. Француз рекомендовал желавшему мирно разойтись в джунглях с гориллой не смотреть ей в глаза. Такой малости, оказывается, доставало, чтобы удержать могучего свирепого зверя от нападения. И точно такой же малости достало Леону, чтобы проскочить два поста.
А вот на третий недостало.
– Стой, сволачь! – раздался в спину скверный голос. – Застрелу, как сабака!
Леон остановился.
– Иды суда!
Леон обернулся.
С ним разговаривала даже не горилла, а неизмеримо более дикое и злобное существо: в стройбатовской – цвета дерьма – форме, но, к счастью, без стрелкового оружия, с коротенькой киркой или гвоздодёром в руках. Тут же другие стройбатовцы, хрипя, толкали ломами бетонную дуру, видимо, противотанковое заграждение.