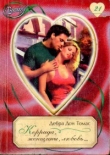Текст книги "Одиночество вещей"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Митрофанов задал сложный вопрос. От него, как от могучего ствола, разбегались во тьме земли корни. Были эти корни переплетены, слоисты, извилисты, неизвлекаемо сидели в земле, как арматура в бетоне. За что бы ни схватился Леон – ни в чём не было ясности. За старшого, Владлена, Сама. Вот главный корень зла! Но тут же вился и живой, родимый корешок: отец да мать, Иван да Марья, всю сознательную жизнь проповедовавшие кровожадное учение. За председателя: проклятые колхозы довели страну до голода, до нищеты! Всё ничьё! Но недалече ушёл и дядя Петя – новый русский фермер, алкаш-запойщик, неделю не кормивший животину, бросивший большую часть дефицитного кирпича на возведение царской бани, заломно перегородивший озеро сетями, бессмысленно размахнувшийся на зайцевские луга и пашни. Всё моё! И опять – ничьё. Опять голод и нищета. На себя, наконец, устремлял взгляд Леон. Так ведь и сам жил, как катился с горы на санках, без мыслей о материальном, если и со смутным желанием чего-то добиться, как-то где-то себя проявить, то с совершеннейшим при этом небрежении к деньгам, законченным нежеланием посвятить жизнь тому, чтобы их зарабатывать и умножать (лучше, как дядя Петя в петлю!), изначальным (врождённым, не иначе) непризнанием денег за абсолютную ценность, мерило всего. Хлеб, вода, штаны, ватник будут, и ладно. Плевать он хотел на поганые деньги! Много их, мало, какая, в сущности, разница?
Странная, невозможная в природе картина открылась Леону. Ствол сгнил, истлел, рухнул, подняв тучу пыли, корни же остались корнями «в себе». Корнями корней. Как кантовская вещь вещей, оккамовская сущность сущностей, библейская песня песен.
Оттого-то судорожные нынешние попытки приладить к отторгающим деньги, как основу жизни, корням новый, ещё более чуждый, нежели прежний марксистско-ленинский, товарно-денежный ствол были по сути своей межеумочны и сугубо временны. Или корни сами пустят ствол, но свой, родимый, естественный. Или же набежавшие с лопатами выкорчуют к чёртовой матери корни да и изведут на дрова, или просто спалят в бессмысленном большом огне, а на освободившуюся паль привезут иное дерево.
В умозаключении Леона несомненно присутствовала доля истины. Как в любом (самом на первый взгляд идиотском) умозаключении. И как в любом (самом на первый взгляд бесспорном) умозаключении несомненно отсутствовала. В той же мере, в какой присутствовала. Между двумя открывшимися Леону путями пролегали мириады иных, не открывшихся Леону, но открывшихся другим путей. Что, вне всяких сомнений, открылось Леону, так это сомнительность любого умозаключения вообще, проистекающая уже хотя бы из состава слова: умо-заключение. Как будто в заключение попадал ум и тоскливо смотрел на мир из заключения, как узник сквозь железную решётку.
Леон не знал, что ответить Митрофанову.
В самом деле, кому выгодно превращать жизнь в перманентную трагедию духа?
Ответ явился не как логическое завершение предшествующих Леоновых рассуждений, а как если бы узник-ум выломал железную решётку да и вышел вон из заключения: Господу Богу, вот кому! Бог, как театрал из ложи, вознамерился понаблюдать за милым его исстрадавшемуся сердцу, презревшим, как Митрофанов, служебную субординацию, товарно-денежные отношения, атеистом-народом, решившим сыграть одновременно две роли из разных произведений – Гамлета и Дон-Кихота. Что ж, родименький, поживи, раз хочешь, без товара и денег!
Но Митрофанов был свидетелем непристойного отдыха Леона и Платины в верхней комнате. Моральный рейтинг Леона был в его глазах невысок. Если бы Леон ответил, как думал, Митрофанов бы укрепился в мысли, что Леон изощрённо глумится над советской милицией. Леону не хотелось обижать искренне переживающего за Россию Митрофанова. Поэтому он ответил тоже честно, но иначе:
– Не знаю, кому выгодно. Знаю, что большинству людей нет. Но они почему-то терпят.
– А я знаю кому, – зловеще улыбнулся Митрофанов. – Кто хочет нас дотла разорить, а потом сжить со свету!
– Зачем? – отвлёкся от заполнения блёклых голубых листков протокола капитан. Он устроился за столом, чуть сдвинув обутые в резиновые сапоги ноги дяди Пети. – Зачем, Митрофанов, кому-то дотла нас разорять, а потом сживать со свету?
– А чтобы перехватить нашу землицу, вот зачем, капитанчик! – весело рассмеялся неугомонный Митрофанов. – Землица-то, она только пока мы на ней – бросовая. А не станет нас, у, какая она сразу станет ценность! Это же очевидно: людей на планете много, земли мало! Ты в Анголе сколько за чужую землицу бился, а много её для наших чёрных друзей-коммунистов завоевал? А мы всю отдадим и без войны! У тебя сколько на сберкнижке, капитанчик? – вновь наглядно продемонстрировал пунктирность мышления Митрофанов.
– При чём здесь моя сберкнижка? – удивился капитан. – Как это связано с концом света?
– Тысяч десять-двенадцать, – гнул своё Митрофанов. – У меня столько же. Вот у Гаврилова, – мрачно посмотрел на помалкивающего, видимо переживающего неудачу с франками, сержанта, – поболее нашего, но один хрен, не хватит. Как, говоришь, с земли сгонят? А как только продавать разрешат! Куда я или ты со своими десятью тысячами? Или Гаврилов с… Ладно-ладно, Гаврилов, молчу. Куда нам против любого из Америки или откуда там, кто возьмёт да пересчитает месячную свою зарплату в рублишки? Выйдет больше, чем мы все за свою жизнь заработаем! Так что соображай, кому отойдёт землица.
– Значит, измена в правительстве? – подал спокойный голос внимательно осматривающий свернувшийся крупными кольцами в углу шланг-удав Гаврилов.
– Страны нет, – пожал плечами Митрофанов, – жрать нечего, деньги пыль, армия расформирована. Скоро с земли, с квартир начнут сгонять. Измена, Гаврилов, больно уж ласковое словцо.
– Не драматизируй, Митрофанов, – капитан скрепил скрепкой, убрал в папку листки одного протокола, тут же достал листки для следующего. – России не привыкать жить в состоянии перманентной государственной измены.
– В наказание за то, что поверила в перманентную мировую революцию, – добавил Леон. Ему понравились слова капитана. И вообще, эти милиционеры, за исключением Гаврилова, были отнюдь не дубами.
– Не знаю, Митрофанов, – никак не отреагировал на уточнение Леона капитан, – хорошо это или плохо, но в этом всегда было наше спасение. Улучшить они хотели или ухудшить нашу жизнь, благодетельствовали или вредили, освобождали или закрепощали – всё шло как шло, оставалось как есть. Это такое болото, Митрофанов, в нём одинаково вязнет добро и зло, патриотизм и космополитизм, служение Отечеству и государственная измена. Помнишь, движения нет, сказал мудрец брадатый… Что там дальше?
– В этот раз не увязнет, – возразил Митрофанов, – больно круто взялись. А мы раззявили хлебала. Вместо того чтобы… – стиснул кулаки.
– Чего разорался-то? – неожиданно решил защитить демократию Гаврилов. – Были выборы. За кого народ? Что он, враг себе?
– Народ, Гаврилов, – с презрением посмотрел на него, открыто хлопочущего возле свёрнутого шланга, Митрофанов, – в особенности русский народ, всегда выбирает для себя самое худшее. Худшее из худшего. Промашки не даёт. А исправляет ошибки исключительно путём совершения новых. Другого пути не знает.
Леон вспомнил этот, ничем не закончившийся разговор ночью, когда по неизвестной причине поднялся с кровати, уставился из окна на лунно серебрящееся в прибрежных тенях, как в чёрном кружеве, озеро.
Потом спустился вниз. Луна была невелика, но светила ярко, как прожектор. Белые созревающие яблоки в кривых суставчатых яблоневых ветвях отражали лунный свет, вычерчивали воздушные трассы ночным жукам и бабочкам. Звёзд было сверх всякой меры. Леон стоял посреди пропадающей усадьбы, придавленный звёздным небом, как Господней дланью. И одновременно как бы вознесённый Господней же дланью, так что звёзды путались у него в волосах, как капли воды после ночного купания.
Милиционеры уехали, осветив на прощание Зайцы жёлтым светом фар «УАЗа». Шланг-удав более не был свернут кольцами в углу бани, а тоже уехал в «УАЗе».
Дядя Петя в чёрных резиновых сапогах остался на столе.
Леон понимал, что надо бы проститься с дядей, побыть с ним наедине. Но больно уж неподходящим было время. Леон решил проститься с дядей завтра при свете солнца.
Председатель сказал, что пришлёт машину за кроличьими клетками.
Леон щедро покормил на ночь свиней и кроликов остатками комбикорма и хлеба.
Из хлева доносились умиротворённые вздохи, сонное сытое хрюканье.
Ночной же народец кроликов не думал спать. Председатель сказал, что возьмёт по хорошей цене всю живность, но его отжали от растерявшегося Леона зайцевцы, объявившие что по-соседски разберутся с Леоном насчёт живности и похорон. «Не бойсь, не обидим, – хмуро посмотрел на Леона Егоров, – все же русские люди». Честно говоря, лиловый в тот день Егоров не сильно походил на русского человека. Разве на русского человека будущего, когда все перейдут с водяры и самогона на морилку.
Таким образом, смутно беспокоивший Леона вопрос похорон отпал.
Да ещё и при деньгах оказался Леон.
На распродажу птиц пожаловал (пришёл) даже водяной дедушка Платины. И как Юлий Цезарь, увидел гусей и переторговал (победил) приценившегося к ним беззубого слюнявого человека из Урицкого, красиво накинув на каждый клюв по червонцу.
Леон неторопливо двинулся вдоль клеток.
Почему-то он считал кроликов глупыми. Свиней и гусей, которые, если верить пословице, друг другу не товарищи, уважал больше. А тут вдруг пожалел, что кролики попадут в чужие руки, что по осени их непременно перебьют.
Он читал в книжке по кролиководству, что, оказавшись на свободе, кролики легко переходят в дикое состояние, живут в лесу, подобно зайцам.
Леон решил дать им шанс.
Распахнул все клетки.
Кролики, светя глазами, трепеща ушами, вплотную придвинулись к свободе. Леон подумал, что в любом случае свобода окажется для них не страшнее недавнего многодневного голода, когда они подъедали собственное дерьмо, освоили таинственное искусство левитации. Травы на лугах было выше кроличьих ушей. В полях вставали зерновые. Вокруг было предостаточно заброшенных садов, чтобы обдирать зимой кору. Можно сказать, в Эдем выпускал Леон кроликов. Единственное, что от них требовалось – сделаться зайцами.
Леон отошёл в глубь сада. Встал, скрестив, как Наполеон, руки на груди, под яблоней. Безумная, вызванная не иначе как нервным потрясением от последних событий, явилась мысль: как он сейчас кроликов, точно так же Господь Бог отпускает в эту ясную звёздную ночь на волю русский народ. Леон кроликов – в поля, леса, луга. Господь Бог русских – в изобилующую всем необходимым для жизни страну Россию.
В непонятном оцепенении стоял Леон под яблоней, под звёздным небом, под дланью Господа своего, вперившись взглядом в судьбоносно освещённые по такому случаю кроличьи клетки. Там, несомненно, происходило какое-то движение. То одна, то другая пара светящихся глаз, трепещущих ушей подкрадывалась к краю клетки. И тут же отступала. Раз какой-то герой свесился до половины. Увеличенная усатая тень опустилась на траву. Но кролик не стал первой ласточкой. Почти вывалившись из клетки, исхитрился зацепиться за край сильными задними лапами, сопя, втянулся, как паровоз в депо, во тьму клетки. И больше не приближался к краю.
Час, наверное, стоял Леон, скрестив руки, под яблоней. Весь окоченел. Но ни один кролик не выпрыгнул из клетки.
Господь Бог в очередной раз устроил Леону Ватерлоо.
Леон в отчаянье воздел глаза в небо.
И увидел чудо.
Сразу сотня, а может, тысяча звёзд снялась с места, упала вниз, прочертив в небе сияющие ломаные, прямые, косые, овальные и дуговые – разные, как и должно быть при свободе, – маршруты. Леон понял: Бог даёт знать, что звёзды небесные легче подвигаются к свободе, нежели кролики и русские люди. Вспомнил, что под падающие звёзды загадываются желания. «Так помоги им! – рявкнул в огромное чёрное ухо. – Помоги!» И ещё подумал, что падающие звёзды – отколовшиеся, сгорающие частицы целого, оставшегося на месте. О какой свободе он просит? Неужто отколоться и сгореть? Или… не бывает другой свободы?
Как-то странно он сходил с ума: сознавая, что сходит. Обычно сумасшедшие этого не сознают. В безумие Леона, как меньшая матрёшка в большую, было вставлено непреложное осознание безумия всех его надежд.
Леон коченел от льющегося с неба холода и света. Единственно, что теперь ему оставалось – стоять недвижно, как изваянию. Бог продемонстрировал свою твёрдость. Леон ответно демонстрировал свою. «Достоинство, – решил Леон, – последняя неразменная монета. Достоинство прерывает спираль безумия, разгружает матрёшки».
Леон знал, что смешон, что уподобился беспаспортному оловянному солдатику, удирающему от крысы в бумажном кораблике по сточной воде, но у него не оставалось ничего кроме стойкости и достоинства, что он мог бы противопоставить равнодушию Господа.
Леон спокойно и бестрепетно (как Бог на людей) посмотрел на клетки. И в это самое мгновение из ближней вдруг… не выпрыгнул, нет, невесомо, как на крыльях, вылетел кролик, необъяснимо удлинившийся, распрямившийся в ночи. Пролетев значительное и невозможное для кролика расстояние, он сгруппировался в воздухе, как гармошка, мягко приземлился, едва коснувшись лапами серебряной травы, снова взмыл вверх, легко преодолел изгородь, которую с трудом одолевали куры, не говоря о бандите-петухе, растворился в свободном тёмном мире.
Никто не последовал его примеру.
Установилась абсолютная, как в пустом зрительном зале, тишина.
Леон понял, что представление закончилось, пора уходить. Бог исполнил его желание, хоть и по-своему.
Как только до Леона дошло, что льющиеся с неба холод и свет есть свобода, что он наполнен свободой, как кувшин под самое горло, вот только зачем она ему, что с ней делать, он не для себя просил, на плечи ему опустились тёплые руки.
Леон в страхе обернулся.
Под яблоней стояла Платина. Лицо её было из холода и света. Руки же, напротив, были тёплыми, почти горячими. «Как у чекиста, – греясь под её руками, подумал Леон. – Горячие руки, холодное сердце. Или наоборот? Холодные руки, горячее сердце? Наверное, сначала горячие, потому что в чужой крови, а как самого пристукнут, холодные?»
Какие-то были необязательные рассуждения.
Леон обнимал под яблоней Платину. В холодной, как Вселенная, свободе на находилось месту похоти. И Платина ни о чём таком не помышляла. Они стояли, обнявшись в ночи, и не говорили друг другу ни слова. Леон подумал: хорошо бы их сейчас увидели милиционеры. Но никто не мог сейчас их видеть.
Только Господь Бог.
– Ты всё-таки возьми, – Платина сунула Леону в ладонь свёрнутую записку. – Пригодится.
– Молитва? – спросил Леон.
– Не совсем, – покачала головой Платина.
Леон подставил ладонь с запиской под льющийся, словно душ, сквозь ветви яблони лунный свет. Действительно не записка, не молитва, а проклятые франки.
– Зачем? – устало спросил Леон.
– Умоляю, возьми. Ради меня.
– Ради тебя?
– Ради меня, – повторила Платина. – Я здесь нищая. У меня ничего больше нет.
Платина стояла спиной к клеткам и не могла видеть. Леон стоял лицом и видел. Из крайней выпрыгнула крольчиха и, пометавшись зигзагами по траве, исчезла в ночи. Леон знал эту лёгкую, чистенькую, как бы выточенную из серого меха крольчиху. Дядя Петя собирался сдать её на мясо первой. Она два раза пожирала собственных крольчат.
Вечернее солнце золотило дорогу.
Это было невероятно, но на лугах нет-нет да появлялись пасущиеся стада. Коровы были не как из концлагеря, не в присохшем навозе, как в чёрных латах, а упитанные и чистые. Непривычно высок был процент каменных красивых домов с палисадниками. Редкие увиденные люди были не зверски пьяны, степенны и даже прилично (не в ватники, а в куртки, а то и в плащи) одеты. Как будто не по России ехали. Или по России, в которой не случилось Великой Октябрьской социалистической революции.
Спасшимся от неминуемой смерти неминуемо является желание выпить. Есть ни с чем не сравнимая радость в обновлении страшных воспоминаний в комфортной (под водочку), когда уже ничто не угрожает, обстановке.
По тоскливым взглядам, какие бросал Эпоксид на сельские магазины, Леон догадался, что в загашнике у них выпить нет. Вероятно, Лени не приходило в голову, что на свете существуют автострады, где невозможно приобрести спиртное. Даже за свободно конвертируемые дензнаки, какими являлись немецкие марки.
Сейчас катили именно по такой автостраде. Эпоксид сердито пытался объяснить это Лени с помощью разрозненных английских, немецких, испанских, но главным образом русских слов. Лени вроде бы понимала, но произносила в ответ какие-то глупости, вроде: «Ресторант», «Найт-шоп», «Супермаркет». Эпоксид махнул рукой. Россия вокруг хоть и была с человеческим лицом, но всё же не настолько с человеческим, чтобы запросто притормозить у продовольственного да и взять водки или вина.
– А ну как чудо-юдо? Коммерческий коньячишка по полтораста? – остановил машину Эпоксид возле длинного одноэтажного здания с буквами на крыше «Продмаг», вызывающе распахнувшего двери навстречу входящим.
– Нет, – сразу обрезала продавщица. – Ни по коммерческой, ни по талонам. Две недели уже без торговли. Московская область машины не пропускает.
– А за доллары? – распахнул бумажник Эпоксид.
– И за доллары, – с тоской вздохнула продавщица продемонстрировав тем самым, что имеют, имеют в российской глубинке представление о долларах.
– Поищи, – посоветовал Эпоксид. – Смерть как хочется. Пять зелёных за водяру.
– Да говорю же вам, нет! – всхлипнула продавщица.
Воистину несчастная не обманывала.
Некоторое время ехали в молчании.
«Нелидово – 102 км» – возвестил ободранный синий щит.
– Не судьба, – вцепился, как утопающий в круг, в руль Эпоксид. – Есть в сумке одеколон, но не будем же мы одеколон? – Спустя, однако, некоторое время мысль эта уже не казалась Эпоксиду дикой и неосуществимой. – Во удивится, – покосился на Лени, – она, – хихикнул. – Не знает, что можно потреблять одеколончик! Нелидово! Там и возьмём в гостинице. Потерпим?
Как назло, дорога пошла такими ухабами и ямищами, что даже не жалевшему чужую машину Эпоксиду пришлось снизить скорость до тридцати километров.
«Водитель, внимание! Ремонт дорожного полотна. Км. 312–362»– возвестил другой покосившийся щит. И – уходящие к горизонту верблюжьи горы песка и гравия вдоль осевой.
– Пятьдесят километров, с ума сойти! – уронил буйну голову на руль Эпоксид.
Леон вдруг вспомнил, что в рюкзаке, помимо банки мёда, имеется бутылочка самогона. Он ещё заботливо разделил стеклянные ёмкости рубашкой, чтоб не стукались. Тёмную бутылчонку с застарелой фиолетовой этикеткой «Лесная ягода» Леону сунул малиновый, лоснящийся, как сваренный рак, Гена. «Чтоб батька с маткой помянули брата!» Леон забыл про самогон, потому что сам тогда был нетвёрд ногами и памятью. А сейчас вспомнил. Батька с маткой найдут чем помянуть братана.
– У меня есть, – сказал Леон. – Только можно ли тебе за рулём?
– Мне? – весело обиделся Эпоксид. – Я всю Европу проехал от португальской границы. Шесть стран, включая великое герцогство Люксембург. Мне нельзя? Ну даёшь, Леонтьев!
Леон решил, что пришло время поинтересоваться: почему Эпоксид проехал всю Европу от португальской границы вместе с Лени, кто ему эта Лени, куда и зачем они едут?
Но Эпоксид так быстро свернул сначала на просёлочную, а с просёлочной на лужайку, что Леон не успел.
Над лужайкой, над подсыхающими стогами плыл смешанный запах влажного травяного тлена и сухих цветов.
Лени выбралась из машины, зажмурилась на бьющее в глаза вечернее солнце, нестесненно, со сладким стоном потянулась, как львица или пума.
Эпоксид извлёк из багажника раскладной столик, в момент заставил изысканной едой, жестяными банками с апельсиновой водой и кока-колой. Сыскалось место и для трёх походных стаканчиков. Они приглашающе посверкивали на солнце.
– «Лесная ягода»! – Мощным барменским ударом ладонью по днищу вышиб вон пробку из бутылки Эпоксид. Она улетела далеко. Леон догадался, что Эпоксид полон решимости зараз покончить с самогоном. – Боже мой, какое благородство! – поднёс к носу бутылку Эпоксид. – Похоже, первач. Ну, поехали! – Жадно опрокинул под бессмертные гагаринские слова стаканчик и тут же снова налил.
Леон свой только ополовинил, присосался к банке с апельсиновой водой.
Лени вознамерилась пить семидесятиградусный, не иначе, первач по-европейски, маленькими глотками, так сказать, смакуя. Она как-то на глазах одеревенела, роботизировалась. Допила до дна, поставила стаканчик на стол, схватилась руками за горло, как будто гладкое ухоженное немецкое её горло сжимали волосатые в золотых перстнях пальцы хачиков.
Леон плеснул Лени в стакан шипящей апельсиновой.
Она запила, перевела дух, пришла в себя. После чего вдруг покраснела и залоснилась, совсем как Гена на утренних поминках по дяде Пете.
Леон перевёл взгляд на Эпоксида.
Тот от души, но не вполне по-дружески забавлялся.
Леон посмотрелся в боковое, влепленное в пластмассу и резину, машинное зеркальце, которое в Москве непременно оторвут. Он не лоснился. Самогон превращает в варёных раков людей в возрасте, догадался Леон, кто помоложе, те держатся.
Необязательность, если не сказать, неуместность данного наблюдения свидетельствовала ещё об одной особенности самогона: резко снижать умственный уровень пьющего. Уже независимо от возраста.
– По второй? – голосом счастливого человека осведомился Эпоксид. – Как, Лени, первая колом или соколом? Ничего лучше не пил!
Леон решил вторую пропустить.
Сделавшаяся в один цвет с пролетарским знаменем, Лени тоже.
Эпоксид красиво, с отставленным локтем, как Николка в спектакле «Дни Турбиных», выпил в гордом одиночестве.
– Леонтьев, – захрустел крохотным пупырчатым, выловленным из плоской стеклянной банки огурцом, – я тебя не из-за того, что в одной школе, вспомнил. Я же с твоими родителями в одной конторе работаю! – ошарашил дикой нелепой новостью.
– Как так? – тупо спросил Леон.
– А вот так! – заржал Эпоксид. – Через плечо! В малом предприятии «Желание».
– «Желание»? – с отвращением переспросил Леон. Вероятно, это было гнусное малое предприятие. Не менее гнусное, чем малое предприятие «Дюймовочка», про которое Леон читал в районной куньинской газете. Это малое предприятие под видом фотомоделей отбирало по городам и весям России девушек ростом не выше ста пятидесяти сантиметров да и продавало их за доллары в притоны, публичные дома, а также отдельным иностранным извращенцам, охочим до малорослых. Большинство «Дюймовочек» знали, что их ожидает, а вот поди ж ты, где только – в Порхове, Шимске, Локне или Новосокольниках – не объявлялся конкурс, не было отбоя от готовых на всё, недокормленных «Дюймовочек». У малого предприятия были все шансы превратиться в большое. При нынешней кормёжке подрастающее поколение обещало вырасти поколением Дюймовочек и мальчиков с пальчик. В лучшем случае.
Само по себе слово «желание» было вполне нейтральным. Но в сочетании с «малое предприятие»… Не лучшие, определённо не лучшие желания клиентов исполняла эта контора.
Теперь Леон мог не спрашивать Эпоксида, чего это он едет с Лени в её машине от португальской границы? Всё и так было ясно, красная, распаренная, сошедшая с тормозов, немолодая Лени лезла под рубашку вчерашнего школьника Эпоксида, гладила его накачанные в другом малом предприятии – «Бородино» – мышцы и бицепсы. Эпоксид снисходительно похлопывал забывшую стыд Лени по заднице.
– Такой вот у нас организовался кооперативчик, – налил себе третью. – Развесистое древо услуг. Как баобаб. Штаб-квартира в нашем доме. Берём на работу всех оставшихся за бортом новой жизни. Несчастных и одиноких. В том числе марксистов-ленинцев, – подмигнул Леону. – Давай-давай, Леонтьев, разливай, я один не буду.
Леон долил себе. Наполнил стаканчик Лени. Она не возражала.
– На какой же ветке баобаба мои родители? – спросил Леон.
– Естественно, не на моей, – ответил Эпоксид. – Староваты. Хотя мамка у тебя ещё… За прекрасных дам! За шене фрау! – зажмурившись от наслаждения, выпил. – Там у нас, как при коммунизме, от каждого по способностям, каждому по труду. Всяк сверчок знай свой шесток. Твоя мать в группе «Очередь».
– Очередь? Какая очередь? – Леон проглотил самогон, как воду, до того удивительным было то, что говорил Эпоксид.
– Вот такая! – показал от плеча Эпоксид. – Нет у нас в стране очередей, да? За других стоит в очереди, неужели непонятно?
– За водкой? – ужаснулся Леон.
– За водкой стоит мразь, отребье, – поморщился Эпоксид. – Водку нам привозят ящиками прямо с завода «Кристалл». Твоя мамаша стоит за долларами в банке. Оплата почасовая. Два часа – доллар. Шесть часов – три доллара. Я уезжал, её поставили замначем дневной смены.
– А есть… ночная? – От самогона и волнения язык у Леона стал заплетаться.
– А ты думал, за долларами только днём стоят? – подивился его наивности Эпоксид. – Круглосуточно! Но в ночных сменах у нас женщин нет.
– Там же дерутся, – пробормотал Леон.
– Мамашу не обидят, – успокоил Эпоксид. – Там всё поделено между нашей и ещё двумя конторами. Бьют сволочь, которая лезет сама стоять, не отстёгивает.
– А отец, значит, в ночную? – Леону было не отделаться от ощущения, что он уехал на летние каникулы из одной страны, а возвращается после летних каникул совсем другую.
В новой стране пути марксизма-ленинизма и хлеба насущного разминулись. Одной частью сознания Леон понимал: это справедливо. Другая же часть протестовала. Отец, доктор философских наук, которого лично знают и высоко ценят Фидель Кастро и Жорж Марше, стоит в ночную смену в очереди на обмен долларов за посторонних людей!
Воистину революция пожирала лучших своих детей.
Худших – продажных, лживых, корыстолюбивых – отчего-то не пожирала.
– Батька не в очереди, – после третьей Эпоксид оттаял душой, дружески приобнял Леона, как бы говоря ему: всё в жизни тлен, суета, кроме таких вот редких светлых мгновении, когда сухо, тепло, есть что выпить, чем закусить и нет между людьми вражды, неважно, коммунисты они или предприниматели, немцы или русские. – Батька в автосервисе.
– Где-где? – Леон подумал, что ослышался. Отец, не умеющий привернуть гайку к болту, ненавидящий и боящийся автосервиса, в автосервисе? – Он не разбирается в технике!
– Зато хорошо рисует, – странно возразил Эпоксид.
Отец действительно умел рисовать. В молодости учился в художественном училище. Но не доучился, ушёл инструктором в райком комсомола.
– Красит кузова?
– Да, можно сказать, – нехотя ответил Эпоксид.
– Перекрашивает ворованные машины? – в ужасе прошептал Леон.
– Да нет же! – досадливо вздохнул Эпоксид. – Наше предприятие ремонтом и покраской кузовов не занимается.
– Ты сам сказал, в автосервисе, – Леон чувствовал, если бы не самогон из его рюкзачка, Эпоксид давно бы послал его куда подальше.
– Так называется. Там другой автосервис. Сейчас же машины, как с цепи, крадут. Особенно новьё. У кого гаража нет – смерть, хоть не покупай. Ну а продают же ещё по спискам, по лимитам в магазинах, отгружает что-то ВАЗ. Люди к нам новье пригоняют, а твой батька и ещё там ребятишки делают из новья старьё, чтобы никакая сволочь не польстилась.
– Это… как? – Леон заметил, что и Лени заинтересовалась. Наморщив гладкий лоб, вслушивалась в речь Эпоксида, кивала, отмечая знакомые слова.
– Варум? – вдруг спросила Лена.
– Варум-варум? – разозлился Эпоксид. – Она ладно, – махнул рукой на Лену, – ты-то что, Леонтьев, из себя девочку строишь? Не знаешь, как новые машины превращают в старые?
– Не знаю, – честно признался Леон.
– Словно не лето, а год в деревне сидел, – усмехнулся Эпоксид. – Отстал от жизни.
Леон не возражал.
В чём-то он действительно отстал.
А в чём-то забежал вперёд.
Скажем, в тревоге о судьбе кроликов.
Только два воспользовались шансом. Остальные остались в клетках.
Утром, как только трава просушилась от росы, Леон нарвал травы, накормил кроликов. Он смотрел на них, убирающих стебли, как прямые спагетти, и странная мысль явилась ему. Леон изумился чеканной, как Пифагорово геометрическое правило, словесной формулировке мысли: «Обречены все, но в первую очередь тот, кто не воспользовался шансом, остался в клетке, когда можно было уйти».
Через час Леоново правило получило блистательное доказательство.
Два гусеничных, каких здесь отродясь не видывали и каким только и было по силам прорваться сквозь здешнее бездорожье, тягача-амфибии с прицепленными к ним огромными товарными вагонами на колёсах промчались, расшвыривая землю, по тихим, богоспасаемым Зайцам. Впору было креститься. Не иначе как высадились марсиане или эстонская морская пехота оккупировала Куньинский район.
Сердце Леона сжалось в недобром предчувствии.
– Эй, парень! – рявкнул один из кабины тягача. – Где здесь, язви его в душу, фермер Леонтьев? Вагоны ему привезли, а он, падла, не встречает, не радуется!
– Вообще-то он здесь, но сейчас это… – Леон подумал, что бедной дяди Петиной душе невыносимо видеть вагоны, которые он так ждал живой. «Завтра привезут трактор с Минского завода!» – решил Леон. – Здесь, но в отъезде, – глупо сказал Леон. – Он не знал, что вы сегодня приедете.
– В отъезде… твою мать! – огорчился шоферюга. – Куда вагоны ставить, кто будет расплачиваться?
– Он на похоронах, – сказал святую правду Леон. – Я за него.
Всю свою жизнь дядя Петя был некредитоспособен. Леону не захотелось валить на него, вернее, на неотлетевшую его душу ещё один долг. Свалить который, кстати, было легче лёгкого. Мужики бы выматерились да и укатили, расшвыривая грязь гусеницами, на тягачах-амфибиях. Что поимеешь с мёртвого? Но Леону хотелось, чтобы дяди Петина душа отлетела чистой и незадолжавшей. Хоть и крутой была цена – окончательное разорение хозяйства, в которое дядя Петя вложил бедную свою душу.
– Ты? – с подозрением посмотрел на Леона шоферюга, пожал плечами. – Тогда говори, где ставить, расписывайся в накладных, готовь деньги и продукт.
Леон знал где. Дядя Петя показывал ему луг у озера, который собирался, когда овцы и бараны подрастут, обнести оградой.
Вагоны установили дверями к озеру. Дядя Петя рассчитал, чтобы вонь не несло на деревню.
Леон многократно расписался в шуршащих накладных, отсчитал шоферюгам деньги. С луга хорошо смотрелась белая баня. Она как будто была опутана солнечной паутиной. Дяди Петина душа одобряла место установки вагонов.
Вагонов, которые зайцевцы, по всей видимости, сожгут, как сожгли кузницу.
– Вот договор с автопредприятием, – показали шоферюги Леону бумагу на бланке и с печатью. – Расчёт – половина деньгами, половина – сельхозпродуктами. Только потому и согласились. Погнали бы мы тягачи в такую даль за говённые рублишки!