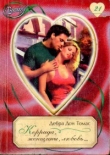Текст книги "Одиночество вещей"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Словно вставший из воды, с зацветшей, как тина, дранкой на крышах, таинственный град Китеж, промелькнула берегом озера деревенька.
– Пески, – уверенно определил отец.
– Почему Пески? – спросил Леон.
– Мужики сказали, – объяснил отец, – что сначала Пески, потом Зайцы. Петька писал, что обкладывает дом белым силикатным кирпичом. И баню кирпичную ставит на берегу. Здесь ничего такого нет.
За Песками тропинка резко углубилась в луг.
Леон подумал, что они сбились с пути, потерялись посреди огромного, как Куликово поле, луговища. Но оно внезапно сошло на нет. Только что ехали по брызжущей траве, а уже сухое, с прошлогодней стернёй, поле защёлкало под колёсами, объявились вдали приземистые домишки, а один определённо до половины белый, как обмотавшийся полотенцем мужик.
Тропинка расширилась, сделалась почти проезжей.
Первое, на что обратили внимание отец и Леон, подкатывая к деревне, – чёрный выжженный круг посреди поля, обуглившиеся доски, закопчённые камни, непонятного назначения окованное деревянное колесо, странным образом выкатившееся из огня невредимым.
– По-моему, это кузница, – сказал отец. – То есть была когда-то кузница.
Судя по всему, сгорела она недавно. Головешки были как масляные. Трава ещё не успела прорасти сквозь выжженный круг.
Ни единый человек не обнаруживал присутствия, ни единый звук, кроме разбойного ветрового посвиста, не тревожил тишины бездорожной, озёрно-луговой земли.
– Как монголы прошли, – оглянулся на сгоревшую кузницу отец.
Дорожка прижалась к полю, на котором когда-то что-то (только не сейчас) произрастало. От тех времён осталось добротное, с удивительным тщанием сработанное чучело: в драной ушанке, из-под которой смотрела картонная маска, в чёрной арестантской (как будто снятой с коршуна) робе с нашитым тюремным номером, в ватных клочкастых штанах, в заскорузлых серых кирзачах.
– Это памятник, – предположил Леон. – Зачем на пустом поле чучело?
Ветер подул сильнее.
Чучело-памятник бесшумно повернулось, взмахнув рукавами, обратив к машине волчье (теперь было видно, что маска волчья) шапочное лицо.
Если это было чучело, то, судя по технической смекалке, старанию, какие вложил в него неведомый творец, деревья с золотыми монетами, не иначе как в Стране Дураков, должны были произрастать на этом поле. Если же памятник, то воистину гениален был автор, так как ещё ни одному скульптору за всю историю человечества не приходило в голову делать движущиеся памятники. И вообще, не отделаться было от мысли, что после изготовления чучела-памятника неведомому хозяину как-то стало уже и не до поля. Какое, к чёрту, поле, когда такое чучело!
Подъезжая к внушительному, до половины обложенному а белым кирпичом, дому, причём с большим запасом по периметру, так что сморщенная, крытая дранкой крыша высовывалась из белого кирпичного скафандра, как обезьянья голова, Леон и отец увидели на сей раз определённо живого человека, однако пребывающего в состоянии чучела-памятника, без его, впрочем, лёгкости, отзывчивости на ветер.
Босой, в завёрнутых до колен штанах, в чёрной коршунячьей рубахе, крылато выпущенной поверх штанов, стоял этот человек, взявшись одной рукой за забор, мерно, как маятник или метроном, покачиваясь в такт одному ему слышимому ритму.
– Смотри-ка ты, встречает! – засмеялся отец.
Встреча, однако, получалась какой-то односторонней.
Отец и Леон радостно хлопали дядю Петю по плечу, что-то говорили, доставали из машины, ставили на траву сумки, рюкзаки, коробки. Дядя Петя же продолжал молчаливо покачиваться, не решаясь отстать от забора.
– Петька… твою мать! – заорал ему в ухо отец. – Давай помогай, показывай, куда нести!
Но дядя Петя как стоял, так и продолжал стоять. И – как бы издеваясь – ещё и прикрыл глаза.
– Сволочь! – вцепился в рубаху, затряс брата отец. – А я ему деньги привёз! Да разве можно тебе оставлять деньги!
– Во даёт! – гусем гоготнул дядя Петя, вроде бы отходя от странного средь бела дня вертикального сна, но не отнимая руку от забора. – Письмо получил. Ждал. Как через ручей перебрались? Четыре дня как из ведра. Не смыло мост?
– Как из ведра? – Отец посмотрел на небо. Затем – под ноги. Небо было без единого облачка. Сухим, горячим было джинсовое зайцевское небо. Такой же сухой, горячей была земля. Словно отлитая из ртути, ящерица замерла между босыми стопами дяди Пети, обнаружив там тень.
– Какое число? – Дядя Петя наконец отнял руку от забора, с трудом, как начинающий ходить младенец, удержал равновесие. – Прошёл, что ли, дождишка?
– Ты когда начал пить? – побледнел от негодования отец.
– Во вторник, – и не подумал запираться дядя Петя. – Как дождь пошёл. Водочку со строителями. Потом… – разодрал рот во внезапном самопроизвольном зевке, – самогон, бражж… дрож… о…колон «Леопард».
– Дрожжи? – с невыразимым отвращением переспросил отец. – Жрал дрожжи и запивал одеколоном?
– Чтобы жрал дрожжи, не помню, – не без достоинства уточнил дядя Петя. – Одеколон, было дело. «Леопард», пятнадцать рубчиков за флакон.
– Да ты, б…, миллионер! – не сдержался отец. – А пишешь, денег нет!
Дядя Петя шумно (но не покаянно) вздохнул. Отец брезгливо отстранился.
– Сегодня вторник, – сказал отец. – Ты пил ровно неделю. Почему ты живой? Ты же недавно из ЛТП. У тебя вшита в задницу эспераль. Сколько хоть месяцев прошло?
– Три месяца. – Дядя Петя поднял было с травы сумку чтобы нести в дом, да тут же и опустил, мгновенно и крупно вспотев. Его стал бить озноб, да такой, что зубы застучали. – Эсперальку разрядить не проблема, – с трудом проговорил дядя Петя. – Это я как только вышел, сразу, на всякий случай. Кефир. По капельке одеколона в чай. Свежую бражку. Вторник, говоришь? Значит, на неделю прохудился.
Леону надоело слушать. Он решил осмотреть хозяйство новоявленного советского (русского) фермера, бывшего (хотя бывшего ли?) алкоголика, хитроумно «разрядившего» вшитую в задницу эспераль, в три месяца перелечившегося после трёхлетнего лечения в ЛТП и тем самым замкнувшего круг: пьянство – трезвость – бесконечное пьянство.
– Лёнька! – как будто только что увидел его дядя Петя. – Где морду покорябал? Я тебе комнату начал делать на… прошлой неделе, – память возвращалась к дяде Пете волнами. И каждая волна несла ужас.
– Мне? Комнату? Где? – удивился Леон, настолько нереальным казалось понятие «комната» в виду странного, как бы забираемого в силикатный кирпичный кокон (как будто тут планировался музей крестьянского быта), чёрного дома.
– На чердаке, – дядя Петя сделал было шаг, но стал как вкопанный, страдальчески сморщился, схватился за сердце.
Выход из недельного запоя был мучителен. Сегодня дядя Петя был не работник. Сегодня он был никто и ничто. «Тварь дрожащая», по определению Достоевского.
Между тем подворье, куда вступил Леон, производило весьма приятное впечатление. Тут было очень чисто, как будто метлой подметено. Грядки на большом огороде были тщательно вскопаны. Даже не столько вскопаны, сколько размельчены в чёрную пыль. Леону ещё не приходилось видеть таких аккуратных грядок. Удивляло, правда, что абсолютно пусты были грядки, ни единого зелёного ростка, ну, да неизвестно, что там дядя Петя посадил. Может, какую позднюю культуру?
И тихо, пустынно было на подворье.
Только в дощатом сарайчике слышалась возня.
Леон отодвинул щеколду, открыл дверь, заглянул в сарайчик, да тут же и отпрянул. Как будто снаряды ударили в перегораживающую сарайчик стену. Затрещала стена. Три круглые головы возникли над ней. Леон определил в полутьме что это свиньи с необычайным проворством встали на задние лапы, положив передние на стену, и смотрят на него. При этом они не хрюкали, а по-человечески рыдали и грызли доски.
Дядя Петя, оказывается, наблюдал, держась за сердце. Когда Леон выскочил из сарайчика, он почти так же, как свиньи, прорыдал:
– Живые?
– Живые, – сказал Леон. – Доски грызут.
– Пьянствовал и скотину не кормил? – спросил отец. – Фашист!
– Мужики обещали, строители, – дядя Петя трудно повёл закостеневшей шеей, как бы желая увидеть этих самых неведомых мужиков-строителей.
– Мужики, строители, – покачал головой отец. – Такая же пьянь, как ты! Где они?
Их не было.
Теперь Леону открылось имя метлы, чисто выметшей подворье: голод.
В пустом курятнике обнаружилось несколько засохших, частично втоптанных в глину, частично расклёванных цыплят. Пока Леон тупо смотрел на них, пытаясь сообразить, где остальные, дядя Петя выговорил ещё одно слово: «Кроли», слабо махнул рукой в направлении многочисленных клеток на курьих ножках в конце подворья.
Леону стало не по себе, однако ветерок, тянувший от клеток, был не смраден. Вроде бы смотрели издали сквозь сетку расплывчатые серые и белые кроличьи морды. Уши над их головами, правда, лежали, а не стояли в виде латинской «V» – знака победы, какой выбрасывают на пальцах перед телекамерами борцы.
– Живые! Все живые! – крикнул Леон.
Кролики были живые, но странные: сосредоточенные, неживотно-просветлённые, как бы познавшие некую истину в своих идеально чистых, сухих и тёмных, как кельи, клетках.
Чем пристальнее всматривался Леон в тёмные иноческие пространства клеток-келий, тем очевиднее становились ему составляющие насильственного кроличьего гигиенизма. Вот промелькнул красноглазый белый счастливец, доедавший с дощатого пола остатки сухой сенной подстилки. Вот увиделся другой (счастливец ли?), неторопливо и тщательно подбиравший сухие чёрные горошины собственного дерьма. Наконец, предстала жирная и гладкая, как вавилонская блудница в мехах, сыто дремлющая крольчиха, пожравшая крольчат, от которых остались обрывки ушей да кожистая слизь на полу.
Кролики смотрели на Леона с каким-то необъяснимым достоинством. В отличие от свиней, не суетились, ничего от него не требуя. То было спокойное достоинство перехода от презрения к смерти. Смертельного презрения. Или презрительной смерти. Как угодно.
Прежде Леон полагал, что святыми бывают исключительно люди, твёрдо сознающие, за что страдают. Теперь ему открылось, что не могущие этого осознавать, страдающие животные – не менее святые. Леон взмолил Господа, чтобы Он брал их к себе не раздумывая, всех без исключения, съевших и несъевших собственных детёнышей, автоматом предоставлял им политическое убежище от людей.
Один рыжий кролик сидел, как Будда, скрестив верхние и нижние лапы. Он внимательно посмотрел Леону в глаза и… оторвался от пола, завис, не меняя позы, в воздухе. Стало быть, волшебным искусством левитации, подобно индийским йогам и тибетским магам, овладел не по своей воле победивший плоть несчастный кролик.
Дядя Петя тем временем доковылял до грядок. Предсмертную просветлённую тишину разбил его вопль:
– Куры!.. Весь огород!
– А ты что думал, – с отвращением посмотрел на него отец. – Построил социализм в отдельно взятом хозяйстве. Ещё бы денёк попил, и полный и окончательный переход к коммунизму!
– Пересевать, – тупо произнёс дядя Петя. – Всё пересевать. А семена? – гневно повернулся с протянутой рукой к отцу, словно тот немедленно должен был насыпать ему в руку семена, да столько, чтобы хватило на пересев.
– Зато огород не вскапывать, – утешил брата отец, недоуменно отведя протянутую руку, как шлагбаум. – Вон как курята славненько вспахали.
– Где? – лаконично осведомился дядя Петя.
– Что где?
– Где они?
– Кто они?
– Куры, утки, гуси, где?
– Ты нас спрашиваешь? – изумился отец.
– Вы когда приехали?
– Да ты что, гад, тормозную жидкость, что ли, жрал? – заорал отец. – Не можешь в себя прийти?
Леон подумал, что дядя Петя пребывает в состоянии так называемого параллельного сновидения. То есть как бы ещё спит но уже и сознаёт, что нет. Дядя Петя параллельно (точнее, вертикально, на ногах) спал и грезил, что приезд родственников, разорённый курами огород, многодневно некормленные животные – всё это досадное наваждение. Но уже стучалось в проспиртованную голову, что нет, не наваждение, самая что ни на есть реальность. А за ней – тёмный, пьяный многодневный провал, во время которого что-то, к сожалению, происходило, ещё как происходило, и ещё только предстоит исчислить самонанесённый ущерб.
Леону вдруг почудилось, что параллельный сон, как невидимый клей, разлит над страной, миллионам людей хочется длить и длить этот сон, чтобы не просыпаться, не вспоминать о пьяно-безумном провале, не исчислять ущерба, то есть не жить. Вернее, продолжать жить во сне.
И совсем неуместная, решительно никак не связанная с происходящим мысль посетила Леона – о некоем отклонении, как вирус в компьютерную программу, вошедшем в коллективную мечту (сон) народа о царстве Божьем на земле да и переведшем народ, как стрелочник поезд, в режим параллельного (между золотым сном и провальной реальностью) существования, когда добро снится, зло же творится неустанно, и нет выхода, так как сам народ спит, сам творит и сам не хочет просыпаться.
Леон знал имя единственного, кому по силам задать подобное отклонение, и чем далее, тем менее понимал мысль Божью относительно России. Не вознамерился же Господь уподобить её рыжему, освоившему искусство левитации, кролику – победителю собственной плоти? Диккенсовский совет сражаться за жизнь до последней возможности уже не представлялся Леону бесспорным. За жизнь – возможно, но не за параллельное же сновидение?
Леон вспомнил машину с водкой, пробирающуюся по ухабам к пустому мушиному магазину, чёрным, рассевшимся на оплетаемом травой крыльце людям. По Господу выходило: единственным способом облегчить страдания летящему в пропасть народу было лишить его воли и желания жить. Для чего требовалось всего-то ничего: последовательно превращать его земную жизнь в ад. Что и делалось с известной, впрочем, непоследовательностью, связанной исключительно с истощением фантазии у правительства.
Тем самым расставлялись последние точки над изгнанным из русского алфавита «i». Как дива на конкурсе красоты, обнажалась в нестерпимом сиянии вторая (так уж вышло, что Леону сначала открылась вторая, а потом первая) мысль Господа: не сам золотой сон (коммунизм) есть смерть, но дерзновение претворить его в жизнь. Подобно языческому Аполлону, с несчастного пастуха Марсия, возомнившего, что он лучше играет на флейте, сдирает Бог живьём шкуру с народа, возомнившего (по его же, Божьему, наущению) что лучше Бога построит на земле царство Божие.
Получалось, не параллельное сновидение, не прозрачный клей разливались над страной, но живая смерть, и, осознав это, Леон в страхе отвернулся от Господа своего, первоначально определившего на смерть возлюбленного ненавидимого (вот первая мысль!) сына, теперь же – возлюбленный ненавидимый народ.
Леону надоело слушать, как отец честит дядю Петю. Это отец-то, который сам любил сиживать с красным носом на кухне, критиковать (главным образом за преступную нерешительность в деле наведения порядка) правительство, вносить уточнения в идею, которая, в отличие от правительства, критике не подлежала.
По части выпивки отца от дяди Пети отличало то, что он не пил до потери сознания, не уходил в недельное небытие. Непринципиальное это (ведь так или иначе оба пили) отличие тем не менее позволяло отцу оставаться нормальным в общем-то человеком, в то время как дядя Петя, могущий любой момент запить и выпасть из жизни, как из гнезда, уже таковым не являлся. Разве пустит нормальный человек из-за пьянки прахом с таким трудом созданное хозяйство? Леон вспомнил термин из учебника географии – «Зона рискованного земледелия». Подумал, что дяди Петина усадьба – «Зона рискованного хозяина».
Умеренность.
Всё в жизни, оказывается, крепилось на умеренности, невыпадении из гнезда. Социализм-коммунизм был подобен алкоголю. Иные народы лишь пригубливали, испытывая приятное озорное возбуждение, русский же упился до того, что перестал быть народом.
– Нарвать кроликам травы? – предложил Леон оживающему дяде Пете.
– Не надо им сейчас травы, – ответил дядя Петя, – замешаю комбикорм. Иди птиц поищи. Утки и гуси, наверное, на озере. Куры… – тяжело вздохнул. – Увидишь, гони сюда, я им засыплю.
– Увижу где?
– Там, – дядя Петя широко обвёл дрожащей рукой заросшие подлеском поля за оградой. – Там они ходят.
Леон вышел за ограду – в лесополе, в зелёные лопушьи уши, в цветотравы, в горячий сухой ветер, в стрекотание кузнечиков, густой медовый лёт пчёл и шмелей.
Может, где-то и ходили дяди Петины птицы, но не возле ограды.
Леон шёл и шёл по лесополю, всё больше превращающемуся в лес, а не видел их. Уже до самого озера, до травяного холма, за которым вставал стеной настоящий лес, добрался Леон, а не было ни кур, ни уток с гусями, хотя он внимательно отслеживал ломаную береговую озёрную линию.
Не в лесу же искать?
Леон решил возвращаться.
Как случилось странное.
С травяного холма молча (вот что удивительно: молча!), подобно лавине, только не из снега, а из перьев и пуха, слетели-скатились куры, утки, гуси, сбились возле ног Леона в горячую, тесную, постепенно обретающую голос, насмерть перепуганную стаю. Эдаким святым Иеронимом, большим, как известно, другом зверей и птиц, топтался Леон у подножия травяного холма по колено в домашних, отчасти, впрочем, одичавших птицах. Вот только причины их внезапной привязанности не понимал.
Но понял, взглянув на вершину холма.
Там стояла большая серая собака с гусем в зубах и без малейшего почтения (плевать ей было, что он святой Иероним) смотрела на Леона. Бездыханный тяжёлый белый гусь, которого собака волочила за шею, лишал её свободы манёвра. Расставаться с гусем, как с синицей в руках, которая лучше журавля в небе, собака не желала. Только это и выручало пока остальных.
Как бы там ни было, собака смотрела сверху вниз на Леона, и чем дольше она смотрела, тем меньше нравилась Леону.
Какая-то она была несобачья эта собачка: с конической рыже-серой мордой, широко расставленными пирамидальными ушами, зелёно-жёлтыми светящимися глазами, в которых определённо угадывалась задумчивость, предшествующая принятию решения. Нестандартного решения, тревожно отметил про себя Леон.
– Пошла вон, дрянь! – заорал, замахал руками.
Однако собака, вместо того чтобы поджать хвост и убежать, напротив, вытянула его в линию с туловищем, отчего сделалась длинной и заострённой, как пика с бунчуком. Чуть присев, не поползла, а низко пошла с холма на полусогнутых (первый раз в жизни Леон видел, чтобы собака так ходила) по-прежнему уставясь ему в глаза.
Тут на озере грохнул выстрел. Какая-то сволочь била гнездящуюся утку, положив на запрет. Выстрел доскользил до берега по воде, как по маслу. Нет для звука лучшего проводника, нежели безмятежное водное пространство.
Собаке, несмотря на всю её нестандартность и изощрённость, всё же слабо оказалось просчитать отдалённость нахождения стрелка. Перекинув задавленного гуся на спину, как наволочку с уворованным добром, исчезла за склоном.
Леон перевёл дух.
Ему было не отделаться от мысли, что не просто так смотрела на него собака. Не на птиц она нацеливалась на полусогнутых с холма, а на него, потому что мяса в нём поболее, чем в гусе.
До сего мгновения кем и чем угодно ощущал себя Леон, но никогда ещё – мясом, на которое кто-то может покуситься, охотничьей дичью. То было совершенно новое ощущение, и нельзя сказать, чтобы оно обрадовало Леона. Если дела и дальше пойдут, как сейчас, подумал он, у этого ощущения большое будущее.
Леон поспешал по лесополю, опасливо косясь по сторонам: вдруг непотребная псина зайдёт с фланга?
Спасённые птицы оживлённо и тревожно гоготали, крякали, кудахтали.
Однако когда показались жерди вдоль столбов, символизирующие ограду вокруг дяди Петиной усадьбы, гигантский бело-коричневый петух с гребнем, напоминающим не расчёску, но многорядную массажную щётку, явил враждебность: сверкнул рубиновым, как кремлёвская звезда, глазом, как-то боком с опущенным крылом и подскрёбом подобрался к Леону с явным намерением клюнуть, уязвить шпорами.
– Сволочь! – отпихнул Леон колышащуюся бройлерную тушу. – Сволочь неблагодарная! Лучше бы тебя сожрала собака!
Отчего-то не забывалась разбойная собака с гусем «зубах. «А остальные гуси уцелели, – тупо подумал Леон. И нечто совершенно несуразное: – Так и Бог прихватил один народец, а остальные отпустил. До поры».
Дядя Петя между тем медленно, хватаясь то за голову, то за поясницу, но с нарастающим автоматизмом входил в работу. Уже осатанело, так что тряслась сараюшка, насыщались пойлом свиньи. Инокам-кроликам дядя Петя задавал похожий на дерьмо комбикорм из страшного выщербленного таза, который, хрипя, волок за собой вдоль клеток на тележке.
– Слава Богу! – смахнул пот со лба, удовлетворённо проводил взглядом устремившихся к кормушкам птиц.
Свободная жизнь в лесополе, судя по их безумному аппетиту, оказалась не больно сытной.
Леон поведал про собаку, задавившую гуся. Дядя Петя пересчитал птиц.
– Четыре кроличьих приплода, – подвёл недельные итоги, – двенадцать цыплят, две утки и два гуся. – И честно, с облегчением признался: – Могло быть хуже. Ах да, – помрачнел, – огород.
Из дома вышел отец.
– Почему столько мух? Клейкую ленту не можешь повесить?
– Мух? Не замечал, – пожал плечами дядя Петя.
– В пасть летят, а он не замечает! – Скрутив из газеты жгут, отец вернулся в дом. Оттуда донеслись глухие хлопки.
– Это не собака, – сказал дядя Петя.
Собственно, Леон и так знал.
– Хитрый змей, совершенно человека не боится! – с непонятной гордостью добавил дядя Петя. – Этот, как его… мутант. По радио передавали: сейчас через Куньинский район пробег дикого чернобыльского зверья. В Зайцах волк. В Песках медведица три пасеки разнесла. В Урицком от кабанья нет житья.
– Куда они бегут? – спросил Леон.
– Бог их знает, – пожал плечами дядя Петя.
Тут чернорубашечник-коршун низко скользнул над усадьбой, обеспокоив крестовой тенью кормящихся домашних птиц.
Из дома, устав биться с мухами, выглянул отец.
– Где веник? – озадачил брата второстепенным вопросом.
– Столько наколотил? – удивился Леон.
– Пола не видно, – ответил отец. – Но там ещё столько же.
– Веник? Где-то был, – сказал дядя Петя.
– Ну да, конечно, зачем тебе веник? – угрюмо посмотрел на брата отец. – Без веника живём!
– Ох…! – дёрнулся дядя Петя. – Надо сети проверить! Неделю на озере не был.
– Не трудись, браток, – отец не без злого удовольствия шекспировски ужесточив и приукрасив, передал дяде Пете слова магазинных мужиков. – Если уж ставишь сети добавил от себя, – так проверяй и стереги!
– Значит, теперь без рыбы, – без большого, впрочем огорчения констатировал дядя Петя, что можно было объяснить либо общим (временным?) ослаблением его умственных способностей, либо (тоже временным?) отсутствием аппетита после недельного запоя.
– Конечно, зачем тебе рыба? – усмехнулся отец. Таким образом, к ущербу, исчисляемому разорённым огородом, втоптанными в землю (не иначе как гигантским бройлерным петушиной) цыплятами, унесёнными не ветром, но облучённым волком утками и гусями, добавились украденные из озера триста метров сетей, исправно поставлявших к дяди Петиному столу рыбу, а также кузница, та самая, сожжённая, которую, оказывается, председатель здешнего колхоза перед самой пьянкой отписал дяде Пете, чтобы тот переоборудовал её в хлев и запустил в этот хлев бычков.
– С двадцать шестого года стояла брошенная, – сказал дядя Петя. – А как мне – сразу сгорела. И когда? В дожди. Пусть прокурор разбирается. Завтра же отошлю заявление.
Сидели в доме за столом.
Но как бы и не совсем в доме. Дядя Петя присоединил к дому посредством кирпичных стен и продления крыши изрядный кус пространства. Но пока ещё не окончательно присоединил. Стены были не до самой крыши, а крыша не наглухо закрывала небо. Сквозь разреженные доски смотрели ранние, белые, как недозревшие яблоки, звёзды. Ласточки, по старой памяти устроившие гнездо под прежней (непродлённой) крышей, теперь были вынуждены непрерывно преодолевать новое пространство. Странно было сидеть в комнате за столом, видеть сквозь доски над головой белые звёзды и чтобы ласточки туда-сюда.
Дядя Петя объяснил, что так длинно продлил дом, чтобы сделать не только ещё одну комнату, но и веранду, а под ней подвал.
И действительно, заключёнными в кирпич, широченными рамными переплётами была обозначена веранда. Подвал же был обозначен огромной и, судя по всему, глубокой, как будто экскаватором вырытой, ямой, в которой сейчас, как в котловане, стояла вода.
– Подвал? – с сомнением посмотрел на яму отец. – Я думал, бомбоубежище. Или пруд для рыбы. Сети-то у тебя всё равно украли.
Леон подумал, что если бомбоубежище, то своеобразное, куда в случае чего надо прыгать с аквалангом. Если же пруд, то не для рыбы, а для лягушек. В этом случае дяде Пете предстояло выйти на прямые связи с Францией.
Со звёздами сквозь доски и ласточками над головой вполне можно было мириться. С комарами, звенящими кимвальными волнами, плывущими от ямы, мириться было сложнее. Они как будто нагуливали особенную ярость в рукотворной яме, жалили часто и больно, как поражали библейскими кинжалами.
Некая смиренная благодать разлилась над накормленным подворьем, сродни той, какая разливается над очередью, когда продавщица клятвенно заверяет, что хватит всем, кто стоит, а новых удачно отсекли дверью.
«Порядок – есть регулярный приём пищи, – подумал Леон. – Регулярный приём пищи – есть любовь. То есть порядок есть любовь через регулярный приём пищи».
Огромная страна вдруг представилась Леону Джульеттой, вожделеющей любви-порядка, то есть регулярного приёма пищи. Было в высшей степени странно, что до сих пор не объявился Ромео. Вероятно, Джульетта, по его мнению, была не вполне готова к любви, то есть недостаточно голодна. Леон был вынужден признать, что время работает на неведомого Ромео.
Кролики оказались беззвучными как в голоде, так и в сытости.
Птицы, утомлённые опасной лесной свободой, спали в курятнике. Гуси и утки смешанно в углу на сене, засунув клювы под крыло, как градусники. Куры во главе с недружественным к Леону петухом – на насесте. «Как эта туша взбирается на насест?» – удивился Леон.
Только свиньи подавали голос из сарая, прозрачно намекая, что неплохо бы ещё пожрать. Но дядя Петя решил выводить их из голодухи по-научному, то есть постепенно, как если бы свиньи прошли курс не стихийного, а лечебного – под наблюдением ветеринара – голодания.
На столе теснились привезённые из Москвы продукты. На газовой (от облупленного красного баллона) плите готовился закипеть партизанский чайник, навсегда скрывший свой первоначальный цвет под многими слоями копоти.
Отец достал из рюкзака початую «Посольскую», долго придирчиво изучал дно эмалированной (из столового дяди Петиного сервиза) кружки.
– Керосин, что ли, пил? – Тщательно вымыл кружку под рукомойником.
Дядя Петя никак не отреагировал на появление «Посольской». Отцу не пришлось объяснять, почему он ему, леченому, но сорвавшемуся, а потому хуже, чем просто алкашу, не нальёт.
А хотелось объяснить.
– Будь здоров, фермер! – буркнул отец, выпил из кружки. После чего, жуя, продолжил мысль: – Не знаю, можно ли у тебя оставлять парня? Дикое место. И сам, как зверь живёшь.
Плеснул себе ещё.
Дядя Петя не ел. Сидел с широко открытыми глазами, внимательно слушал отца, как бы стопроцентно с ним соглашаясь, но при этом медленно и неотвратимо, как Пизанская башня, клонился на стол. Только если Пизанская башня много лет клонится и не падает, дядя Петя рухнул лбом на стол, отец едва успел выхватить из-подо лба кружку с водкой.
– Никак, заснул? – удивился дядя Петя, потирая лоб.
Отец молча, уже не желая ему здоровья, выпил.
– Решай, – сказал Леону. – От него сейчас толку нет. Как приехали, так завтра и уедем.
– Поднимусь наверх, – ответил Леон. – Посмотрю комнату. Он говорил про какую-то комнату.
– Ноги не переломай, – отец с сомнением посмотрел на ведущую на чердак лестницу. – Откуда там комната? Приснилась ему комната.
Леон поднялся по прогибающейся скрипучей лестнице.
Старая крыша, в отличие от новой, не пропускала света. Леон ощупью, натыкаясь на невообразимый хлам, добрался до липкой жёлтой – из свежеоструганных досок – двери.
Незаконченная комната изумила нездешним интерьером.
Леон подошёл к наклонному, как в мастерской художника или в обсерватории, окну, долго смотрел на вечернюю безмятежную землю: серое, слившееся с небом, заглотившее белые звёзды, озеро, ясные поля и леса, дымящиеся туманы, овраги и низины.
Чем дольше смотрел Леон на обычную в общем-то русскую равнинную землю, тем пронзительнее и безысходнее входила в его сознание внезапная и необъяснимая (в конце кондов, что ему, горожанину, до заброшенной бездорожной земли?) любовь. Любовь, по всей видимости, иррациональная уже в силу своей самодостаточности. То есть она вдруг обнаружилась, как если бы всегда была, и не было ни малейшей потребности какое-то давать ей логическое объяснение, заключать в словесную форму, перед кем-то (да перед кем, кому какое собачье дело?) отчитываться, оправдываться, гордиться или каяться и таиться.
Выставившись из окна на дальнюю эту землю, Леон (по крайней мере, так ему показалось) понял, что есть любовь Господа к людям. А поняв (по крайней мере, так ему показалось), чуть не залился горькими слезами вместе с Господом своим. Ибо и Леон и Господь его (Леон с недавних пор, а Господь ещё с каких давних) были патриотами, то есть носили в сердцах любовь к несовершенному, если не сказать хуже: воинственно-несовершенному, упорствующему в несовершенстве, идущему в несовершенстве навстречу гибели. И не могли перестать любить, так как перестать любить означало ле жить.
Леон легко, как по эскалатору, спустился по ненадёжной лестнице вниз. Небрежно сказал задумавшемуся над водкой отцу, что, пожалуй, поживёт немного тут, а если станет невмоготу, даст телеграмму, чтобы отец приехал и забрал. Или сам вернётся на поезде. Только так, в кажущемся небрежении, Леон, как жемчужину в навозе, мог сокрыть острую и нелогичную любовь… к чему? А если бы вдруг открылся отцу, тот, вне всяких сомнений, увёз бы назавтра Леона в Москву, опасаясь за его рассудок.
Ибо только сумасшедший (и Леон это понимал) мог вдруг возлюбить то, что здесь увидел.
Отец опять (в который уже раз?) налил и выпил.
– Да сдюжишь ли ты, Петя, с таким хозяйствищем, не надорвёшься?
Но ответа не получил, так как задавал вопрос хоть и сидящему за столом с открытыми глазами, но мёртво спящему человеку.
Комнату на чердаке своего недостроенного дома дядя Петя сделал не иначе как насмотревшись рекламных западных проспектов. Там на глянцевых страницах счастливые загорелые мужчины и женщины стояли, обнявшись у окон таких вот деревянных комнат загородных особняков, держа в руках бокалы со светящимися неземными напитками.