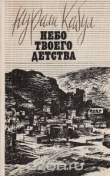Текст книги "Узбекский барак"
Автор книги: Юрий Черняков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Не может быть, чтобы они друг друга не заметили, подумал Игорь Андреевич. Наверняка увидели и оценили мгновенными взглядами, не привлекающими внимания. И возможно, интуитивно нашли слишком много совпадений. Они из тех, кто опасается попасть в зависимость к себе подобным и потому никогда ни в чем не идет на уступки, даже взаимные. Вот почему они всегда избегают искать себе ровню, выбирая лишь тех, кому можно снисходительно покровительствовать и от кого при желании легко освободиться, избавиться.
"Давай, родная, не будем бояться жизни и всегда встречать ее с открытым забралом. Тогда наше от нас не уйдет" – вспомнил он слова, которые незадолго до своей смерти сказала мать Марине. Тогда он ощутил нечто вроде детской обиды и зависти к собственной дочери. Ему мать таких слов не говорила. Не в сыне, а во внучке она хотела видеть свое продолжение. После смерти бабушки Марина преобразилась, стала особенно на нее похожей. А ее повседневность сразу наполнилась тем, чего бабушка была лишена в молодости и теперь будто наверстывала, перевоплотившись во внучку.
Их сходство было не столько внешним, сколько по существу – в характерах. Мать меньше всего волновало чье-то мнение о ней – и Марина не искала в чужих взглядах оценку собственной персоны. Похоже, парень, скрывшийся тогда в толпе, был из той же породы, что и она с бабушкой...
– Папуля, здравствуй, как вы там, не скучаете?
– Здравствуй. Скучаем, и еще как, – ответил он, взглянув на проснувшуюся жену. – Даже когда спим.
– Все время забываю про эти часовые пояса... – вздохнула Марина. – Не сердись, ладно? Тут такое пекло, все позабудешь. А Олег, как всегда, забыл мне подсказать... (Она с нажимом напомнила имя своего нового друга, на случай, если родителям вздумается с ним поговорить.) Кстати, он передает вам привет. Ты меня слышишь?
– И ему от нас, – буркнул Игорь Андреевич, переглянувшись с женой. – Его зовут Олег... – сказал он жене вполголоса, прикрыв ладонью трубку.
Ему вспомнились слова доктора Фролова о любви и о творчестве, останавливающих время. Год назад он был в командировке в Испании, где узнал, что такое сиеста, и сейчас подумал: тамошняя жара, когда лень даже взглянуть на часы, справляется с этим не хуже.
– Не сердись, пап, ладно? Лучше скажи, что твой целитель?
– Он не целитель, а настоящий врач, – Игорь Андреевич недовольно взглянул на жену.
Оказывается, они еще раньше успели созвониться и поговорить по поводу его сегодняшнего визита.
– Скажи Марине, чтобы поменьше болтала, – сказала Полина. – Это сейчас дорого стоит.
– Скажи это сама, – протянул ей трубку Игорь Андреевич.
Жена проговорила с дочерью еще минут двадцать.
– Ты же знаешь, с некоторых пор с Мариной постоянно что-то случается, проговорила она, – и как отец мог бы ей сказать, что не с ее здоровьем разъезжать на верблюдах при жаре 38 градусов.
– Сказала бы и ты как мать, – буркнул он.
– Я ей говорила, но она лишь тебя слушает, – ответила Полина, повернувшись к нему спиной. – Так уж твоя мать ее настроила. Выключай свет... Кстати, она спросила, подумал ли ты, чем отдавать ее долги?
– Опять долги... – проворчал он. – Сама заняла, пусть думает, как отдать.
Он долго не мог заснуть. Он лежал на спине, закрыв глаза, наблюдая за бликами автомобильных фар с улицы, медленно ползущими по потолку.
Все видевшие фотографии его матери в молодости говорили, что Марина копия бабушки Ларисы. Игорь Андреевич почти не помнил молодого материнского лица. А старые фотографии весьма приблизительны: об одних рассказывают много, о других почти ничего. Мать относилась к последним. Ее лицо было чересчур живым и изменчивым. Она, как и Марина, принадлежала к такому типу женщин, чью прелесть трудно уловить. Легкие, мимолетные выражения их лиц не поддаются запечатлению. На фотографиях же у матери всегда натянутое выражение, с каким она обычно смотрелась в зеркало, постоянно оставаясь недовольной тем, что там видела.
Тогда все обожали фотографироваться, вместе или поодиночке, – возможно, из неосознанного стремления остановить время, как полагал доктор Фролов. Или из желания казаться лучше, чем есть. Впрочем, это одно и то же.
И все же, разглядывая ее на старых фотокарточках – темноглазую, осунувшуюся и бледную, одетую в телогрейку или большую, не по росту, спецовку, – он не мог не видеть, как ей подходит давно вышедшее из обихода определение "интересная".
Марина росла худущей, выше всех в классе, мальчики в лучшем случае не обращали внимания, а это ее злило. Как-то в семейном кругу, когда отмечали за чаем с тортом ее шестнадцать лет, Марина назвала себя "нецелованной дылдой, не знающей, как избавиться от своей невинности, хотя все подруги уже успели ею распорядиться".
– Кое-кто уже сделал аборт, – добавила она в полной тишине. – А я так и буду при вас всю жизнь?
– Не будь дурой, – строго сказала ей бабушка, пока опешившие родители приходили в себя. И добавила эту самую фразу: "Давай не будем бояться жизни, всегда встречать ее с открытым забралом, и наше от нас не уйдет".
– Что вы такое говорите, Лариса Михайловна? – ужаснулась жена.
– Только то, Полина Николаевна, что вы уже давно должны были сказать своей дочери, – отрезала мать и снова обратилась к внучке: – Ты, Маришка, слава Богу, пошла в меня. А значит, у твоих ног будут мужчины, каких мы только захотим.
Мать была стихийной феминисткой еще до того, как это движение стало всемирным. Ей было уже за семьдесят, но она оставалась восприимчивой и терпимой к любым переменам, какими бы шокирующими они ни казались ее сверстникам и сверстницам. Она никогда не жаловалась и всегда возражала: хуже, чем наша старость, уже ничего не будет.
"Бабушка, если хотите знать, понимает меня лучше, чем вы!" – твердила Марина, ссорясь с родителями, и неизменно уходила к ней. С малых лет она чаще жила у бабушки, чем у родителей, постоянно разъезжавших по командировкам. И по праву считала родным домом квартиру в Сокольниках.
Стараясь вернуть расположение дочери, Полина перед ней заискивала, отчего та тихо зверела.
– Твоя мать во всем идет мне наперекор со дня нашей свадьбы. Если я скажу так, она обязательно – наоборот! – расплакалась однажды ночью Полина после объяснений со свекровью по телефону.
В последнее время у нее появилась прихоть – на ночь глядя выяснять отношения.
– Она всячески старается восстановить против меня Марину! Она все ей позволяет, лишь бы отнять ее у меня!
– Ты не можешь найти с дочерью общий язык, а кто-то тебе виноват... отвечал Игорь Андреевич.
Он захотел ее обнять, но получилось слишком нарочито, и Полина его оттолкнула.
– Кстати, она вовсе ее не задабривает, – добавил он. – Напротив, она к Марине очень требовательна. Но скоро это пройдет...
– Скоро? – жена сразу прекратила всхлипывать, приподнялась на локте и повернулась к нему лицом. – Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, результат гистологического анализа положительный?
Игорь Андреевич похолодел, услышав ее вопрос.
– Разве она тебе не говорила? – спросила жена после паузы.
– Нет... – покачал он головой. – Когда она тебе это сказала?
– Ох, совсем забыла... – охнула Полина, приложив руку ко рту. – Она же велела ничего тебе не говорить. Не хочет травмировать любимого сыночка. Не выдавай, ладно? Она слишком много курила, и вот результат. А я не раз ее предупреждала. Хоть бы дурной пример не подавала! Теперь Марина курит не меньше... Но разве твоя мать кого-нибудь послушает.
Последовавший затем разговор с матерью ни к чему не привел.
– Раньше ты была со мной откровенной и всем делилась... – упрекнул Игорь Андреевич мать.
– Кажется, я поняла. Твоя Полина проболталась. Хотя я ее очень просила не говорить. Можешь не переживать, сынок, результат анализа отрицательный. Что касается Марины, я просто хочу успеть дать ей то, что не смогла дать тебе.
Через два месяца она умерла в больнице, на другой день после того, как ее отвезли туда по "скорой". Марина в это время сдавала вступительные экзамены на журфак МГУ, и мать держалась до последнего дня, уверяя всех, что ее кашель от аллергии.
После похорон Игорь Андреевич нашел в потаенном ящике ее стола неиспользованные шприцы и капсулы с обезболивающими средствами. А среди бумаг рядом с завещанием, заверенным у нотариуса, лежал результат гистологического анализа. Он был положительным.
В день смерти бабушки Марина должна была сдавать английский. На экзамен она не пошла, ни в этот день, ни в другие.
Вскоре после похорон все заметили: Марина в одночасье похорошела. Будто опытный художник подправил портрет несколькими штрихами – положил вишневой спелости на губы, прибавив ясности и одновременно загадочности ее взгляду, чуть округлив щеки, колени и плечи. И получилась вылитая мать в юности, какой ее себе представлял Игорь Андреевич. Марине шел двадцать первый год, некоторые подруги уже прошли через свадьбы, роды и разводы, и ее начинало тяготить отставание.
Однажды, никого не предупредив, она отправилась на отборочный конкурс, устроенный неким модельным агентством из Италии. Марина рассказала об этом потом, когда подписала контракт. Она всюду и всегда опаздывала, и когда пришла туда, просмотр отобранных претенденток близился к концу.
Не останавливаясь, она прошла мимо охранников прямо к столу жюри и с любопытством уставилась на девушек, к тому времени оставшихся в одних купальниках. Сначала на нее обернулся один член жюри, затем другие...
Из Турина Марина звонила каждый вечер. Ныла, что все надоело и хочется домой. Мол, они с бабушкой наряжали кукол с большим вкусом, чем ее одевают здешние модельеры. К тому же не поймешь, где заканчивается этот второразрядный салон, а где начинается дорогостоящий бордель со славянскими девушками. На него она не подписывалась. Другие не прочь хорошо заработать и некоторым даже посчастливилось стать содержанками, но это не для нее. Мужики здесь как на подбор, одни брюнеты. Будто опять в Пицунду приехала... И все как один женатые. Наши девочки говорят, будто больше всего на свете здешние мужики боятся своих стервозных жен. Те, как в кино, следят за ними с помощью частных детективов. Разводиться опасаются, хотя римский папа им разрешил.
Словом, ловить там нечего. И вообще, она скоро отсюда сбежит, плюнув на контракт. Как сказала, так и сделала. Марина привезла с собой толстую пачку долларов и подарки родственникам, подругам и их детишкам.
Еще она поторопилась купить подержанный "фольксваген", но он оказался слишком коротким для ее ног, и Марина, потеряв на этом несколько тысяч долларов, вскоре его продала. На большую машину, которую она хотела, денег уже не хватало.
Были настойчивые звонки из Турина и предложения других модельных агентств, но она неизменно отвечала отказом, а самых настырных, не стесняясь родителей, посылала на три буквы. Полина охала, глядя на мужа, он хмурился, но не реагировал. Что-то объяснять Марина не собиралась: "Бабушка бы меня поняла", вот и весь сказ. Хотя снова поступать в МГУ уже не торопилась.
Марина устроила в огромной бабушкиной квартире в Сокольниках нечто вроде поэтического салона. Приводила туда бездомных котят, щенят и непризнанных гениев, в основном провинциальных, приехавших покорять столицу. Беспризорную живность она раздавала поклонникам, называя живодерами тех, кто отказывался, после чего они неминуемо теряли ее благосклонность.
Гениям из провинции Марина раздала остатки своего итальянского гонорара, а один, самый непризнанный и непричесанный, стал ее первым "бойфрендом". Марина внесла последние доллары на издание его первого поэтического сборника, а когда узнала, что он растратил их с какими-то наркоманами на Курском вокзале, прогнала его и в ту же ночь пришла к родителям, пешком через весь город, заплаканная и без копейки.
4
Узбеками или нацменами в М-ске назвали молодых парней, мобилизованных из республик Средней Азии, чтобы заменить ими ушедших на фронт.
Сначала их распределили по цехам и только к ночи определили, где им жить. Большую часть, сорок человек, поселили в только что отстроенном бараке, где жильцов не было. Им раздали по буханке черного хлеба и солдатскому матрацу, набитому сухим сеном, скинули с грузовика несколько "буржуек" и груду сырых дров. Замерзая в одних халатах и тюбетейках, они не спросили – постеснялись или не решились, – как ими пользоваться. Возможно, мало кто из них понимал по-русски.
В эту же ночь случились заморозки, и, чтобы согреться, они сгрудились вокруг единственной печки, которую удалось растопить, и заснули. Под утро начался пожар и несчастные сгорели, сначала задохнувшись от угарного газа.
Похоронили узбеков в общей могиле на городском кладбище. В холмик воткнули табличку, занесенную вскоре снегом, а весной ее уже не было – ушла на растопку.
Окончательно картина пожара в "узбекском бараке" сложилась уже после смерти матери. Недостающие подробности Игорь Андреевич узнал от соседа по бараку Алексея, ее неудавшегося поклонника и незадачливого гармониста.
Слушая рассказ, он вспомнил запорошенные снегом голые трупы любовников, женатого парня и его молоденькой соседки – он увидел их несколько лет назад, будучи по делам редакции в дальнем Подмосковье за Шатурой.
Морозной декабрьской ночью загорелась баня, стоявшая на берегу реки, где они в это время находились. Подожгла выследившая ревнивая супруга. Следователи районной прокуратуры захватили Игоря Андреевича с собой, чтобы он воочию увидел, как здесь раскрываются по горячим следам преступления. Старший следователь, осипшая пожилая женщина, заполняла протокол допроса непослушными от мороза пальцами. Мужеубийца привела с собой двух дочек, трех и семи лет, кое-как одетых, и это почему-то никого не удивило. В руках у младшей была кукла с надорванной шеей, отчего пластмассовая голова склонилась набок. Приоткрыв ротик, девочка смотрела на труп отца, примерзшего к соседской девице. Старшая хмуро смотрела в сторону и только отдергивала руку, когда младшая хотела о чем-то ее спросить. Мать равнодушно пожала плечами, когда у нее потребовали увести детей. Пусть сами идут. Тогда старшая так же молча увела сестренку. Они шли к деревне, маленькая все время оглядывалась, а старшая, одергивая ее совсем по-взрослому, ни разу не обернулась.
Мужеубийца даже не посмотрела им вслед. Когда что-то говорила, растягивая слова, от нее пахло дешевым портвейном, и следователи хмуро переглядывались. Она все отрицала, опустив глаза и поджав подрагивающие тонкие губы. И смотрела на голые тела у своих ног. Казалось, она всеми силами старается не выдать свое торжество, но ей это плохо удавалось. А потом, когда уже собирались уходить, вдруг стала рассказывать. Бесстрастно и глядя в сторону. Возможно, она уже в полной мере насладилась местью.
Позже следователь рассказала Игорю Андреевичу: жена выследила их, заперла снаружи на засов дверь баньки, облила стены керосином и подожгла со стороны предбанника. Отошла метров на сто и, не скрываясь, стала смотреть, слыша их крики о помощи. Будучи отрезанными от выхода, любовники прыгнули в речную прорубь, находившуюся под крышей бани. Он протащил девушку подо льдом до ближайшей полыньи. Там они вынырнули, выбрались на берег, побежали, проваливаясь в сугробах, к ближайшим домам.
После вскрытия выяснилось: их сердца разорвались от резкого переохлаждения.
...Многоликая богиня вечного обновления по имени Смерть приняла облик спившейся, рано постаревшей женщины в рваном ватнике и сапогах. Она привыкла играть с людьми на их жизнь, раньше или позже выходя победительницей. Особенно с теми, кто обитает на скованных ледяным дыханием океана пространствах Евразии, где среди орудий убийства холод и огонь – главные.
Чтобы люди не вымерзли и не разбежались, она одарила их неисчислимыми запасами пищи для огня. И убивает их особенно цинично и изощренно – если одни гибнут в огне, спасаясь от холода, то другие замерзают, спасаясь от огня. Но больше всего ей нравится, когда они убивают друг друга.
Лишь на три месяца в году богиня дает передышку и с усмешкой наблюдает, как одни спешат запастись пищей и топливом для продолжения ее игры, а другие спешат наверстать упущенные наслаждения, принятые у тех, кого круглый год обогревает Гольфстрим... И здешняя природа с грустью следит за суетливыми потугами людей переиграть Смерть.
...Однажды он увидел своих узбеков наяву. Была весна сорок второго. Звенела капель, первые ручьи пробивались друг к другу сквозь грязные сугробы. Мать впервые взяла его с собой на здешний рынок, находившийся недалеко от городского фонтана, где обменивали вещи на продукты.
Одетые в старые ушанки и телогрейки поверх грязных и рваных халатов, узбеки копали траншею. Рядом работали пленные немцы – клали кирпич, прокладывали трубы и кабели.
Командовал здесь кривой на один глаз инвалид в офицерской шинели с приколотой медалью, кажется, "За отвагу", в ушанке с темным следом от споротой звезды. Его левый глаз был полностью прикрыт огромным, вздувшимся веком.
Он уныло материл узбеков, а те нехотя и неумело, не веря, что у них что-то получится, долбили еще не оттаявшую землю.
На пленных кривой не кричал, только косился. Или не знал, к чему придраться, или побаивался. Немцы работали споро и сосредоточенно. Услышав детский плач, они подняли головы, а увидев мать, подмигнули ей, заулыбались, лающими голосами что-то сказали друг другу.
Узбеки тоже подняли головы и равнодушно взглянули на Игоря. Он заревел еще громче, потянув мать от этого места.
"Ну че уставились? Бабу не видели?" – крикнул кривой. Узбеки отвели взгляды, их спины послушно согнулись. Немцы будто не слышали и продолжали обмениваться репликами, пока один из них, по-видимому старший – высокий, белокурый и мосластый, – не прикрикнул на товарищей.
Игорь потащил мать за руку от этого места, но она подошла к кривому и о чем-то спросила. Его лицо будто разделилось надвое – если рот недоверчиво осклабился, то глаз масляно заулыбался. Похоже, он понял ее вопрос по-своему и попытался взять ее за локоть, но мать отступила назад, отдернула руку...
"Ты же видел: они тебя не узнали, – сказала она, когда они вернулись домой. – Значит, это не они приходят к тебе ночью, правильно?"
"Нет, это они!" – упрямо сказал Игорь.
Через много лет они не раз вспоминали о том, что случилось возле рынка. Мать однажды сказала: там были узбеки, таджики, а также туркмены, мобилизованные на работу. Не знаю, правда это или просто анекдот, но, если их брали на фронт, то они или сразу погибали, или попадали в плен. Некоторых немцы возвращали к нашим окопам, повесив им на грудь таблички: для нас не пленный, для вас не солдат...
Наверно, мне это только казалось, ответил он матери, но тогда я мог бы точно сказать про каждого: вот этот садился рядом, на край моей койки, а этот подальше, в углу. А третий пришел в первый раз.
Тогда для меня все остается непонятным, вздохнула мать. Еще до того, как мы их встретили, ты верно описал этих несчастных. Я до сих пор это помню. Будто видела их твоими глазами. Нет, все-таки ты или что-то недоговариваешь, или... Может, ты все-таки где-то видел их без меня?
– Нам о них рассказывал Мансур, – отвечал он. – Получается, я сначала увидел их во сне, а уж потом наяву.
– Но ты понимаешь, что такого просто не может быть, – восклицала она. Ты просто внушил себе, слушая бредни Мансура, будто в нашем бараке поселились привидения. Как если бы мы жили в старинном фамильном замке. Тогда ты был маленький, но сейчас ты зрелый, образованный, разумный мужчина!
Ее отец до войны преподавал в Киевском университете политэкономию, мать была учительницей истории в школе, и у их единственной дочери было сугубо атеистическое мировоззрение. Вот почему в ее толковании снов о какой-то мистике не могло быть и речи.
Между тем его сновидения с узбеками возобновились. Только теперь они стали более сумбурными и неразборчивыми.
Он плакал по ночам, не давая спать соседям. Они стучали в стену, в тонкие дощатые перегородки.
(Кажется, Мансур никогда не стучал.)
Тогда мать ложилась рядом на узкую койку и так лежала на боку до самого утра.
Во всех бараках стояли одинаковые железные кровати, предназначенные скорее для монашеских келий. Они были привинчены к полу, поэтому их невозможно было поставить рядом.
С работы она приходила поздно вечером, разогревала на "буржуйке" еду, гладила и стирала, читала сказку на ночь, роняя голову и засыпая на табурете.
А рано утром убегала на завод, стараясь его не разбудить.
Однажды она попросила коменданта, потертого, как его френч с бренчавшими медалями, сдвинуть койки вместе. Он ответил не сразу, сначала оглядел мать сверху донизу, обнажив редкие, желтые вперемешку со стальными зубы... Она взгляд не отвела и тоже смотрела в упор, сузив глаза, играя желваками под обтянутыми скулами, отчего он насупился и сказал, что в других бараках тоже есть дети, но жалоб или замечаний нет. А вот койки воруют. Не далее как вчера в одном бараке унесли койку вместе с матрацем. Вырвали с мясом из пола и унесли. А до этого унесли бачок для питьевой воды вместе с кружкой и цепочкой. И еще взяли моду воровать радио.
В бараках висели черные тарелки, которые принимались хрипеть в определенное время, после чего оттуда доносился грозный, как если бы говорил сам Иегова, голос Левитана. Женщины сразу переставали разговаривать, а мужчины, обычно собиравшиеся заранее к определенному часу, слушали, курили, потом смачно сплевывали и, не глядя друг на друга, расходились.
Он подумает, сказал комендант. Пусть она сама к нему подойдет вечером после работы, и он решит. И снова взглянул исподлобья. Мне надо покормить и уложить спать сына, сказала мать. Покорми и уложи, сощурился комендант. И приходи. Он, как и другие мужики, проявлявшие к ней интерес, старался не замечать Игоря.
– А без этого никак? – спросила она после паузы. – Никак, – ответил он. Я подумаю, – сказала она, а когда он вышел, показала язык закрывшейся за ним двери. Вечером она никуда не пошла, и все осталось по-старому.
Но однажды утром она не встала, не услышав заводской гудок, и опоздала на работу. Вернулась поздно вечером, со следами слез на лице.
Сейчас он вспомнил об этом и связал с тем, что услышал от нее незадолго до смерти.
Как-то мать попеняла ему за недобросовестность – он не ответил на письмо читателя, которое дал ей прочитать, – и почему-то стала рассказывать о своем одном-единственном в жизни опоздании на работу. На целых полчаса. Мол, тогда к ней отнеслись с пониманием и по-доброму: решили не передавать в суд, приняв во внимание, что она член партии, муж на фронте, на иждивении находится нетрудоспособный член семьи и это первое опоздание на работу. Поэтому на хлебной восьмисотграммовой карточке ей отрезали полоску с числом "200". Хотя другим на первый раз отрезали "300".
Он вспоминал и другое: в тот раз она заснула не сразу, во сне вскакивала, снова ложилась, неразборчиво бормотала, плакала, перед кем-то оправдывалась. И все равно чуть не проспала, поскольку заснула только под утро. Игорь старался ее растолкать, но она только мычала, по-детски мотала головой и отворачивалась. И только когда он заплакал от бессилия, она опрометью вскочила, оглянулась, ничего не понимая, и, увидев за окном спешащих людей, бросилась на выход.
5
...Темное, тесное пространство вагона-теплушки заполнено тяжелым дыханием спящих и ритмичным стуком колес вагона. Игорь не спит, вдыхает спертый воздух, пропитанный запахами паровозной гари, пыльной мешковины и немытых тел. Из дальнего угла доносится чей-то кашель и слабеющий плач младенца, переходящий в сонное всхлипывание.
Тьма сипит, натужно кашляет, сонно чмокает, и бормочет, и смотрит в упор, не мигая, малиновым глазом раскаленной "буржуйки"... Там, в ее приоткрытой дверце, что-то трещит, а по обгоревшему толстому полену наперегонки бегут синие огоньки до раскаленного, согнутого гвоздя, потом обратно, и большой, рыжий огонь негодующе гудит на озорников, втягиваясь в трубу – вишневую у самого основания, а выше постепенно темнеющую до черноты у небольшого окошка, из которого выглядывает наружу.
– Пустите! Я тоже хочу ехать! Миленькие, родненькие, пустите-е!
Он вздрогнул от этого крика-плача во сне, тьма перестала храпеть и кашлять и замерла, прислушиваясь. Громче стал слышен безучастный ко всему на свете стук колес.
Он увидел в темноте: на верхних нарах села, слепо вытянув вперед руки, старуха. Он вспомнил: та самая, седая, с палкой, без удостоверения об эвакуации. При посадке ее не пускали в вагон, а она умоляла, плакала, кричала, что документы сгорели вместе с домом. И тогда мать подняла ее на ноги, сказала красноармейцам, будто хорошо ее знает, они вместе работали на заводе. И показала свое удостоверение вместе с паспортом.
Спутанные, седые волосы старухи, подсвеченные красными бликами пламени, делали ее похожей на бабу Ягу, и он от страха оглянулся на мать. Но вместо матери увидел Марину. Она привлекла его к себе, и он почувствовал разбегающиеся мурашки по спине. Марина провела рукой по его коротким, колким волосам, он, зажмурившись, прижался лицом к ее коленям. Она сказала голосом матери:
– Игорек, постарайся заснуть. Закрой глаза...
Когда Игорь Андреевич пришел в себя от резкого запаха нашатыря в носу, он увидел склонившегося над собой озабоченного доктора Фролова.
– С вами все в порядке?
– Да... – кивнул Игорь Андреевич, с трудом приходя в себя.
Доктор Фролов отогнул ему веко, посмотрел, покачал головой, потом пощупал пульс.
– Как вам спалось после первого сеанса?
– Постоянно снится какая-то чертовщина. Встаю с тяжелой головой.
– Боюсь, нам придется прервать наши сеансы, – доктор Фролов произнес это с сожалением. – Очень уж вы, сударь, впечатлительны.
– Похоже, мое отождествление с собой, трехлетним, на этот раз было более полным, – сказал, оправдываясь, Игорь Андреевич. И замолчал, почувствовав, будто чья-то сильная рука мягко сдавила сердце. Он непроизвольно глотнул воздух, отвел взгляд.
– Знаете, это было удивительно... – продолжал он. – Сегодня я опять умирал, но уже без особого страха. Я с нетерпением ждал, когда снова стану трехлетним ребенком. Я все видел будто впервые. И к этому примешивалось мое нынешнее желание увидеть лицо матери. Я совершенно забыл, что она уже умерла.
– Вы увидели ее?
– Всего только на секунду. Теперь я начинаю понимать, в чем тут дело. Полвека назад такого желания у меня не было. Мать всегда была рядом. И поэтому мой взгляд только скользнул по ее лицу. И я ничего не мог с этим поделать.
– То есть вы пребывали в пограничном состоянии, – кивнул доктор Фролов, прохаживаясь по кабинету. – Вам было три года и пятьдесят пять лет одновременно. Значит, полного отождествления не произошло.
– Давайте продолжим?
– Не знаю, не знаю... – покачал головой доктор Фролов. – Я не имею права подвергать вас риску в вашем возрасте и в вашем состоянии.
– Хотите, я дам расписку?
– Какую еще расписку... Посидите, отдохните, а я понаблюдаю ваше состояние.
Он прошелся по кабинету.
– Кстати, вы назвали имя Марины и при этом сразу потеряли сознание. – Он остановился и приподнял очки, вглядываясь в пациента. – Хотя, помнится, вы говорили, что вашу мать звали Лариса.
– Мариной зовут мою дочь. После смерти моей матери она стала похожа на бабушку в молодости. И с ней тоже все время что-то случается, постоянно попадает в какие-то истории... Есть ли тут какая-то связь?
– Связь есть всегда, – кивнул доктор Фролов. – Одно обусловливает другое. Если эту обусловленность мы не видим, то впадаем в мистику. Начинаем толковать о переселении душ. Что же касается вашего случая... У многих психоаналитиков бытует убеждение, будто сценарий жизни бабушки по отцовской линии в общих чертах повторяется у внучки. Точно так же поведение внука схоже с поведением деда по линии матери. Хотя речь, скорее, должна идти о врожденной программе поведения, воздействующей на нас независимо от нашего желания и контроля нашего рассудка.
Он коротко взглянул на Игоря Андреевича, ожидая его комментария. Тот промолчал.
– ...А если ваша мама и ваша дочь схожи внешне, то понятно, отчего в вашем сознании произошло наложение и слияние их образов... – Он приблизился и заглянул в глаза пациента. – Посмотрите теперь вверх... Так, теперь вниз.
И снова отошел.
– Да, да, вы правы, – кивнул Игорь Андреевич. – Это было лицо Марины, ее выражение, взгляд, но все остальное – голос, прикосновения рук – моей матери, ее бабушки.
– И все равно ваша реакция показалась мне чрезмерной, – хмуро заметил доктор Фролов. – Для вашего состояния.
– У вас, кажется, тоже взрослая дочь? – спросил Игорь Андреевич, кивнув на фотографию юной девушки в серебристой рамке на столе. – Она останется для вас ребенком. Теперь представьте, она взяла вас, как маленького, на руки, по-матерински стала гладить и успокаивать.
– Пожалуй... – согласился доктор Фролов и взял снимок в руки. Действительно станет не по себе.
И снова стал ходить по кабинету, что-то бормоча про себя. Потом обернулся.
– Ладно, попробуем еще раз. Я сейчас заварю зеленый чай. Отличное средство, когда нужно снять стресс. Или вы предпочитаете чего покрепче? Могу налить водки. Осталось немного в холодильнике.
– Водку не пью, – помотал головой Игорь Андреевич.
– А я грешен, люблю... – доктор не сводил с него внимательного взгляда. Он подошел к небольшой электрической плитке, на которой кипятят инструменты, поставил на него чайник.
– А пока расскажу вам похожую историю одного моего пациента. Кстати, этот человек известный в мире искусства, но даже не спрашивайте, тот ли это, о ком вы подумаете, или кто-то другой. Все равно не отвечу... Так вот, здесь, в этом кресле, он тоже достиг неполного отождествления с собой в трехлетнем возрасте. И увидел свою мать в объятьях неизвестного мужчины. В своем доме. Тогда, в детстве, он ничего не понял.
– Но мать он узнал?
– Не сразу. Говорит, увидев его, она сразу отвернулась. И только через пятьдесят лет он расслышал, что она тогда сказала своему любовнику. Затем он увидел усмешку незнакомого чернобородого мужика, поднявшегося с родительского ложа, где прежде мальчик видел только отца.
Его мать полагала, что сын слишком мал и ничего не поймет. Откуда ей было знать, что он снова увидит эту сцену через десятки лет, будучи уже зрелым мужчиной?
Словом, придя в себя, мой пациент ничего не стал мне объяснять, а сразу ушел, не прощаясь, и с тех пор у меня не появлялся. Потом при случайной встрече он рассказал об этой истории. Без моей помощи он ничего бы не узнал, хотя она запечатлелась в его памяти.
Теперь представьте: маленький мальчик входит в свой дом с улицы, где допоздна играл со сверстниками, и видит с порога любовную возню на родительском ложе, где вместо отца был этот незнакомец. Тот медленно встал, даже не попытавшись прикрыть свои звероподобные чресла, взял мальчика за руку и вывел на задний двор. И тот послушно вышел с ним, полагая, раз этот человек лежит с матерью на месте отца, значит, его следует слушаться.