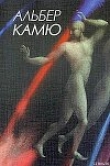Текст книги "Обязательно завтра"
Автор книги: Юрий Аракчеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Я вдруг по-детски стал уверять, что не изменюсь, зря ты так думаешь, скорее наоборот, если что и изменится, то в лучшую сторону – ведь это естественно для нас теперь, правда же.
Но мне самому вдруг стало страшно.
Она хотела задать какой-то вопрос, не решалась.
– Ты что-то хочешь спросить? – догадался я.
– Да… А ты… У тебя… У тебя с кем-нибудь было? – спросила и покраснела опять.
О, Господи. Она решила, что я совсем мальчик. В двадцать пять лет… Боже, боже… Но ведь я и правда вел себя так, что…
– Ты, что, боишься меня испортить? – спросил глупо.
– Дурачок, – сказала она тихо.
И добавила:
– Выйди на несколько минут, хорошо?
Я вышел послушно, постоял в прихожей у раковины, перекинулся чем-то незначащим с соседкой. В голове пустота, сердце колотилось отчаянно.
Вернулся в комнату. Увидел, что Лора уже в постели, что-то делает, наклонившись. Понял, что пришел рано.
– Я погашу свет и не буду смотреть, хорошо?
Погасил, подошел к окну. Голова кружилась, глухо стучало сердце. Я смотрел в окно и не ощущал Лору в комнате за спиной. Уже совсем стемнело, горели на улице фонари, лежал мокрый снег…
– А сердце бьется, – сказал вслух зачем-то.
– Что ты сказал? – деловито переспросила она за спиной.
Повторил. Громче.
– Можешь идти, – позвала она.
Я повернулся, пошел.
Она лежала под одеялом. И смотрела на меня, ожидая – я видел это в свете уличных фонарей из окна. Начал раздеваться автоматически. Руки не слушались.
– Мне куда, на старое место? – идиотски пошутил я.
И – шагнул к стенке, неуклюже перешагнув через Лору. И влез под одеяло, путаясь. Теплая, она повернулась ко мне…
«Только не волноваться, только не волноваться» – застучало молоточком, а голова работала четко и ясно, и промелькнуло в сознании что-то очень важное, нужное, чего я никак не мог сообразить раньше – какой-то сюжетный поворот в моей новой повести, – а тело словно провалилось в пустоту. Словно все прошлое, болезненное мое, убогое прошлое, хранившееся где-то во мраке нижнего, скрытого отдела сознания, словно оно вдруг надвинулось – властно, требовательно, напомнило о себе, сковало… Стало жутко, я лишь головой, лишь рассудком ощущал рядом, совсем рядом горячее, нежное тело Лоры… Но чувствовал себя на вышке, с которой надо прыгнуть, обязательно прыгнуть, и захватило дух, а сердце готово было остановиться, и я был где-то далеко сейчас, но не здесь, не с ней…
А потом пришел стыд.
– Глупышка ты мой, – ласково сказала она, тихонько поглаживая мое плечо.
До меня не сразу дошло то, что она сказала, только интонация, но я ощутил, что меня, словно на канатах, спустили вниз.
– Глупышка ты мой, – повторила она так ласково, так по-матерински спокойно.
Тут уж я чуть не заплакал. Лицо ее светилось нежностью. Я не увидел в нем ни разочарования, ни насмешки – ничего, что могло бы меня обидеть.
Да, это опять была она, та самая Лора, которую я видел в четверг ночью, а потом и утром. Это о ней я думал все четыре долгих дня и перед встречей сегодня. «Глупышка ты мой…» Господи, господи…
Я лежал безвольный, слабый, тело казалось чужим.
– Было у тебя еще с кем-нибудь так? – спросил я тихо.
– А у меня почти со всеми так, – неожиданно сказала она. – Несчастный человек, понимаешь. Что-то во мне есть, что отталкивает.
– Отталкивает?!
Слезы у меня все же выступили.
– Да что ты, Лора! – начал я ее утешать. – Ну что ты. Не может такого быть. Отталкивает! Наоборот… Когда очень хочется чего-то, то ведь это как раз и трудно сделать. Разве ты не знаешь? Отталкивает! Ты просто красивая очень, яркая, вот и… Поэтому и…
Я рад был, что она так сказала. «Отталкивает»! Ничего себе…
Наверное, потому, что не ел ничего, подумал вдруг. Да и выпить бы не мешало. Какой же я дурак, что…
– Ты не возражаешь, если я все-таки в магазин схожу? – сказал я. – Тут близко… Я просто дурак, что раньше ничего не купил, упустил как-то. Ты уж извини ради Бога… Не возражаешь?
– Нет. Только недолго, хорошо?
– Конечно. Я мигом.
Оделся молниеносно, пошел. Словно в каком-то тумане покупал сухое вино, еще что-то, разливал с пьяным мужиком бутылку «Дубняка» на двоих – на полную не хватило денег…
Когда вернулся, Лора спала, но проснулась тотчас. Я придвинул стол к тахте, поставил на него все, мы «пировали».
– Ну, чего ты еще хочешь? – спрашивал я, взяв ее тарелку.
– Хочу тебя, – отвечала Лора.
Я пил «Дубняк» и старался есть побольше…
Вспомнил вдруг, что сегодня 1-е число. Первое апреля!
– Давай выпьем за апрель? – предложил.
– Только за апрель? – спросила она с неожиданной грустью.
И я вдруг страшно обрадовался.
– Нет, нет, конечно же, не только, что ты. Потом выпьем и за май. И за июнь, за июль…
Возникло ощущение искренности ее, нежности, естественности. Я не ошибся в ней! Она серьезно сказала, что не любила еще ни разу, и ее не любили по-настоящему. Только, может быть, один парень, но он утонул. Странно, однако она назвала студента физкультурного института, историю о котором я слышал от приятеля Сашки. Чудак на спор хотел перенырнуть пятидесятиметровый бассейн и умер от разрыва сердца под водой. Совпадение?
– Я так плакала в воскресенье, – сказала она вдруг.
Плакала? В воскресенье?
У меня аж сердце замерло от радости – ведь это было вчера, когда она не пришла! Не потому ли плакала, что…
Но я не спросил почему-то. Молча взял бутылку и налил еще вина.
Ловили музыку по приемнику, спали. Что-то у нас все-таки состоялось. Не очень-то выразительно, но состоялось… Формально, можно сказать. По-настоящему я не сумел показать себя мужчиной, увы. Хотя бы таким, каким бывал иногда все же с другими. Я-то думал, что так, как с той, первой, уже никогда не повторится. Но вот повторилось.
5
…Поднялись рано – было серо за окнами, пасмурно. Она почему-то заторопилась не на работу, домой. Сказала, что перед работой ей обязательно нужно домой. Зачем? Я не понял тогда… Была раздражена чем-то…
Вышли вместе на улицу, посадил ее на такси. Вернулся.
К 10-ти нужно было ехать в детский сад, фотографировать оставшиеся группы. Я плавал в невыразимой печали. Ну, ясно же, я был плох с ней, поэтому она и была раздражена утром. Женщины не прощают слабости – хватало опыта, чтобы это понять. Как же ей объяснить, мучительно думал я. Ведь первый раз вообще не считается! Ведь вот со второй у меня сначала тоже было кое-как и невнятно, зато потом…
От станции метро ехал в полупустом автобусе. На улицах таял недавно выпавший снег. Не было радости во мне, вот какое дело! И все как-то чудовищно перемешалось. Странно, казалось бы, связывать все, но связь была. Но я не знал, что к чему.
Дети на этот раз встретили меня как-то особенно хорошо. И воспитательницы почему-то ободряюще улыбались. Может быть, мне это казалось? Иногда я даже забывал о Лоре. Хотя сердце ныло, не переставая.
После съемки из автомата позвонил в Горком, Амелину. Он был на месте и пригласил приехать в четыре.
Встретил как старого знакомого.
– Здорово, здорово, Олег! Тебе что сегодня показать? Ты «Суд над равнодушием» хотел посмотреть? Пожалуйста, сейчас достану… Да, кстати. Знаешь, тут в одной школе ребята пишут записку девочкам: «Приходите после уроков на сквер, будем целоваться». Девятый класс. А девчонки им отвечают: «Если хотите только целоваться, посылайте свое приглашение четвероклассницам». Ничего, да? Ты мой отчетный доклад на Конференции смотрел? Не очень гладко составлен, можно было лучше, но ты все же глянь, тебе интересно будет.
Он говорил увлеченно, не замечая моего состояния или тактично делая вид, что не замечает, и я тоже делал вид, поддерживая игру, а когда Амелин сказал про ответ девятиклассниц, я машинально улыбнулся и даже головой покачал в шутливом благопристойном негодовании – как с фотографиями в прошлый раз, – хотя во мне немедленно что-то откликнулось – горячий, будоражащий отклик. И с новой силой вспыхнула боль. В груди словно открылась бездонная рана, а губы сводила судорога.
Я-то в девятом классе ни разу еще даже не целовался, первая женщина была у меня в 23 года, а теперь с Лорой получился такой вот конфуз. Правы девятиклассницы, пусть и звучит это не очень-то благопристойно.
Я смотрел на Амелина, видел легко краснеющее лицо своего сверстника и думал: а как у тебя с ЭТИМ, Алик? То, чем ты занимаешься – чужое все-таки, а вот у тебя самого как? Ты ведь тоже моего поколения, тоже, небось, детство голодное и постоянная ложь и дурь… Сумел ли ты преодолеть? Борец с безнравственностью, честный парень, сам-то ты как?
– Грязная работа, знаешь, – продолжал между тем Амелин, не замечая моего состояния (или делая вид?). – Давно бы бросил, да ребят жалко. Несмышленыши еще, попадут под влияние или в голову глупость взбредет по пьянке, а потом колония. Или, как они сами говорят, «спецшкола». Три года сроку – «трехлетка», семь – «семилетка». Там ведь большие специалисты есть среди уголовников. А возвращаются ребятишки – их, к тому же, и на работу не берут, потому что вроде как с клеймом. По закону-то обязаны брать, но ведь кадровиков насильно не заставишь. Оно и понятно: кому охота связываться, жизнь себе осложнять? Вот и получается: сорвался парнишка случайно, получил срок первый и – пропал. Какое там исправление! Он, наоборот, «квалификацию» получает! И общество наше его от себя навсегда отторгает. Какой же во всем этом смысл? Получается, что мы не исправляем преступников, а – плодим. Или вот еще: с военкоматом воюем… В армию с судимостью не берут, а в армию-то им как раз и надо бы – там дисциплина! И, опять же, здоровая среда. Бывает, мы даже с милицией спорим: не хотят с вернувшимися из колонии по-человечески обращаться, недоверие, подозрение на каждом шагу. Вот и бьемся о стенку, а толку нет.
Верно, верно говорил Алик, я согласен, конечно. Но другая проблема жгла меня неотступно, и, кивая в ответ на его слова, я спросил вдруг:
– Алик, а ты женат?
– Был женат, – сказал Алик, осекся и покраснел почему-то.
Почему он покраснел, вот интересно? – подумал я с какой-то даже язвительностью.
– Ну, ладно, – помолчав продолжал он. – Вот тебе папка. «Суд над равнодушием». Читай. И мой доклад посмотри.
Я взял и то, и другое. «Сожительство несовершеннолетних девочек со взрослыми мужчинами», – бросилась в глаза строчка из доклада – графа, в которой были цифры. Цифры внушительные… «Суд над равнодушием» – папка так и называлась. Алик ею гордился, говорил о ней еще в прошлый раз.
Начал читать. Сначала трудно было сосредоточиться, войти в текст. Но вскоре я понял: «Суд над равнодушием» – это суд не над самими преступниками, то есть не над теми, кто формально совершал преступления (ребята шестнадцати-семнадцати лет грабили женщин на улицах), а над свидетелями. То есть, по мысли судей, над соучастниками, а может быть даже еще большими виновниками ребячьих преступлений, чем сами ребята. Ибо они, взрослые и опытные, не только не сделали ничего, чтобы предотвратить, а, наоборот, подталкивали ребят, провоцировали. На символической скамье подсудимых сидели отцы и матери осужденных, начальник ЖЭКа, начальник автомастерской, милиционер, дворник… Четверо ребят, остриженных наголо и уже приговоренных к разным срокам лишения свободы в колонии, расположились под охраной конвоя на местах для свидетелей – это было запечатлено на фотографиях, которые в папке.
То есть суд после суда. Суд над теми, кто довел ребят до суда.
Я читал стенограмму с растущим волнением. Моя собственная боль как будто утихла – то, о чем я читал, было новой неожиданностью. Идя в Горком, я не ожидал увидеть что-то подобное. Приказы, наказания, проработки, накачки со стороны «партии» и «комсомола» – вот к чему давно привыкли. Идея же вот такого «суда над равнодушием» была давняя и моя идея – я ведь тоже считал, что на всё есть свои причины, преступники рождаются не на пустом месте, и в бедах детей виноваты прежде всего именно взрослые.
Общественный обвинитель на суде говорил как будто моими словами: предательство, настоящее предательство взрослых – вот одна из главных причин детской преступности! Равнодушие, трусливая ложь и лень – лень работать над собой, думать, помогать другим… Взрослые считают себя совершенными, хорошими, умными только потому, что они – «взрослые»…
Один из парней на суде говорил так:
– Скучища зеленая. Дома – телевизор, больше ничего. Ни отец, ни мать никогда ни о чем не разговаривают между собой, кроме как о жратве, о деньгах, о вещах. В школе тоже скука, никому до тебя дела нет, преподаватели ничего толком не объясняют – учи, и все тут. Врут на каждом шагу. Вечером пойти некуда, во всех кинотеатрах одно и то же. Посмотришь новый фильм и всю неделю в кино не ходи – смотреть нечего. Клубов нормальных нет, а в тех, что есть, – то же кино, ну, может быть, еще танцы под радиолу, больше ничего. Так пить и начали. Выпьешь, вроде как и веселее, ни о чем не думаешь. Ну, а если уж не рассчитаешь, переберешь, то и вовсе не помнишь, что делаешь…
Дочитывая стенограмму, я прямо-таки не мог усидеть спокойно. Вот уж не ожидал увидеть здесь, в Горкоме, такое…
– Алик, а ты сам был на этом суде? – спросил, волнуясь.
– Был, конечно. Что ты! Такая обстановка в зале была! Эти подсудимые – взрослые – красные от стыда сидели, глаза боялись поднять. Люди в зале сначала как-то раскачивались, а потом такое началось! Друг друга обвинять начали, расшумелись. Но и задумались – это главное, понимаешь. Задумались! На милиционера с обвинениями напали, а он слова не мог сказать в свою защиту, чего ж тут скажешь! Начальник автомастерской, здоровый такой детина, его спрашивают: вы что же, ребят испугались, деньги им поскорее совать начали? А он: да ведь их четверо, вон лбы какие… И мнется стоит. Его на смех подняли, хотя ребята, если честно, и правда лбы…
– А отцы-матери?
– Ну, эти вообще. Один – преподаватель в институте, ему говорят: чему же вы студентов учите? А он: я сопромат преподаю. В зале хохот – он студентам сопромат преподает, а его родной сын тем временем женщин на улице грабит… Ему: зачем вы деньги сыну давали, вы, что, не знали разве, что он на ваши деньги пьет с ребятами? А он: я поздно домой прихожу, у меня дополнительные занятия. Представляешь, у него с другими дополнительные занятия, а его сын в то же самое время с ножом к девчонкам идет… И хоть бы когда с сыном по душам поговорил! Ведь знал же, что сын выпивает, видел его пьяным, сам признался! А один папаша забыл, когда у сына его день рождения – несколько минут вспоминал, мялся, так и не вспомнил! В зале его освистали. Женщина одна, учительница, выступала: вас, родителей, говорит, вместо ребят посадить надо…
– Алик, а что если мне об этом Суде написать? – спросил я, ощущая, что меня прямо-таки колотит от волнения.
– Давай, конечно! Правда, о нем уже писали, кажется. Или пишут. Кто-то из журналистов у меня эту папку брал. Но ты все равно пиши. Но ведь и других тем полно! Положительных примеров у нас навалом! Шефы-комсомольцы, например. «Макаренковские» отряды на предприятиях… У нас много героев есть. Вот, к примеру, Гурьев, милиционер, очень одной девушке помог, которая из колонии вернулась. Или вот Лида Грушина, комсомольский шеф – парня воспитала, который в тюрьме родился… Штейнберг Аркадий, завклубом. Лианозова, инспектор детской комнаты милиции. Всех и не перечислишь. Только пиши…
Выходил я от Амелина переполненный, заряженный, воодушевленный. Не ожидал! А я-то думал… Комсомол, Партия – сплошные формальности и показуха. А вот ведь, оказывается…
Я горел благородным пылом, готов был немедленно сесть за свой очерк – ну, хоть о «Суде над равнодушием», – вот, прямо сейчас, сегодня, тут же! И написать все, что думаю вообще по этому поводу! Да, равнодушие, да, всем наплевать друг на друга, да, каждый думает только лишь о себе, а потом удивляется, что жизнь такая вокруг! Ложь ведь кругом, сплошная ложь!
Рассказать, поддержать, развить благородную, такую нужную всем идею! Вот же она, ниточка, за которую потянуть и – начать. Наконец-то начать! Сегодня же…
Однако… Я шел по темной вечерней улице… Кстати, почему так плохо, так мало освещены московские улицы? – в который уж раз думал я. Ведь столица… А в других городах еще хуже. И войны ведь давно не было, время вроде бы мирное. Так почему? И если бы только это… Ложь ведь на каждом шагу. Да, у Амелина мне понравилось, хороший он парень, честный, душой болеет, но… Если начать вспоминать… Многое можно вспомнить!
Да, стоило подумать о нашей жизни вообще, поразмыслить… Глухая, нерассуждающая, привычная тоска навалилась. Ведь нет настоящей жизни у нас, нет! Серое все и задавленное. Такое впечатление, что душат жизнь, ненавидят, все делают, чтобы люди не жили по-человечески! Но – кто? Сверху – да. А сами? Главное ведь – сами… Свыклись, привыкли! Никакого протеста!
Вошел в убогую свою квартиру – коммуналка на семь семей, одна кухня без окон с семью деревянными столиками, на которых по утрам бегают полчища тараканов. Центральное отопление провели год назад, а то печки топили. И газ провели тоже не так уж давно! И это почти в самом центре столицы… Шестидесятые годы, после войны прошло уже столько… Нет у нас ни душа, ни горячей воды, есть только общая кухня, заржавленная раковина и холодная вода из крана… Девушкам моим даже помыться негде. И туалет засаривается постоянно – трубы старые. Что же удивляться на то, что я вот…
Тут даже вздрогнул, вспомнив, Господи, Лора! Что же удивляться, что…
Отпер дверь своей комнаты, вошел. Скрипучий, выщербленный пол, поотставшие обои, ремонта не было больше десяти лет, мебель вся допотопная, тахта продавленная, доставшаяся по наследству, накидка на тахте рваная. Мне-то что, я привык, но девчонкам… И ей, Лоре…
А ведь я честно работал – то на заводе, потом на стройке, потом с фотографией. Зарплаты такие, что… Мои фотографии, кстати, очень хвалят. И рассказы мои хвалят те, кто разбирается в литературе. Но их не печатают. Мало социальности в них, говорят редакторы. Мало о Партии и комсомоле, мало рабочего энтузиазма, мало оптимистической направленности. Лжи мало! И о природе многовато, о прелести жизни человеческой. Это – не говоря об эротике. Эротика у нас вообще под запретом. Что это такое – эротика? Зачем? Как будто мужчин и женщин у нас нет, а есть рабочие единицы, неважно какого пола.
Зазвонил телефон в коридоре, и я вздрогнул. Быстро вышел, снял трубку. Алик Амелин.
– Олег, слушай внимательно. Ты только ушел, а мне новую информацию дали. Сегодня в клубе «Романтик» – том самом, который Штейнберг организовал, я тебе говорил о нем, помнишь? – так вот там состоится собрание в восемь вечера. Ты успеешь, если поедешь сразу. Встреча комсомольцев строительной организации – СУ-91 – со своим начальством. Там, представляешь, Бригада коммунистического труда – так они себя назвали, – а комсомольской работы на сто процентов нет. Хотя практически все комсомольцы! Да ведь ты об этой бригаде, кажется, слышал, когда в прошлый раз у меня был. Комсомольцы письмо прислали к нам, жаловались, помнишь? Так вот мы эту встречу с начальством и организовали. Лицом к лицу, понимаешь. Обязательно сходи, тебе интересно будет. Рубка там должна быть, будь здоров. Наш инструктор проводит, его фамилия Кочин, ты его у меня видел в прошлый раз. Заодно там и со Штейнбергом встретишься, он тоже должен быть. Пойдешь?
– Да, – сказал я. – Обязательно. Еду.
Было без чего-то восемь.
6
Долго пришлось искать нужный дом – район новой застройки, все одинаковое, никто толком не мог объяснить. Найдя, наконец, клуб «Романтик», я безнадежно опаздывал: было без двадцати девять. Однако войдя, я понял, что собрание началось только что.
В небольшом зале на стульях, составленных рядами, сидело человек тридцать. Почти одни девушки – в спецовках, телогрейках, некоторые с пестрыми платочками на головах. На сцене за столом, покрытом зеленым сукном, расположились четверо мужчин. У небольшой кафедры стоял коренастый инструктор Горкома. Когда я вошел и, стараясь не шуметь, усаживался в последнем ряду, инструктор, по всей видимости, заканчивал вступительное слово.
– Вот мы и решили утроить эту встречу, чтобы вы, комсомольцы, могли высказаться, – сказал он.
– А некомсомольцам можно? – спросил кто-то из девушек.
– Можно и некомсомольцам, – ответил инструктор, а в зале почему-то захихикали. – Но я бы хотел, чтобы в первую очередь высказались комсомольцы. Письмо написано комсомольцами, мы в Горкоме прочитали и решили организовать эту встречу. Вот ваше начальство, – он показал на тех, кто сидел за столом. – Начальник Строительного Управления, прораб, бухгалтер, комендант общежития. Пожалуйста, скажите обо всех своих проблемах по-деловому. Что вам мешает? Почему никто из вас не учится, почему с дисциплиной плохо? Все, о чем вы написали. Пожалуйста.
Инструктор сел.
Воцарилась тишина.
Я вспомнил, что действительно видел у Амелина этого инструктора. Он тогда рассказывал о письме. И еще возмущался тем, что какую-то женщину уволили, хотя она была в декрете. Этот Кочин меня тогда тоже порадовал – еще один неравнодушный, живой человек в Горкоме…
– Ну, что же вы молчите? Кто хочет выступить первым? – спросил Кочин и встал.
Сидевшие на сцене выглядели так: начальник СУ – большой угрюмый мужчина с тяжелым лицом и насупленным взглядом; прораб – юркий, маленький, лысый; бухгалтер – пожилой, полный, добродушный, в очках. Четвертый же показался мне особенно выразительным – тонкогубый, бритоголовый, с оттопыренными ушами, весь какой-то бесцветный, в гимнастерке. И очень решительный. Очевидно, это комендант общежития…
Начальство – и подчиненные. Подчиненные терпели долго, но вот написали жалобу «наверх». И «верх» прислал своего представителя. Давайте, ребята, вперед! Вас обижали? Что ж, молодцы, решились и жалобу написали. Продолжайте!
Ну ведь здорово же! Это наверняка тоже Алик Амелин.
Я аж вздрагивал от нетерпения. Прецедент! То, о чем я мечтал! Вот и тема для очерка – ПРЕЦЕДЕНТ! Все причины социальных бед – в равнодушии, беспомощности, покорности людей, ясно же! «Бойтесь равнодушных! Именно с их молчаливого согласия вершатся на земле насилия и убийства!» – приблизительно так у Горького. Верно! Ну, так давайте, ребята, вперед!
В зале молчали.
Начальник СУ нетерпеливо постукивал пальцами по столу. Инструктор стоял и ждал ответа из зала. Открылась дверь, и вошли еще несколько человек, среди них – два парня…
– Ну, кто же? – опять спросил инструктор. – Что же вы? Письмо было такое горячее, а теперь что же молчите? Вот, давайте, скажите с глазу на глаз.
– Поактивней, товарищи, поактивней, – негромко сказал бухгалтер.
И вдруг зашумели все.
– Она комсорг, пусть она и говорит!
– Выступи, Валь, выступи!
– Давай, Валь, чего там. Скажи!
На сцену выскочила взволнованная девчонка лет двадцати в зеленой кофточке. Очевидно, комсорг. Сбиваясь, отчаянно краснея, проглатывая слова, она затараторила звонким срывающимся голоском. Трудно было что-то понять, однако ясно, что она жаловалась…
– Да ты не волнуйся, Валь, – громко сказал парень с места.
Это доконало девчонку. Еще больше смутившись, окончательно запутавшись, она сбежала с трибуны и, усевшись на свое место, уткнула лицо в ладони. Ну и ну. Вот тебе и комсомольский вождь…
Начальство недоуменно переглядывалось…
Но вот с одного из стульев встала темноволосая высокая девушка. Бледная, она поднялась на сцену… В зале притихли. Начальник СУ всем телом повернулся к ней – так, что заскрипел стул.
– Вот мы вчера сидим на этаже, раствора нет, – начала девушка, очень волнуясь, голос ее срывался. – Почему нет раствора, у мастера спрашиваем. Не привезли, говорит. Все утро просидели зря. После обеда приходим, а раствора опять нет. Почему? Кран сломался. Раствор привезли, а кран не работает. Стали на себе, в ведрах таскать. На пятый этаж не больно-то. Стала я считать: за вчерашний день рубль заработала. Ладно. Хорошо. А в прошлом месяце, в марте, мы с девчонками считали, по сколько должны были наряды закрыть? По четыре восемьдесят. А закрыли по сколько? По три двадцать. Верно, девчонки?
– Верно! Верно!
– Вот я у Матвея Кузьмича и спрашиваю. Матвей Кузьмич, почему нам по три двадцать закрыли? А он говорит: фонд зарплаты не позволяет. Но ведь мы эти деньги заработали? Заработали. Так почему же?
Поднялся шум. Теперь, кажется, хотели говорить все сразу. Инструктор руками замахал
– Подождите, подождите! – прокричал он. – Поочереди! А вот мы у Матвея Кузьмича спросим. Эта правда, Матвей Кузьмич?
– Правда, – сказал бухгалтер. – Я ничего не могу сделать. У нас фонд зарплаты ограничен. Я бы с удовольствием, да не могу.
Опять зашумели все. Дверь открывалась несколько раз, и народу в зале прибавилось. Красивая девушка в меховой распахнутой шубке села в двух стульях от меня. Черные волосы ее были эффектно уложены в высокую прическу. Она достала блокнот, авторучку и принялась внимательно оглядывать сцену и зал. Неужели корреспондентка? – подумал я.
На трибуне теперь был уже новый оратор, тоже девушка. Пронзительным разбитным голоском она тоже говорила что-то о нарядах. Соседка моя пока ничего не записывала. Покусывая кончик авторучки, она внимательно смотрела на сцену, пытаясь, очевидно, осмыслить, что здесь происходит. Удивительно не к месту выглядела она здесь в своей дорогой шубке, с эффектной прической, шикарной косметикой. Словно красивая райская птица, залетевшая ненароком в курятник….
После той, которая говорила о растворах и неправильно закрытых нарядах, ясно стало, что многим здесь есть, что сказать. Зал, что называется, забурлил.
Начальник СУ покраснел и еще больше набычился. Прораб смешно вертел головой и пытался короткими репликами полемизировать с выступавшими. Инструктор Кочин с удовлетворением поглядывал на то, что происходит, а лицо бухгалтера, как ни странно, повеселело. Он словно бы даже распрямился, и очки его бодро заблестели. А вот комендант – ровно наоборот: выпятил грудь, тянул вверх подбородок и смотрел на пробудившиеся страсти явно не одобряюще. Казалось, что только присутствие вышестоящего начальства удерживает его от того, чтобы встать и произнести какую-нибудь отрывистую, подобающую ситуации речь-команду, заставить всех замолчать, прекратить этот, понимаете ли, безобразный бунт.
И вот тут на сцену поднялась женщина лет тридцати пяти, невысокая, невзрачная, с прямыми темными волосами, собранными в пучок на затылке. Пытаясь унять волнение, она очень неловко отставила далеко в сторону прямую руку, ухватившись за край кафедры, и оперлась на нее. Некрасивое грубое лицо ее стало мертвенно бледно. Она несколько раз глубоко вздохнула.
Зал затих.
– Никогда не говорила, а теперь скажу. Скажу. Меня все равно уволили, терять нечего. Скажу, – так начала она.
Перевела дух, словно произнести эти несколько слов стоило ей большого труда. Потом, вздохнув глубоко еще раз, продолжала каким-то ненатуральным голосом. Казалось, слова беспокойной толпой теснятся в ее горле, и ей очень трудно выпускать их поочереди.
– Вот вы комсомольцы, так? А я тоже комсомолкой была! – здесь голос ее сорвался, она, что называется, дала петуха. – А что толку в этом вашем комсомоле? Что?! Вот я в прошлом годе болела. Ни одной души ко мне не пришло! Ну пускай. Мне не надо. Я в декрет пошла. Муж бросил. Взяли меня в роддом. Лежу там и думаю. Вот у меня мальчик родился, а куда я с ним пойду? Получала шестьдесят рублей, уборщицей работала. Муж бросил… В суд на него подавать? Пока суд, пока что, его и не найдешь. А у меня мальчик на руках. Получка нескоро, у меня молоко пропадает, чем я мальчика буду кормить? Денег два рубля осталося, а занять не у кого…
В зале наступила полная тишина. Трудно было понять, куда женщина клонит, но она говорила с таким волнением, что нельзя было не слушать. Инструктор внимательно на нее смотрел. Лицо начальника СУ выражало крайнюю досаду. Прораб опустил глаза и что-то делал со своими руками. Бухгалтер слушал внимательно. Только лицо коменданта хранило прежнее неодобрительное выражение.
–…Лежу я и думаю. А в окно вижу: трамвай ходит. Встала вечером, халат надела. Сестра говорит: куда! Оправиться, говорю, сейчас приду. А сама на улицу. Вышла, подошла к линии, стою, жду. Сейчас, думаю, трамвай пойдет, я перед ним и лягу. А трамвая нет и нет, замерзла. И тут ко мне мужчина какой-то подошел. Ты, говорит, чего стоишь? Я знаю, чего ты стоишь. Под трамвай лечь хочешь. Взял он меня за руку и повел. К себе привел. Жена у него, детишки. Вот, говорит, напои, говорит, чаем, у нас на участке работает. Гляжу, и правда видела я его где-то. Убогий он, однорукий. Так мне этот мужчина помог, как никто в жизни не помогал.
Женщина передохнула, и голос ее набрал силу:
– А что вы тут вот собрались, комсомольцы, какой толк? – отчаянно выкрикнула она. – Выступаете, жалуетесь, а какой толк? Что было, то и останется. Как было, так и будет, поговорили-разошлись. Я вот правду говорила прорабу, меня и уволили. А теперь и из вас кое-кого уволят, увидите. Инструктор сейчас здесь, а завтра нет его – вот и говорите тогда с Иваном Петровичем. Правда, Иван Петрович? Вы все тут друг друга не любите, вот в чем дело! Вам, которые за столом, – лишь бы план выполнить, перед начальством своим отчитаться, чтоб не ругало. А вам, которые в зале, – лишь бы заработать побольше. Вот и весь сказ. А зачем зарабатывать вам? А? Для чего? Все о деньгах и о деньгах, а о человеке забыли. Сами об себе забыли вы, вот дело какое! Одно название – комсомольцы. А толку? Добра в вас нету ни в ком! Креста на вас нет, человека потеряли. И врете все…
Женщина хотела еще что-то сказать, но не стала. В полной тишине она сошла со сцены и села на свое место в зале.
– Ну, так вот, значит… – кашлянув, сказал инструктор Кочин и встал.
Лицо его было растерянным.
– Кто еще хочет выступить? – спросил он. – Только я попрошу вас, товарищи, не отвлекаться от темы. Мы понимаем, что предыдущему товарищу тяжело. Горком будет ходатайствовать о ее восстановлении на работе…
– Не в этом же дело, эх! – с места сказала женщина.
– И в этом тоже, – возразил инструктор. – То, что несправедливо и незаконно, терпеть нельзя. Итак, товарищи, кто следующий? Вы в письме об общежитии писали. Воды горячей будто бы нет, это так? И дверь рано запирают…
– Так! Так! – закричали с мест.
Были еще выступавшие. Они говорили опять о нарядах, о дисциплине, о порядках в общежитии. Никто не вспомнил о женщине, которую уволили, но казалось теперь, что каждый что-то недоговаривает. В выступавших не было недостатка, но инструктору постоянно приходилось стучать по столу, призывая к порядку, к внимательности. На лице его тоже появилось досадливое выражение.