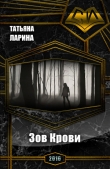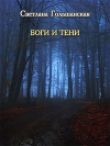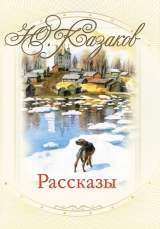
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Юрий Казаков
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Путешествие в Рукомару
Люблю я проводить осень в Пицунде, потому что нет, наверное, места лучше на всем Черном море.
Приехал я в Пицунду и пошел искать себе дом. Долго я ходил по солнцу, устал и присел отдохнуть на лавочке возле какой-то калитки.
Вдоль дороги росли эвкалипты – высокие деревья с узкими длинными листьями. Они начали уже опадать. Много оранжевых, шоколадных листьев и коры, свернутой в трубку, лежало на земле. Ребята собирали листья и кору в кучи и жгли маленькие костры. Эвкалиптовый дым был горек и пахнул лекарством.
Я понюхал дым, задумался и не заметил, как из калитки вышел мальчик Валерка. Он был в зимней шапке, глаза его серебрились, а лицо было бледно: он приехал с севера, и ему было семь лет.
– А откуда ты приехал? – спросил он.
– Я не приехал, а пришел, – сказал я. – Я целый день шел пешком из Гагры.
– Ух! – изумился Валерка. – А куда ты идешь?
– А иду я… – тут я немного подумал, – иду я, братец ты мой, в Рукомару.
Никакой Рукомары, конечно, не было на свете. Но мне тут же показалось, что она есть. Может быть, на меня так подействовал запах эвкалиптового дыма или черные кипарисы. Или далекие горы, которые были темно-красными в этот предвечерний час.
– А где эта Рукомара? – спросил Валерка.
– Совсем рядом, у моря, – махнул я рукой.
– Я еще не видел моря, – сказал Валерка. – Я вчера только приехал. А что в этой Рукомаре?
– О! – сказал я. – Там вода утром в море белая, как молоко. А днем синяя, как небо весной. Вечером лиловая и густая, как масло. А на закате розовая. Люди там черные от солнца, только зубы у них белые, когда они смеются. Целыми днями сидят они на горячих камнях, пьют кофе и смотрят в море и на облака.
Я уже отдохнул, встал, взвалил свой рюкзак, но поглядел на дом, из которого вышел Валерка, на сад с георгинами и подумал: почему бы мне не пожить здесь? Тогда я вошел в калитку, поговорил с хозяйкой и остался жить в этом доме. А Валерка стал моим соседом – он был племянник хозяйке.
На другой день я собрался на море.
– Можно, я с тобой пойду? – попросил Валерка. – А то я один не дойду до моря.
И мы пошли. Сперва мы прошли садом, открыли заднюю калитку, разогнали гусей, свернули налево, поскрипели ногами по гальке и вышли на кипарисовую аллею. Потом лесной дорогой пошли на базар. В тени возле базара дремали ишаки с пустыми корзинами.
– Ух! Это кто длинноухие? – спросил Валерка.
– Это ишаки, – сказал я. – Они пришли издалека, видишь, копытца у них в пыли. Они пришли, наверное, из Рукомары. Они привезли нам сладкую хурму, мандарины, инжир и виноград.
Мы вошли на базар. Черные липкие кучи винограда лежали на прилавках. Мясистый инжир, похожий на луковки, таял на солнце. Сквозь шершавую кожу груш выступал сладкий сок. Девушки-абхазки смеялись и кричали Валерке:
– Ай, какой бледный мальчик! Хочешь винограду? Или груш?
И еще они весело перекликались друг с другом и часто повторяли свое любимое: «Ара! Ара!», что по-русски значит: «Нет! Нет!»
Мы купили фруктов и потихоньку пошли лесом к морю.
– Куда мы идем? – спросил Валерка.
– В Рукомару, – сказал я.
Сосны были так высоки, что у Валерки падала шапка, когда он глядел на их вершины. Между длинных иголок висели крепкие шишки. В кустах нежно трещало.
– Кто это трещит? – спросил Валерка.
– Это началась уже страна Рукомара, – сказал я. – Здесь живут древесные лягушки. Они сидят на деревьях и поют, как птицы. И еще тут есть бабочки величиной с птицу и птицы величиной с бабочку.
А впереди все светлело, светлело, солнечный свет брызгал между стволов сосен. Птицы пели на разные голоса и, перелетая, качали ветки колючих кустов. Под ногами у нас шуршала красная хвоя, а в лицо дул влажный ветер. Наконец мы вышли к морю.
– Ух ты! – сказал Валерка, и глаза его стали синими от моря.
Мы выбрали себе место на песке и разделись. Море звенело о камни и после каждой волны говорило нам тихое, протяжное «Рррасс!», очень похожее на «Здравствуй!».
– Это и есть Рукомара? – спросил Валерка.
– Самая настоящая, – сказал я. – Здесь две тысячи лет назад жили греки. Большой город с домами из белого мрамора, с высокими каменными тротуарами стоял на берегу моря. В каналы города заходили корабли с розовыми шелковыми парусами. Греки, фригийцы, арабы, персы приплывали сюда из дальних стран. А город назывался тогда Великий Питиус. Но разрушился город и занесло его песками. А страна Рукомара осталась, только ее не каждый видит. Вон смотри, пальмы, видишь? На них растут кокосовые орехи, полные молока.
– Вижу! – сказал Валерка.
– А еще ты видишь белые дома? – спросил я и показал ему на камни. – Видишь, из последнего дома вышел загорелый человек?
– Вижу! – сказал Валерка и показал мне на рыбака.
– Ага! Он будет ловить рыбу и жарить ее потом на оливковом масле, на вкусном масле, которым солнце напитывает оливки все лето.
– А какую рыбу он будет ловить?
– Прекрасную рыбу, самую лучшую, – сказал я. – Барабульку он будет ловить – маленькую рыбку с красными пятнышками по телу, и скумбрию, и кефаль, и ставриду, и камбалу, плоскую как блин, – самую лучшую рыбу, какая только есть в море!
– А вон пароход! – закричал Валерка и показал мне темную точку на горизонте со слабым облачком дыма.
– Да, и пароход идет к нам, в Рукомару, и везет все, что только нужно: игрушки и конфеты, куклы для девочек и ружья для ребят. Куклы эти могут говорить, как самые настоящие люди, а ружья стреляют конфетами.
– А пушки у них стреляют пирожными, да? – сказал Валерка.
– Да! Потому что эти рукомарцы веселый и добрый народ.
Так мы, лежа на берегу моря и греясь на солнце, как будто путешествовали в Рукомару. А вечером, наевшись сладких фруктов, накупавшись, купив у рыбака рыбы, набрав в лесу шишек и грибов, мы пришли домой.
Я стал готовить себе ужин, а Валерка вышел за калитку и встретил там толстого Мишеньку.
Мишенька тоже приехал на юг, и ему было семь лет. Но он приехал не один – с ним была мама, с ним был папа, и с ним была няня. Втроем они охраняли его, кормили его, купали его и втроем укладывали спать. Он был толстый, капризный и ни во что не верил. И он не любил никаких путешествий.
– Ого! Как ты загорел! – сказал он с некоторой завистью. – Где это ты загорел?
– В Рукомаре, – сказал Валерка.
– Где-е? В какой такой Рукомаре? Сказал тоже!
– Да! – упрямо повторил Валерка. – Я там был. Я был в белом городе, где люди черные от солнца и пьют кофе.
– Ври больше! – сказал Мишенька и засмеялся. – Наверно, в Гагре был, а выдумываешь.
– Нет, был! – закричал Валерка и сжал кулаки. – Не веришь, а я все равно был, дурак такой! Там ходят ишаки, и уши у них как кипарисы. Они все слышат, даже как смеется в море рыба. А небо там сладкое, и люди, и собаки, и все ходят свободно вниз головой, прямо по небу. И они его едят ложками и языком, а кто чем! Пароходы причаливают прямо к улицам и на тротуары складывают игрушки – кому надо, тот приходит и берет. Что! А ночью все звезды спускаются прямо в город, плавают и светят по улицам и залетают в комнаты, потому что они не боятся людей.
– Ого-го! Вот так заливает! – кричал Мишенька, но в голосе его слышалась уже неуверенность.
Тут я не вытерпел и вышел на улицу.
– Все верно! – сказал я Мишеньке. – И мы с Валеркой действительно были в Рукомаре. И видели там все, о чем он рассказал тебе. И еще видели такое, о чем и рассказать нельзя. Рукомара близко, – сказал я, – надо только поверить в нее. И надо еще не бояться. Нужно любить путешествия и приключения. А еще нужно немного похудеть, чтобы не пыхтеть во время ходьбы и не пугать птиц и древесных лягушек!
После этого мы с Валеркой ушли. А Мишенька, растерянный, пошел домой. Он был очень грустный. И он, наверное, размышлял, почему это люди так любят разные путешествия – выдуманные и настоящие, и стоит ли худеть из-за какой-то Рукомары.
А мы с Валеркой еще много раз побывали в Рукомаре и узнали страшно много интересных вещей в этой удивительной стране.
Розовые туфли
Рассказ сапожника
1
…«Пьет как сапожник», – это вы правильно сказали, ну и поговорка такая есть, это точно. Но вспомнил я батюшку своего, и стало мне нехорошо от ваших слов. Конечно, наш брат сапожник другой раз очень сильно пьет. Только не всякий пьет – это одно. А второе: почему пьет – тоже вопрос.
Жизнь человеческая, она, знаете, у каждого всяко складывается, и, как я понимаю, на одну линию всех вывести нельзя нипочем. Для примера, хочу я вам рассказать про себя немного, а главное – про своего батюшку Гаврилу Демьяныча, чудотворного мастера, как он жил и как к смерти пришел. Ну, а чтобы вам все доподлинней стало, должен я и предков своих помянуть, потому что специальность наша потомственная и весь наш род сапожники.
Я, правда, не граф какой, – родословной своей, как там у них называлось, я не знаю, но только считаю: напрасно это. Напрасно не велось у нас чтить предков своих – мастеров, пахарей и вообще рабочего люда. Потому что нами только и стоит земля и все прекрасное на ней содеяно опять же нами!
Жизнь моя горемычная началась с дедушки моего по матери. Человек он был, надо вам сказать, необычайный и жил на свете до ста шестнадцати годов. Как теперь вижу его: высокий, в кости тонкий, собой с лица темен, как икона, борода апостольская, белая, глаза голубые, как небушко утром, и все зубы целые и чистые.
Был он у нас святой и молельник и весь к Богу обращен. На половине жизни пала ему в глаза темная вода, и ослеп он совершенно в одну ночь. Скажет, бывало, мне с удивлением:
– Во снях вижу все, людей вижу, деревню, и как в церкве служат, и поля часто вижу, как ржица переливается, а встану – и прощай все, а так во снях все вижу…
Начал он после того странствовать и молился до того, что рубаха на груди и плечах просекалась. А земель разных обошел столь много, что уж и не было ему чего боле обходить. Бывало, пропадал из деревни года на два, на три, уж его и заупокой поминать начинали, но только каждый раз он вдруг опять объявлялся.
Всё он обошел, не пришлось ему только на Святых островах побывать, в Соловецком монастыре. Матушка моя рано померла, и не упомню я ее совсем. Батюшку же в ту пору на войну забрали, в Маньчжурию – это когда с японцами воевали, – и жил я у тетки своей родной. Вот дедушка возьми да и приди раз как-то к ней. Отпусти, мол, внучка со мной поводырем, хочу к соловецким угодникам сходить. Ну, тетка особенно возражать не стала, у ней у самой восемь ртов было, да, правду сказать, и мне хотелось на свет белый поглядеть.
Вот мы с дедушкой и снарядились в путь. Шли долго ли, коротко ли, а почитай два месяца: вышли мы с деревни в апреле, аккурат после Пасхи, как только земля немного обсохла. Добрались до реки Сухоны, сели на пароход и побежали вверх, к Архангельску. Был июнь, но холодный ужасно, с ветром и дождем. Волна по реке шла с пеной, и ветер навстречу водяную пыль нес. Ехали же мы внизу, на палубе, – там все странники грудились, – и хотя от машины тепло шло, но дул неистовый ветер по бортам и так прохватывал, что дедушка мой простыл вскоре.
Кашлял он сильно, дрожал и закатывался, но сперва все крепился, а потом уж и сил не стало, сидеть даже не мог. И ссадили нас тогда в городе Великом Устюге. Был тогда, кажись, Духов день, колокола в городе звонили, и пока дедушку в больницу на дрогах везли, он все крестился, улыбался радостно, хоть уж и глаз не открывал.
Полежал он в больнице три дня, а на четвертый помер, и остался я совсем один… Денег при нем нашли что-то рублей пять, еле на похороны хватило. И вот похоронил я его, вернулся назад к сторожу больничному Софрону, который приютил меня на ту пору, залез на печку и заплакал неутешными слезами. А и было же от чего плакать! Матушки нету, батюшка в Маньчжурии, дедушка помер, один я остался на свете, а было тогда мне десятый годок… И началась поэтому вскорости моя трудовая жизнь.
2
Сторож Софрон сходил куда-то и вот этак через неделю велит мне сапоги обуть и ведет к шкатулочному мастеру Цыганкову. А город Великий Устюг, надо вам сказать, всегда знаменит был замками, да шкатулками, да чернью по серебру.
Привел меня Софрон к мастеру, просит:
– Вот, Петр Иваныч, сирота, возьмите, будьте так добры, к себе в ученики…
Поглядел тот на меня, бороду заскреб, вздохнул. Потом блюдце чаю выпил, сахар из рота обратно на стол выложил.
– Шибко мал, – говорит. – Ну, а так оставь буди на недельку, посмотрю, что с него будет.
Остался я у Цыганкова, стараюсь изо всех сил угодить ему, летаю стрелой, в глаза смотрю. Прошло дня четыре, послал мастер за Софроном, повздыхал и говорит:
– Хотя мал, за дело принимается хорошо. Беру его на пять лет мальчиком, бесплатно, но на всем готовом – содержание и одежа.
И началась тут для меня настоящая выучка и жизнь тяжелая и сиротская. Раньше ведь как учили? Теперь все: и ремесленные, и ФЗУ[1]1
Фабрично-заводские училища. (Прим. ред.)
[Закрыть] – два года проучился, разряд дают, и вот ты уже самостоятельный рабочий, и дорога перед тобой открытая. Раньше же далеко не то было, и сперва немалые годы просто в услужении побудешь, прежде чем тебя к мастерству подпустят. А мастерство у Цыганкова было редкое и на любителей художественности.
Делал он шкатулки изумительные, и во всех музеях есть ныне его работа. Первое дело в шкатулках были замки. Шкатулка – это вам не горшок какой-нибудь, а хитросплетение мастерства, и посему в замке обязательно должна была заключаться какая-нибудь хитрость, и делали замки с секретами. Были мастера, которые необычайно искусные шкатулки делали, в коих заключалось до десяти различных секретов и музыка. Чтобы когда ключ поворачивали, звон приятный стоял на разные голоса. Все отверстия – и самые замки, и секреточки, куда ключи ложились, – все было закрыто фигурными щечками на пружинках и подогнано заподлицо. Для того чтобы щечки отскакивали, надо было надавливать в разных тайных и вовсе гладких поверху местах.
А еще прелесть была в том, что шкатулки сверху обивались не простой жестью, а специальной – с «морозом». «Мороз» же делали особые мастера, поскольку дело это требует большого искусства и не у всякого рука играет и в голове фантазия есть.
Для «мороза» жесть подогревали и в горячем виде пропускали через расплавленное олово. Потом наполняли водой брызгалку и брызгали на горячую жесть, после чего по остывшей жести водили заячьей лапкой, смоченной в царской водке. И получался «мороз» наподобие узоров на стекле. Это был простой, белый «мороз». А для желтого – жесть покрывалась чистым масляным лаком. Потом ее сажали в печь, и выходил золотистый «мороз», как солнце вечернею порою.
Цыганков, хоть мужик грубый был, бородатый и краснопалый, но работал дивно и неестественно. Подмастерье ему из березовых плашек заготовлял основу – стенки и крышку выпуклую – и шкуркой обдирал и шлифовал. А Цыганков придет в мастерскую, фартук наденет, Богу помолится и садится. Сперва молча работал, а после петь начинал, без слов, а так: «го-го-го» да «го-го-го» – разливается, молотком постукивает, жесть кроит, загинает, замочки вставляет. И вот как пустит по крышке, вроде как у сундучка, переплеточку выпуклую, да набоечки кружевные вырежет, да к уголкам приспособит, да слюды слоистой подложит, да повертит крышку перед собой так и сяк, гвоздиками прихватит, полюбуется, тюкнет там и сям – ну просто царская вещь! А потом по нутру начнет выкладывать бархатом алым или атласом, да ключи полировать, да замки пробовать – звон стоит и сверкание, а на стол поставит шкатулку готовую, ну знаешь же, пустая она, а на вид такая кубышечка тяжеленькая, что так и кажется, будто золотом наполнена: тронь ее – и запоет густым плотным голосом.
Но, как я сказал уж вам, к ремеслу меня не допускали, а обязан я был все черное делать, всякую тяжелую работу. Бывало, ведер пятнадцать воды в день натаскаешь для прополаскивания железа, а потом грязную воду обратно вынесешь. Тут же скажут и дров наколоть и опять же с реки воду – на чай.
Помню, пошел я как-то за водой под вечер, прорубка во льду маленькая была, воду черпали ковшиком. И вот обледенел у меня ковшик, вывалился из рук и утонул. Прихожу домой, дрожу, плачу: ковшик утонул! Хозяин руками всплеснул, нахмурился, посопел и говорит:
– Как хочешь доставай!
Было это в субботу; думаю, завтра спозаранку встану, пойду доставать. Лег я спать, только уснул, вдруг как кто толкнул меня, проснулся и стал ужасаться, как это я ковшик достану. Утром встал затемно еще, пошел на реку. Пальтишко снял, рукава загнул, шарю в воде, пальцы так огнем и горят. Место неглубоко было, а дна никак не достанешь. Пришел пустой домой.
– Что, достал? – хозяин спрашивает, не забыл.
Сделал я из проволоки крючок, опять пошел. Достал наконец и как обрадовался! А цена-то ковшику двенадцать копеек была.
Через год работы мне прибавилось. До того нянька была, потом ее рассчитали, и пошел весь дом на меня. В воскресенье встанешь часа в три утра, всю медную посуду вычистишь – два самовара, поднос, рукомойник, два таза, подсвечники, кастрюли… Раньше была в почете медная посуда – чтобы всегда чистая была. На всю чистку уходило часа три. Все спят, разбудишь их, позевают, походят по дому, пойдут к обедне. А я тем временем дров принесу, в печку складу, самовар наставлю, постель у хозяев заправлю, пол подмету. Они с обедни придут, чай начинают пить, а я иду во дворе снег чистить. Напьются хозяева, зовут:
– Поди, малой, чай пить!
После я с хозяином на рынок иду, таскаю за ним кошелку, а кошелка пудовая – на всю неделю накупали. С рынка ворочусь, опять дрова колоть на неделю, на реку за водой ходить. Настанут сумерки, спать хочется – нет мочи, а хозяйка говорит:
– Поди, малой, в амбар, муки насей!
А насыпка тяжеленная, наложишь в решето муки побольше, хватишь рукой, а мороз, мука холодна, так руки и рвет! Потом хозяева отужинают, отправляются в гости. Меня с детьми оставляют: старшим – три года и два, младшему – семь месяцев. Побольше – тех укладешь, маленького сидишь качаешь в люльке. Омочится, возьмешь распеленаешь, молоком напоишь, кашкой накормишь.
Это все в воскресенье, а в будни дни еще должен был я хозяину на работе помогать. И вот живу у них год, другой, вижу: нету мне спасения, задавят они меня работой – как пьяный хожу и соображать плохо стал, наподобие дурачка. Шел мне тогда тринадцатый год, только был я маленький очень и худой – совсем худо рос. И задумал я бросать это дело и уходить.
Вспомнилась мне родина милая – со Смоленщины я родом, – какие у нас там поля. Вспомнилась деревня, как по вечерам печки топят да скотину с лугов гонят, и заныло у меня на сердце. Написал я тогда же письмо домой, поплакался и вскорости получаю ответ от батюшки: радуется очень, что меня вновь обрел, домой зовет и денег выслал на проезд. Пишет, что давно с Маньчжурии воротился, только в ногу раненный, и живет дома, сапожничает по-прежнему.
Духом собрался я, разузнал у грамотных людей, как мне на Смоленщину подаваться, купил билет на пароход, поплакал немного, простился с хозяином и поехал домой.
3
Ох, и велика же и длинна жизнь наша! Чего только не перемыслишь с детства и до старости, куда только не кинешься, чего не навидаешься, – но если заложен в тебе родовой корень и определен тебе путь к мастерству и труду, то и станешь навек, как отцы и деды наши были, потомственным мастером.
Дедушка мой по отцу сам был донской казак родом. В 1812 году попал он на фронт к атаману Платову и дошел до самого Парижа. Человек он по всем статьям был отчаянный, ухарь, крестов и медалей за храбрость нахватал уйму, а один раз пришлось ему так, что спас он жизнь офицеру своему, поручику, по фамилии Озерищев.
Поручик тот был дворянин, родом сам с Дорогобужского уезда, Смоленской области, там же у него было имение, и вот он в благодарность стал дедушку сманивать к себе жить. Сулил ему златые горы, на девке хорошей женить, приданое справить и все хозяйство. То ли у дедушки на Дону родни не было, то ли полюбился ему тот поручик, только согласился он и после мира приехал к тому в имение.
Нарезал поручик дедушке земли, избу поставил, женил, и все такое. А потом взял и помер в одночасье, а с наследниками другой вышел разговор: землю у дедушки отобрали, налог заставили платить огромный за все прошлые года. Опять же не знаю почему, – может, привык уже, а может, дети пошли и нельзя было с семьей подыматься, – но только не уехал мой дедушка на Дон, остался на Смоленщине.
Фамилии его я не знаю, а по-уличному была ему кличка «Колдун», отсюда и мы все пошли Колдуновы, как дети колдуна. Что же касается колдовства, не знаю, как сказать, но слышал я от батюшки много разных историй про него. Да вот хотя бы такой случай взять.
Был как-то дедушка в Дорогобуже на базаре, и вышло ему идти домой пешком. А идти далеко: от Дорогобужа до нашего села Озерищи верст по-старому с двадцать будет. Вышел он из города, пошел. Идет себе, и вдруг догоняет его поп сельский на лошади. Дедушка мой и просится:
– Подвези, батюшка!
А тот злой был на него, покосился да и скажи:
– Сам, мол, дойдешь, не погнешься!
Хлестнул своего жеребца – и ходу. А жеребец добрый был у него, так понес, что только пыль завилась. Дедушка мой засмеялся нехорошо да и кричит вдогонку:
– Не дюже торопись, мол, далеко не уедешь!
Поп забоялся, но ничего, только жеребца своего охлестывает. Вот едет он версту, другую, третью, вдруг – стал жеребец! Слез поп с брички, ходит вокруг, святых поминает, а жеребец только скалится и ни с места. Идет время, догоняет тем часом дедушка мой попа, смеется.
– Ну, теперя поезжай! – говорит.
Только сказал он это, понес жеребец, – отпустил, значит, он его. Еще три версты проехал, опять стал. И так всю дорогу: догонит дедушка попа – жеребец понесет; отъедет немного – станет. Так вместе они и в село прибыли. Чуть после этого поп дедушку от церкви не отлучил, архиерею писал.
Это я вам к примеру говорю, хотя сам сильно сомневаюсь, чтобы такое могло быть. В деревне, знаете, любят небылицы всякие складывать. Но не в этом главное, а в том, что как стал дедушка безземельным крестьянином, то тут уж нужно было чем-нибудь промышлять, и стал он после этого промышлять сапожничеством. И детей всех своих этому делу обучал, в том числе и моего отца. Но про отца потом, а пока, позвольте, доскажу про дедушку.
Сам я его не видал: он до меня еще помер, шибко стар был, легко помер, как дай Бог всякому. Ночью сапоги закончил, лег спать на печи, утром бабка проснулась, слышит – тихо в избе. Думает: «Чего это не стучит мой Демьян?» – полезла на печку, а дедушка уж холодный. Так вот не застал я его, а хотелось бы посмотреть, потому что страшно он талантливый человек был, как я понимаю. И особенно мне это приятно, что из самых что ни на есть простых крестьян. Это-то и доказательство насчет таланта русского народа!
Дедушка мой, помимо того что сапожничал, еще знаменитым был по уезду скрипачом. Сам на скрипке играл, детей своих выучил на разных инструментах, и вышел у них, считайте, целый ансамбль. Но дедушка не только что играл, но сам и все инструменты делал: и скрипки, и альты, и басы. Мерку он снял на первый раз в городе, в еврейском оркестре, а потом уже и сам приспособился и знал как и что. По нашим временам был бы он знаменитым на весь Советский Союз человеком, ну а тогда жизнь была темная, вырваться из нее он никак не мог, и очень мне его теперь жалко: рано родился он, вот что я думаю. А если объективно подойти, то разве и он один такой был? Сколько талантов погибло в полной безвестности!
Характера дедушка был смирного, работал много, а работа тогда была не в пример нашей. Изба была небольшая, ребят много, тут же и теленок в избе, и поросенок визжит. К тому же денег часто совсем не бывало, так что ни керосину купить, ничего. И приходилось стучать молотком при лучине. А лучинушка не светло горит, об этом и в песне поется. От этой горькой нужды все дядья мои с малолетства работали, также и батюшка. И хоть дед-то смирен был, но другой раз и шпандырем лупил всех почем зря, чтобы, значит, не думали о баловстве, а работали по-настоящему. Какое же это детство!
Пил дедушка редко, но запоем. И удивительно как пил: четвертями! Пьет он, песни поет, на скрипочке себе подыгрывает – веселится, одним словом. Только всегда плохо это веселье кончалось. Сами понимаете, жизнь тяжелая, денег в доме считай что и не бывало никогда, так разве десятка какая заведется, и то бабушка Богу на нее молится. А тут запой. Пьет день, другой, третий, потом начинает требовать денег у бабушки. Бабушка не дает, конечно, плачет, и тут начинается такое, что и представить страшно. Дед с топором по избе бегает, сундук рубит, лавки крошит, – а он всю мебель сам мастерил, совершенство же в руках его было! Бабушка детей забирает, скрывается к соседям, а дед из сундука деньги вынет – и в кабак. Пропивал все, даже с себя до последней рубашки, ну а потом отрабатывает, как каторжный, и уж месяца три капли в рот не берет.
Так вот и жили. Дикая деревня тогда была, и не один мой дедушка так пил, все пили, дрались и убивали друг друга от темной жизни. В такой-то вот жизни и возрос мой батюшка, про которого я вам сейчас расскажу.