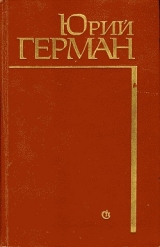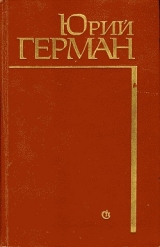Текст книги "Начало"
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– Нет, это что же, – почти шептал он, – нет, это невозможно, чтобы он не захотел говорить, коли я его спрошу, он не понять не сможет, я ему такими козырьми сразу пойду, что принужу его, если ему даже и не захочется. Нет, это дудки. Кто же мне тогда скажет, ежели не он? Он должен сказать. Он папеньке велел определить меня в медицину, и с него спросится, потому что коли лекарь лечит, то он обязательно должен в свою науку и в свое лечение верить, иначе ни науки не будет, ни лечения, а я нынче усомнился, и пускай он мне поможет разобрать хаос и определить все по своим настоящим местам…
Под утро ему стало легче, он согрелся и повеселел, а потом сразу уснул и приснился сам себе, как он сделался профессором за границею и идет по тамошней улице, крутит в руке тросточку и напевает, а за ним бегут тамошние уличные заграничные мальчишки и кричат беззвучные слова, но он все-таки понимает, что кричат в его честь, что он профессор и что все этому очень рады.
Случай помог ему увидеться с Мухиным на следующий же день. Солдат Гаврилов вызвал его с репетиции и сказал, что его спрашивают в деканате. Краска кинулась ему в лицо, рукою он взбил уже жидкие, но еще довольно пышные волосы, оправил проклятый, лезущий кверху мундирный сюртук и вошел в кабинет к Ефрему Осиповичу. Старик, выставив вперед свою большую нижнюю челюсть и слегка откинув лобастую голову, серебряным ножиком чистил крымское яблоко, ловко поворачивая его короткими пальцами. Завидев Пирогова, он приветливо кивнул ему и велел сесть поблизости на мягкий стул. Пирогов сел.
– Что это сегодня задождило, – сказал Мухин.
– Да, что-то с самого утра, – ответил Пирогов. Он все больше и больше смущался и, зная за собой способность густо краснеть, думал, что сейчас покраснеет и замолчит, – краснея, он всегда не решался говорить.
Старик посмотрел на него из-под очков и предложил яблоко, Пирогов отказался.
– Зря, – молвил Мухин, – яблоко хорошее, сладкое. Помолчали.
Пирогов сидел, поджимая ноги в порыжелых, драных сапогах: уж больно невесело выглядели эти сапоги на пушистом ковре в цветах и разводах. Сапоги и ковер придали ему решимости. Отчаянным голосом он сказал:
– Ефрем Осипович, мы никто анатомии не знаем. Мухин без всякого удивления взглянул на Пирогова и ответил, что ее знать мудрено.
– Да мы ее совсем не знаем, – воскликнул Пирогов, – мы на трупе ничего не можем понять.
– Вот как, – молвил Ефрем Осипович и, отрезав от яблока ломтик, положил его себе в рот. Потом подвинул к себе атлас, открыл наугад и, ткнув пальцем, спросил у Пирогова: – Это что?
Пирогов ответил.
– А это? – спросил Мухин. Пирогов опять ответил.
– У студентов твоего возраста, – сказал Ефрем Осипович, добрыми глазами глядя на Пирогова, – есть две главные болезни, милый мой друг. Либо им без всякого основания кажется, что они знают решительно все, либо также без всякого основания им начинает казаться, что они не знают ничего. Если я не ошибаюсь, то еще несколько дней назад ты, душа моя, предполагал, что знаешь куда больше твоих профессоров, не так ли?
Пирогов молчал, медленно краснея. Краска заливала не только лицо его, но и шею, и уши.
– Теоретическую анатомию ты знаешь отлично, Николаша, – продолжал Мухин, – на трупе же ты не упражнялся, потому и не знаешь, как там что, да ведь не велика беда, успеешь, коли захочешь, а коли не захочешь, то и без трупорезания лечить будешь отличными старинными средствами, декоктами и настоями. Помнишь, как я брата твоего поднял с одра?
– Помню, – тихо ответил Пирогов.
– Одно тебе могу сказать, – продолжал Мухин, – никогда не отчаивайся в своих знаниях и не думай, что другие знают больше тебя. Никто не знает больше, коли ты сам хочешь знать. Все у тебя впереди, все ты еще поспеешь, чего пока не поспел. Всех обгонишь, коли захочешь, а не захотеть ты не можешь. А теперь я у тебя спрошу: прочитал ли ты книгу мою?
– Прочитал, – едва слышно ответил Пирогов.
На лице Мухина выразилось мгновенное беспокойство и тотчас же уступило место выражению приятности.
– Легко ли она читается? – спросил Мухин, самим вопросом ограничивая тему ответа.
– Легко, – сказал Пирогов.
Сердце его билось. Он понимал, что Мухин нарочно задал такой вопрос, но мог ли он уклониться от того ответа, который должен был дать, хоть его и не спрашивали.
– Книга ваша читается легко, – молвил он не совсем твердым голосом, уже жалея, что начал, – слог ее доступен и для нас, студентов, но только, Ефрем Осипович, зачем вы написали про Виллие?
Глаза его смотрели ласково, почти испуганно, но он не жалел, что сказал. Теперь мгновенно исчезло чувство вины перед Мухиным, было его только жалко: он сидел перед ним старый и нисколько не величественный, совсем не тот Мухин, что когда-то, и делал такой вид, что занят очисткой второго яблока и что вопрос Пирогова даже несколько развеселил его. Но за всем тем Пирогов видел, что Мухину мучительно неловко и что он в первый раз слышит, чтобы его так прямо спрашивали о Виллие.
– Ты, душа моя, еще ребенок, – пряча глаза, заговорил он, – и многое тебе совсем непонятно и не скоро станет понятно. Я прожил много, и много видел такого, что тебе и во сне не приснится. Ответить на твой вопрос могу пока только так: кроме науки есть еще и жизнь, и если постигать науку трудно, то жизненную науку постигать еще труднее. Людям надо прощать, Николаша.
– Нет, – сказал Пирогов.
– Что – нет?
– Не надо прощать, – внезапно охрипнув, сказал Пирогов, – а коли только прощать, так надобно идти в монахи или еще куда, а только не в ученые лекаря. И я, Ефрем Осипович, слишком помню вашу доброту ко мне и слишком вас уважаю, для того чтобы этого вам не простить, а только лишь понять, почему вы это совершили, и попросить вас от всех нас, студентов, никогда впредь подобного не совершать, потому что университет есть святое место и отсюда подобное не может быть вынесено молодыми людьми. Разве не так?
– Ты слишком молод, – начал было Мухин, но Пирогов перебил его.
– Ужели же потому, – все еще хриплым голосом воскликнул он, – ужели же потому, что я молод, мне должно примириться с этим? Да сами же вы ссылаетесь на старость, хорошо, бог знает что будет в старости, пусть же, пока мы молоды, останутся между нами святые идеи независимости, достоинства человеческого и правды…
Он говорил долго, волнуясь, запинаясь и путаясь, и некрасивое лицо его выражало такую крайность чувств, такую их силу, убежденность и страстность, что, как ни тяжело было Мухину все то, что он слышал от мальчика – своего ученика, – он не мог ни обидеться, ни рассердиться, и чем дальше говорил Пирогов, тем с большею добротою смотрел на него Мухин, жалел почему-то его и думал о том, как все преходяще в человеке и как он, Ефрем Осипович, тоже был когда-то таким и кричал высоким слогом, и туманные любил выражения, и умел подпустить насчет святых идей.
– Ну, спасибо, – произнес он и улыбнулся, когда Пирогов кончил свою вдохновенную речь, – спасибо тебе, Николаша, душа моя. Все это удивительно как верно и даже прекрасно, но только запомни навсегда, что я тебе скажу. И запомни не для того, чтобы так не поступать, а запомни именно для того, чтобы поступать как понадобится, потому что я тебе желаю счастья и добра и не хочу думать о том, что жизнь твоя может сложиться дурно из-за каких-то там высоких идей, хоть они несомненно прекрасны и до того красивы, что просто мочи нет. Нынче тебе шестнадцать годков, а мне седьмой десяток. Это, душа моя, великая разница, и хоть вы, молодежь, всегда склонны думать о нас, стариках, как о глупцах, я этого мнения разделить не могу и считаю, что мы вас умнее, а если нет, то хоть хитрее и уж, во всяком случае, вперед видим куда правильнее, чем вы с вашими шорами из святых идей… Но это материя длинная и скучная, сказать же я хочу тебе только одно, Николаша: как бы ни были прекрасны помыслы твои, каким бы высоким сердцем ни наградила тебя природа, в шестьдесят годков ты будешь грешен. Запомнил? Будешь! Ты только запомни это, навсегда запомни и не старайся забыть, а старайся помнить. Будешь грешен, запомни, обязательно будешь, и ежели не более меня, то это еще хорошо. Я ведь покорился и потому мало грешил, а коли не покориться, а искать действия на земле и руки не складывать, а дело делать, то либо тебя волки сожрут вместе с костями, и шерстью, и потрохами, либо сам с ними в стае пойдешь, и счастье твое, если уклонишься от совместного с ними пира и какого-либо малютку, начиненного святыми идеями, не слопаешь за компанию. Ох, дожить бы мне до ста лет, мы бы с тобой еще поговорили, и как бы поговорили, и как бы сегодняшний наш разговор вспомнили, да только не дожить, никак не дожить, помру… Единственное только утешение, что ты запомнишь сегодняшнее наше объяснение и честно на седьмом десятке своей жизни сделаешь себе рапорт по всем статьям. Что глядишь на меня?
– Я не рассчитываю дожить до седьмого десятка, – молвил Пирогов.
Мухин сердито засмеялся и крикнул, что он тоже не рассчитывал, ан вот живет.
– Все вы, молодежь, меланхолики, – заключил он, – и, несмотря на святые ваши идеи, ух, жестокий вы народ, бог с вами. Мы, старики, хоть и без святых порывов, а куда вас лучше.
Он встал и прошелся по комнате старческой походкой, слегка волоча одну ногу и посмеиваясь сердитым смешком, потом внезапно оборотился к Пирогову и сказал ему громко и быстро:
– Начиненный святыми идеями и благородным негодованием человек шагу по нашей земле не пройдет, как шлепнется, для того чтобы более во веки веков не встать, и что от него будет толку, ну-тка, скажи? Скажи, коли ты такой умный?
– Благородные идеи и святое негодование, – начал Пирогов, – тем одним хороши, что пробуждают в людях огонь, пламень неугасимый…
– Дурак, – крикнул Мухин, – пламень, мальчишка глупый, слушать противно, набрался нечеловеческих слов и туда же с неугасимым… Я вот баронету польстил несколько, назвал артерию его именем и без всякого пламени получу пенсион, для себя думаешь, дурак? Куда мне его в могилу – пенсион – куда? Об этом никто не знает, но коли вы, негодяи, почти что до обструкции дошли, знайте, жестокие мальчишки, четверо из тутошних казеннокоштных не на казенном обучаются, а на моем, я свое жалование отдаю, чтобы вы с вашим пламенем священным щи хлебали, да кашу, да книги себе покупали и через эти книги меня же позорили… А пенсион получу от Вилльешки – вам же отдам, чтобы больше лекарей было для несчастной моей России, понял? Вот зачем я это делаю, жестокосердные вы мальчишки, зачем принимаю от вас позор и зачем…
Пирогов поднялся со своего стула. Лицо его дрожало. Протянув одну руку к бегающему уже по комнате Мухину, он окликнул его, но Мухин так кричал, что не слышал ничего. В глазах его были слезы обиды, и, шагая по комнате, он отворачивался от Пирогова и кричал, что никогда не чаял слышать такие слова, что священный огонь вздор, что он все хорошо понимает и не раз замечал, какими гнилыми взглядами смотрят на него студенты и Пирогов тож…
– Ефрем Осипович, – сам чуть не плача, молвил Пирогов, – Ефрем Осипович…
Оба они были взволнованы, и сцена примирения растрогала обоих вконец.
– Простите меня, Ефрем Осипович, – говорил Пирогов, глотая слезы, – я негодяй, простите…
– Нет, ты не негодяй, – отвечал Мухин.
– Нет, негодяй, – отвечал Пирогов, с восторгом глядя на бога своего, вновь воспрянувшего из праха к вечной жизни, – я про вас невесть что думал, простите меня…
– Все мы люди, – говорил Ефрем Осипович, нюхая табак, чтобы успокоиться, – все мы в чем-то грешны, и только прощать надобно, и поменьше этой нашей пламенной неукротимости…
Теперь они сидели в креслах друг против друга. У Мухина от слез покраснел кончик носа, он моргал опухшими глазами и говорил с чувствительностью о том, что между стариками и молодежью должно быть извинение к слабостям, и тогда все пойдет отлично. На слове «отлично» он начал чихать, потом они весело посмеялись, и Мухин заговорил о том предмете, ради которого вызвал Пирогова с репетиции.
– Так вот что, милуша (с этой минуты Мухин стал называть Пирогова не иначе как милушей), – вот что, милуша, – молвил он, – я ведь тебя позвал для дела. Поедешь ли ты за границу?
Пирогов сказал, что поедет, но Мухин ответил, что надобно выбрать себе специальность, и они вдвоем стали обсуждать, какую ему надобно специальность. Физиология не годилась, хотя Пирогову и казалось, что, зная о грудном протоке, о желчи из печени и о моче из почек, а также о химусе и хилосе, он в совершенстве знает весь предмет. Что же касалось до селезенки и поджелудочной железы, то органы эти были мало известны не только ему одному. Но, несмотря на такие отличные его знания физиологии, Мухин решительно отверг эту специальность.
– Другое надобно, – сказал он, – иди, подумай, выбери, потом мне скажешь.
Прощаясь, он поцеловал Пирогова и сказал ему, что любит его и не сердится на него совершенно. Велел решать поскорее и отпустил, сунув в карман его шинели румяное крымское яблоко.
Но где было решать и с кем? У кого просить помощи?
Не теряя ни минуты, он побежал в свой десятый нумер, туда, где жили товарищи, в корпус квартир для казеннокоштных студентов. Тут он бывал часто, в этом десятом нумере, здесь впервые он услышал имена Шеллинга, Окэна и Гегеля, тут велись бешеные споры о бруссэизме, читали Пушкина и Рылеева, здесь испитой Чистов читал ему Овидия, и, как ни скучно ему было, он должен был непременно слушать, иначе его все запрезирали бы. И он слушал, думая о своем: Овидий не очень трогал его.
Здесь, в этом десятом нумере, постигли его первые разочарования. Не сразу он сознался себе в том, что говорильня в десятом начинает раздражать его. Никто тут не учился толком, но говорили и спорили сутками напролет, в спорах с непостижимой легкостью порхали с предмета на предмет, и часто к концу никто не понимал, из-за чего же разгорелись крики. Как нравились, как пленяли его эти споры на первом курсе и как быстро он охладел к ним, перестал принимать в них участие, сидел и молчал, удивляясь однообразию мыслей и скудости ораторских приемов, которые сводились к одному: кто кого перекричит.
Все тут было вместе: и щекочущие разговоры о тайных масонских обществах, и рассказы о том, как хирурги давеча разбили заведение с женщинами на Трубе, и стихи, которые читались со значением, и Биша, и Мочалов, и бог, и религия – и все без толку, лишь бы было к чему прицепиться, чтобы покричать, поспорить, назвать друг друга в споре олухом, а главное, чтобы погромче.
С каждым месяцем замечал он в тех, кого на первом курсе так чтил, пустоту и незаметную поначалу ничтожность знаний. Как известно, для крикливых споров не надо много знать, – достаточно иметь самое общее понятие о предмете. Общее понятие было, и, боже мой, как умели они переливать это общее понятие из пустого в порожнее.
Но иных друзей у него не было, и хоть этих тоже не мог он назвать своими друзьями, все-таки заходил к ним, когда делалось вдруг скучно, – сидел час, много два, и уходил обычно с тоскою. И удивлялся, как могло это нравиться ему, как мог он всерьез слушать этот вздор. Однажды, слушая споры в десятом нумере, ему вдруг подумалось, что слишком много говорят в России и что никто дела не делает, а надобно делать хоть немного, но беда – делать некогда: все время на разговоры уходит.
«Слишком много говорят в России», – он нашел эту фразу справедливой не только по отношению к десятому нумеру. Везде много говорили, а мало знали и еще меньше делали. «Много, много говорят в России», – укоризненно думал он и давал себе слово не болтать лишнего, а лучше тратить время свое с пользой на книги или на другие толковые занятия.
Но более всего отвратительны ему были студенческие попойки и особые нетрезвые споры, где всяк кричит свое, где никто никого не слушает, где ничье мнение не берется всерьез и все-таки спорят, хоть они, в общем, и не люди уже, а только лишь существа, тем похожие на людей, что обладают даром речи, правда бессмысленной, но все же речи.
Студенческие попойки и нетрезвые, шумные споры пьяных людей о некоем всеобщем человеческом счастии, песни со слезами, проклятья, ругательства и слюнявые поцелуи, вместе со штурмами заведений на Трубе, скверные болезни и пустая философия мало знающих, но наслышанных людей – все вместе с внезапной силой бесконечно надоело ему и на много лет вперед настораживало к людям, любящим задушевно говорить за вином или водкою.
Уже на втором курсе он перегнал их всех в знаниях, они остались позади, им было некогда, они спорили и кричали, он читал в своем мезонине с жадною страстью книгу за книгой, подсыхал, желтел, палимый неразрешимыми вопросами, неразгаданными тайнами бытия; матушка, дядя и сестры охали над ним, он мало ел, мало спал, улыбка у него сделалась саркастическая, говорил он загадочно, с латынью, старался находить афоризмы, записывая их в многочисленные тетрадки, искал высшую мудрость, начало начал, смысл жизни, и ничего не находил, – то, что казалось значительным и серьезным сегодня, назавтра теряло всякий смысл.